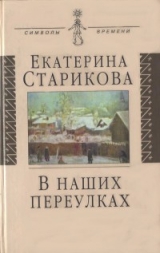
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Так было положено начало более чем сорокалетнему существованию семьи Стариковых по адресу Малый Каковинский переулок, дом № 6, кв. 3. В этой квартире родились (т. е. туда были привезены из родильных домов) все трое детей и двое младших внуков нашего отца: в 1924 году – дочь Екатерина, т. е. я, в 1927 году – сын Алексей, в 1930 году – дочь Елена, в 1954 году – внук Николай и в 1964 – внук Михаил (в самые последние дни существования там стариковского поселения). Первым из нас покинул этот дом наш отец – это случилось в 1937 году, затем рассталась с ним я – в 1948 году, третьим мой брат Алеша – в 1949 году, а в 1964 году – все остальные, т. е. мама с нашей сестрой Лёлей, ее мужем и двумя сыновьями.
Женитьбе отца, случившейся в 1923 году, предшествовал и способствовал новый поворот в его жизни и новое увлечение, сменившее политику, – театр. Страсть к театру, по-моему, в те годы почти соперничала по распространенности с политическими страстями. Во всяком случае моих родителей из столь разных социальных и культурных слоев русского общества именно она свела и объединила. Так что мы – «дети Стариковы» – в полном смысле слова – порождение революционных лет, не только столкнувших, но и сливших два противоположных русла русской жизни своим прихотливым и мощным течением.
Я не хотела касаться в этих беглых записях, призванных закрепить на бумаге «для семейного архива» лишь ускользавшие из памяти вехи жизни моего отца, ничего постороннего и отвлекающего. Но можно ли понять эту скромную и тихую жизнь, если вовсе исключить из нее личность нашей матери? С другой стороны, рассказывать о ней трудно, и задача эта для меня обречена на неудачу. И все-таки я вынуждена хотя бы сделать попытку, потому что мама – может быть, самое яркое событие той тихой, незаметной жизни, которой я не хочу дать вовсе бесследно уйти в забвение. Может быть, жизнь отца и расположилась между двумя этими главными ее драмами – революцией и мамой? Две неудавшиеся судьбы, отвергнувшие его. Впрочем, что значит неудавшиеся? Они последовательно совершились во времени, они сначала поднимали человека, потом ранили, потом извергали из себя, оставляя одного на пустынном берегу жизни. Они были. А итог? Ведь он всегда один.
Когда наша мать вышла замуж за отца, ей не исполнилось и 22 лет. Позади у нее осталось детство в скромном родовом помещичьем доме, ранняя смерть матери, злая мачеха («настоящая» мачеха, хотя и родная тетка), институт благородных девиц – это до 1917 года. И сразу после, в 16 лет, вслед за уроками Закона Божия и прогулок парами по Девичьему Полю под присмотром классных дам, – полная воля, данная революцией и сиротством одновременно. Четверо подростков в пустой квартире на Пречистенке, без взрослых, без хлеба, без какой-либо заботы, начатый и тут же брошенный университет, работа в Малом театре, кружащие голову знакомства с его великими актерами – Ермоловой, Федотовой, Южиным, Провом Садовским, Пашенной, в результате – отчаянное увлечение театром и поступление в театральную студию.
Таковы факты. Но наша мама – это не одни факты, она не может быть объяснена фактами. Это еще и неуемный темперамент, и бездна разнообразных и разбросанных способностей – от иностранных языков до гимнастики, от увлечения философией до пения цыганских романсов и русских частушек; и причудливая «дворянская» смесь самых возвышенных представлений и убеждений с безудержным, неуемным стремлением к удовлетворению сиюминутных прихотей. Причем в этой жажде сиюминутного и самые высокие гуманные потребности могут приобретать столь же катастрофический, столь же роковой характер, как и более эгоистические страсти.
Да, за мамой стояло другое прошлое, совсем другая культура, чем за отцом. Завораживающую силу ее семейных преданий я испытала на себе вполне и, может быть, именно в противовес ей решила записать более бедную и скромную родословную – во имя справедливости и, вероятно, вопреки эффектам артистизма. Потому что ведь там, в этом материнском прошлом, где-то в неописуемой его дали было какое-то родство или свойство с просветителем XVIII века Новиковым; там было участие в русском походе 1813 года в Париж одного юного поручика; там была грандиозная страсть к псовой охоте; там была причастность к польскому восстанию 1863 года и в виде наказания-спасения кругосветное путешествие молодого корабельного врача; там были парижские салоны, знакомство с Тургеневым и Репиным, нежная дружба одной из прапрабабок с художником Боголюбовым; там были разрозненные и заложенные поместья, заграничное образование, упражнение в художественных переводах, врачи и агрономы высокого класса; там было русское барство и русская интеллигентность в той удивительной, неповторимой смеси, которая сама по себе предвещала неминуемую революцию. И во всяком случае эта смесь дала один плод бесспорной ценности – удивительных женщин вымирающей на наших глазах породы. Необыкновенность русских интеллигентных женщин особенно проявилась после революции, именно тогда, когда они были поставлены в обыкновенно-страшные или обыкновенно-трудные условия, как и весь народ. Тогда они и слились со всем, что было вокруг, и пронесли себя, таких особенных, через все, сохранив в себе крупицы и блестки старой русской культуры, ее гуманность и широту в первую очередь. Это сделали не мужчины, а женщины. Они были гибче и выносливей.
Будучи подростком, я смутно начала догадываться, что замужество моей матери не прошло совсем гладко, вызвав в обширной семье Краевских недовольство таким мезальянсом. Этот интеллигентский и дворянский клан, при всем своем профессиональном агрономическо-врачебном демократизме, был отнюдь не без предрассудков. Шел 1923 год, шести лет не прошло с начала революции, старые представления и вкусы не были изжиты. К тому же в положении моего отца не было ничего завидного и импонирующего ни с точки зрения бывшей социальной иерархии, ни с точки зрения новой.
Уже много позже окончания этих записок я узнала от своей старой матери о двухлетнем полном разрыве нашего отца с семьей Краевских. Наверное, году этак в двадцать седьмом в Серебряном переулке был парадный семейный обед и дедушка Михаил Николаевич предложил выпить в память тех, кто погиб в Черном море и на его берегах (имея в виду, конечно, двадцатый год). А папа вызывающе ответил: «Тогда выпьем и в память лейтенанта Шмидта». Вспыхнул спор, а затем и ссора. Папа вышел из-за стола, за ним поднялась и мама. Они покинули квартиру брата дедушки, где произошла ссора, и наш отец не бывал в ней долгое время. Но впоследствии в Хлебном он бывал и с дедушкой Михаилом Николаевичем находился потом в самых добрых отношениях. В то же время вспоминаются мне слова нашей тетки, маминой сестры Елены Михайловны, сказанные ею почти перед самой смертью, когда папы давно уже не было на свете: «Мы все так виноваты перед вашим отцом…» Что она имела в виду, не знаю. Тревожить ее болезненными вопросами было уже поздно.
Однако ко времени моих собственных даже самых ранних воспоминаний отношения нашего отца с многочисленными Краевскими сохранялись вполне лояльными. Победило ли папино мягкое обаяние или мамина воля, но сопротивление в целом было сломлено, папу допустили в родственный круг. Хотя через много-много лет я вдруг иногда чувствовала условность такого допущения. Ну, да это совсем другие времена.
С самых первых дней жизни, сколько себя помню, я очень отчетливо ощущала в себе два истока, два начала своего существования. Они причудливо переплетались, то споря, то сближаясь, но вполне гармонично никогда не сливались. Хотя надо сказать, что именно мама, оставаясь верной духу Краевских, во многом подчинив и папу своим вкусам и представлениям, со свойственным ей артистизмом приняла в себя и научила меня любить и тот мир, который породил отца. Вернее, не любить, это родилось само, а сознательно оценить крестьянскую, отцовскую, ландехскую эстетику – в частности, еще и тем, что всегда сравнивала владимирские обычаи, нравы, говор, песни со смоленскими, родными ей, и отдавала должное более высокому уровню культуры суровой отцовской родины, где не радовала глаз прелесть смоленских ландшафтов, садов, помещичьих усадеб, но где было больше грамотных, где чище одевались, где крепче и красивей строились крестьянские дома, где крестьянину шире открывался мир, хотя общепринятые мерки благосостояния, вероятно, указали бы на меньшую степень его богатства и обеспеченности.
Возвращаясь к 20-м годам и Краевским, отмечу здесь только, что немалую роль в сближении отца с семьей мамы сыграло, видимо, мое рождение. Первый ребенок в большой семье, первый представитель нового поколения среди нестарых или совсем еще молодых людей. Меня обожали и баловали. Но это другая тема, другая история. Я снова забежала вперед…
4
Разные облики моего отца так долго и так просто уживались в моем восприятии и моей памяти, нисколько между собой не споря и никогда друг другу не противореча, что вопрос о способах перехода одного в другой раньше никогда и не возникал передо мною: и тот курносый крестьянский мальчик с масляной головой, и тот молодой приказчик в отутюженном сюртуке, и этот пышноволосый и большелобый сумрачный романтик, что сейчас постоянно глядит с моего туалета из старинной деревянной рамки с дворянской короной наверху – все они были моим скромным, молчаливым отцом.
Но как, однако, усмехнулась папина вторая жена Анна Ивановна, заметив у меня впервые эту знакомую фотографию в незнакомой ей рамке: «Вот папа бы смеялся, увидев себя в таком аристократическом обрамлении! А впрочем, может это и справедливо?..» И за насмешкой над моей причудой мне послышался в этом полувопросе даже легкий оттенок злорадства и намек на старые семейные обиды. Но разве не идет к его голове эта красивая рамка?
Отец занял чужое место в дедовской «краевской» рамке, но рамка была только одна и предстояло решить, кто же из них, ушедших, должен остаться перед моими глазами. И тут уже не требовалось долго раздумывать: вот он, самый любимый облик моего отца! Достаточно далекий, чтобы требовалось напоминание, и достаточно знакомый, чтобы действительно напоминать мою собственную жизнь.
Облик несколько актерский? Да, пожалуй. Еще актерский, еще подчеркнуто элегантный, и лицо как-то особенно, по-артистически, до матовости выбрито, и фактура дорогого хорошего вкуса пиджака отчетливо видна… Если бы не эта неподдельная, не актерская грусть, что чудится мне иной раз в темноте глаз над впалыми щеками молодого здорового лица, то еще можно было бы предполагать сохранившуюся веру в удачу, в успех. Вовсе ли оставил отец к этому времени мечты о театре? Судя по портрету – вряд ли. Снимались мы с ним в декабре 1928 года – красивый сумрачный мужчина и грубоватый полный ребенок с тем же сумрачным выражением глаз. Дата известна почти точно: отцу здесь сорок лет, но больше тридцати никак не дашь. Моложавость он сохранит до смерти.
Взгляд на эту голову в деревянной рамке вызывает в моей памяти красивое звучание низкого и мягкого отцовского голоса и красивые стихотворные строки, выученные мной не по книгам, а задолго до умения читать, на слух:
Никогда не забуду,
Он был или не был,
Этот вечер? Пожаром зари
Сожжено и раздвинуто
Бледное небо, и на желтой заре
Фонари…
Для меня эти строки вовсе не избитый хрестоматийный пример поэзии начала века, для меня это – детство и папа. Я еще не понимала нисколько смысла посланной с бокалом невиданной черной розы, но отцовское упоение музыкой этих строк входило в мое существо через его голос раньше всякого смысла, а через музыку – красота и грусть, упоение неправедностью.
В нашем доме тогда декламировалось много стихов: Блок, Северянин, Иннокентий Анненский, Ахматова… Стихи заучивались не по толстым томам собраний сочинений, а по серым грубым страницам «чтецов-декламаторов», по тоненьким сборничкам, купленным как новинка, а то и по толстым клеенчатым тетрадям, куда они были предварительно переписаны четким «ландехским» почерком вместе с ролями.
Дом был театральный, его хозяева собирались стать актерами.
Я точно не знаю, когда и как проснулась страсть к театру у моего отца, слышала только, что увлечение началось с центросоюзовской самодеятельности, постепенно захватив его целиком. Был ли у него подлинный талант? Тоже не знаю. В более поздние годы, когда в его натуре возобладали природная застенчивость и скрытность и благоприобретенные скованность и молчаливость, трудно было представить его актером. Ничего артистического ни в характере, ни в поведении, в отличие от мамы, у него не было. Или не осталось? Внешние же данные безусловно были хороши: строен, красивые пышные волосы, никем из нас не унаследованные, приятный и хорошего тембра голос, врожденная элегантность, также не унаследованная его дочерьми. Но самое обаятельное – это его открытая белозубая улыбка, внезапно освещавшая лицо и вдруг на минуту придававшая его строгому великорусскому облику что-то азиатское, татарское. А был ли талант? Кто ж его знает? Большой – навряд ли, а какой-то – наверное. Во всяком случае влечение к сцене одновременно сделало моих будущих родителей, моего тридцатитрехлетнего отца и двадцатидвухлетнюю мать, студентами театрального училища.
Питал ли все еще отец и в 1928 году надежду, что он будет актером? Вряд ли. Но вкусы и интересы сохранялись еще прежними. И уж очень профессионально читались в нашем доме стихи, чтобы поверить в полную разлуку с мечтой об актерстве.
Я пьян давно,
Мне все равно.
Вон счастие мое на тройке
В морозный дым унесено… —
гудел, как труба, папин голос на самых низких нотах, и одно слово, как волна, переливалось в другое.
………………
………………
Ложусь на мох
Теряю пять гребенок…
И в мужественном голосе отца слышалась нота жеманности избалованной красивой женщины, хотя было не совсем понятно, откуда же сразу пять гребенок: женщины вокруг были коротко стрижены, высокие прически донашивали только старухи, а эта, терявшая пять гребенок, была явно молода.
Я боюсь того кота,
Для чего он вышит?
И сразу представляла себе вечернее одиночество вдвоем с нянькой, когда родители уходили в театр, детские ночные страхи и чуть-чуть боялась и этого стихотворения, и искусного шепота отца, каким он произносил последние строчки.
Как слова Волга и Енисей, Томск и Иркутск вызывают в моей душе ощущение личной причастности через юность отца к народной России эпохи русских революций, так популярные стихи первых десятилетий нашего века – и патетические, и изысканно интимные – связаны для меня прежде всего с обликом отца моего раннего детства. Не стройные громады Петербурга, не белые его ночи стоят за теми стихами, а наша узкая арбатская комната, первая комната в квартире № 3, где я услышала их впервые, вероятно, даже раньше, чем стихи Пушкина. Ведь они-то читались вовсе не для меня. И читались они особенно: серьезно и иронично одновременно. Они явно очень нравились читавшему их, но он чуточку стеснялся своего вкуса, и легкая ирония слегка смягчала их все-таки уже излишнюю по временам красивость. Стихи предреволюционные читались сквозь призму опыта революционных лет. Клеенка на канцелярском столе, крашеная железная кровать, следы недавней времянки на паркете, масло и ветчина на мраморном подоконнике, а голос выводит:
Ты пришла в шоколадной шаплетке,
Подняла голубую вуаль,
И, смотря на паркетные клетки,
Положила боа на рояль.
Нет ни боа, ни рояля, да и не было никогда, да и не нужны они ему вовсе. И в ту ушедшую, небывшую твоею, но все-таки волнующую изысканность, вносится невольно, непроизвольно, оттенком голоса снисходительность и озорство иного опыта. Но как я-то это ощущала? А Бог его знает! Как дети все ощущают?
Но остается другой вопрос: как все-таки тот крестьянский мальчик, тот вычурный приказчик превратился в человека, который с упоением и иронией, и с профессиональной актерской дикцией читает Блока и Северянина, Ахматову и Анненского? Никогда я над этим всерьез не задумывалась, до самого последнего дня, когда стала писать эти записки. Мелькнет недоумение, и тут же – общий стереотипный ответ: время! Время стихов и театра, время игры и декламации, время подлинных трагических страстей и изысканной легкомысленной их стилизации на сцене, на холсте, на бумаге. Но если ты задался целью написать нечто хотя бы отдаленно похожее на биографию, общие ответы уже не могут тебя удовлетворить. Тут в ход вступает последовательность изложения конкретных событий и поступков, в которые должно было воплотиться время, чтобы из одного стать другим: из времени социал-демократических кружков и сибирских ссылок во время Камерного театра, Пролеткульта, «Стойла Пегаса» и прочих уже послереволюционных, недолгих и последних русских изысков, зацепивших и моих родителей из таких разных водоемов жизни своей лакомой приманкой.
И тут в поисках ответов на конкретные недоумения наконец-то я решилась, – смущаясь, стесняясь, сомневаясь, – обратиться за помощью к маме, единственному непосредственному свидетелю ранних московских лет отца: не самых первых, но прямо следующих за ними. Я задала маме ряд вопросов и получила ответ – письменный. Мы же никогда не умели говорить «на личные темы»: на политические, исторические, литературные – пожалуйста, сколько угодно, но только ничего интимного, упаси Боже!
Вот ее «письменный ответ» дословно. Пусть сохраняются здесь эти свидетельства так, как запечатлелись они рукой моей матери в июле 1975 года:
«Дорогая Катюша, выполняю твою просьбу осветить некоторые неизвестные тебе периоды биографии папы.
Мы встретились с ним осенью 1922 г. Он в это время работал в том же Востсибкрайсоюзе, о котором ты уже вспоминала. Только я не помню точно, как он (или оно?) тогда назывался. За эти годы это учреждение называлось по-разному: Сибирское представительство Центросоюза, Сибкрайсоюз, Востсибкрайсоюз и т. д. – и то было более самостоятельно, то входило в качестве отдела в Центросоюз. А папа все работал там же. Когда он приехал из Сибири, он начал заниматься на Пречистенских рабочих курсах, которые находились недалеко от Храма Христа Спасителя в одном из переулков. Курсы эти начали свое существование задолго до революции и были просветительным учреждением такого же типа, как университет Шанявского, т. е. ставили своей задачей дать возможность учиться людям, которые не хотели или не могли по каким-то причинам учиться в учебных заведениях, дававших дипломы и требовавших определенной официальной подготовки. Преподавали и в том, и в другом месте самые прогрессивные и образованные работники высших учебных заведений. Оба эти учреждения были ликвидированы в начале двадцатых годов. Структура Пречистенских курсов мне неизвестна. Знаю, что папа занимался там на историко-литературном отделении. Он был вполне подготовлен к этому своими предыдущими занятиями еще в Сибири в разных просветительных кружках, которых было так много перед революцией. Занимался он в Сибири политической экономией, историей и литературой. А в Москве литературой и историей искусства. Он очень дружил с некой Евгенией Моисеевной Град, которая была библиотекарем в Центросоюзе и тоже занималась на этих курсах. Это была некрасивая (я видела ее карточку) девушка примерно папиного возраста, весьма интеллигентная и страстная просветительница. Думаю (по некоторым признакам), что она питала к папе какие-то чувства, на которые он не отвечал. Перестал он с ней встречаться вне библиотеки и курсов гораздо раньше, чем мы встретились.
В Центросоюзе был клуб тоже дореволюционного происхождения (потребительская кооперация существовала в России и до революции и была даже объединена в Союз потребительских обществ), имевший славные просветительские традиции в то время, когда клубное дело в других областях только начиналось. В этом клубе драматический кружок вели Николай Мих. Церетели и Конст. Георг. Сварожич. Папа стал заниматься в этом кружке и до осени 1922 г. продолжал ходить на курсы. В клубе ставили спектакли, которые показывали по несколько раз на своей сцене и возили в другие клубы. Когда открылась частная студия Строганской, в которой стали преподавать Церетели и Сварожич, часть Центросоюзной любительской труппы поступила в эту студию, занятия в клубе временно прекратились (потом там появились другие руководители), но некоторые спектакли повторялись на клубных сценах. Таким образом, я увидела два их спектакля „Не все коту масленица“ Островского и „Огни Ивановой ночи“ Зудермана. Ставили они и „Потонувший колокол“. Но я его не видела. А когда стала вспоминать обо всем этом периоде папиной жизни, то вспомнила даже, кто кого играл в этой пьесе. Папа играл Генриха, Муся Куликова – Магду, жену Генриха, Валя Колгушкина – Раутенделейн, Анна Трубникова Виттиху. Папа пользовался огромным успехом в этих спектаклях. Георга в „Огнях Ивановой ночи“ он играл по-настоящему хорошо и был очень обаятелен. Может быть, ты помнишь у нас была газета, центросоюзная многотиражка, в которой была воспроизведена одна сцена из „Огней“. Папа там был похож на свою фотографию, которая стоит у тебя, а Анна Трубникова, игравшая героиню, была еще достаточно молода и очень красива. Когда уже все мы учились в студии Строганской (потом она была включена в качестве „отдельного класса драмы“ в театральный техникум им. Луначарского, который мы и кончили в 1925 г.), мы играли, главным образом, в отрывках из разных пьес, но если ставился целый спектакль, то папе непременно давалась ведущая роль. Так, в 1923 году, когда Камерный театр уезжал за границу, Мар. Ал. Крестовская начала репетировать с нами пьесу „Гибель „Надежды““, которая в то время шла в очень многих театрах. Автора я забыла, как забыла и содержание пьесы. Папе была дана роль героя, рыбака, хотя Мар. Александровна пробовала на нее многих. Постановка эта не была доведена до конца, т. к. вернули театр и Ник. Мих. решил ставить другой спектакль. Он выбрал пьесу С. Бенелли „Ужин шуток“. Ты, конечно, не знаешь, что это за пьеса. Сам Бенелли итальянский писатель первой половины 20 века, очень близкий по всему к Г.Д’Аннунцио. Когда пьесу ставили, у нас на I курсе уже были совсем другого склада студенты, которые даже подняли было шум, что выбор пьесы очень неудачен, даже просто недопустим. Но Н.М., как всегда, сумел убедить: пьесу ставил старший курс; когда будете вы ставить, выберете то, что вам подходит. А дело в том, что Бенелли был итальянский фашист, в 1919 г. участвовал в скандальной истории, когда итальянцы под руководством Д’Аннунцио захватили г. Фиуме, принадлежащий Югославии. Пьеса эта была написана до войны 1914 г. Я ее совершенно не помню, хотя бывала на репетициях и видела спектакль. (Она ставилась в 1924 г.). Что-то из флорентийской жизни эпохи Возрождения с интригами и убийствами. Папа играл роль главного героя – Нери Кьярамантези. Помню хорошо только одну сцену, в конце, когда он выходил с окровавленным плащом и на глазах у публики сходил с ума. Всем нравилось. Не знаю, что бы я сказала теперь. Находили, что он похож на знаменитого немецкого актера Сандро Моисси, который как раз в то время приезжал в Москву и играл Гамлета. Я его не видела. Папа ходил его смотреть.
Спектакль студии был показан на сцене Вахтанговского театра (тогда еще в маленьком помещении). Декораций не было, спектакль шел „в сукнах“, костюмов не было. Играли мужчины и женщины в серых туальденоровых мужских рубашках, с яркими галстуками, в темно-синих брюках или юбках. Как получили вахтанговский зал – не знаю. Думаю, что через вдову Вахтангова, которая играла какую-то роль в администрации техникума и очень благоволила к „отдельному классу драмы“ и его руководителям.
С самых малых лет ты, конечно, помнишь песенку: „Мы ньям-ньям эфиопы и очень любим мясо…“ Это слова из скетча, сочиненного Ганшиным, который тоже шел в этот вечер на сцене Вахтанговского театра после „Ужина шуток“. Играли в нем Ганшин, Л. Виданова и еще одна совсем не знакомая тебе девица. Публика, в основном, состояла из родственников и знакомых, которым продавали билеты. В числе зрителей были Мусенька и тетя Юля [4]
. Они нашли, что все было прекрасно, хотя Мусенька была довольно строгий ценитель.
Значительно позже (м.б., ты даже помнишь этот случай), уже в большой комнате мы читали „Горе от ума“ почти все наизусть. Мы – это дедушка Мих. Ник. (Фамусов), папа (все остальные мужские роли) и я (женские все). Вы слушали. (Кажется, это было в начале лета 1931 г.). Когда кончили читать, дедушка сказал о папе: „Да он настоящий артист“. И лучше всего он прочел роль Чацкого.
Пишу все это так подробно, чтобы ответить тебе и себе на твой вопрос, были ли у папы настоящие способности. Думаю, что были. Но вот он кончил техникум и из всех мужчин один не сделал даже попытки куда-то устроиться, потому что долг перед семьей был для него гораздо важнее всяких личных желаний и стремлений» [5]
.
Итак, теперь я знаю об артистической поре в жизни моего отца все факты, которые еще можно было извлечь из прошлого. Но избавляет ли это меня от собственных смутных воспоминаний о той поре? И, с другой стороны, в состоянии ли прибавить что-нибудь к фактам эти расплывчатые обрывки туманных видений раннего детства? Однако, если существует неизвестно чем вызванное искушение их уловить, задержать, запечатлеть, вероятно, сам вопрос излишен: я уже встала на этот путь, преодолевая постоянно сомнение в его какой-либо необходимости. Но, может быть, непреодолимое желание – та же необходимость?
Я еще не видела на одного театрального спектакля на сцене, но уже знала сюжеты некоторых пьес, шедших на сцене Камерного и Малого театров, и знала имена их главных актеров: Алису Коонен наравне с Ермоловой и Федотовой, Церетели рядом с Садовским и Остужевым; о них говорили у нас дома постоянно. Через разговоры взрослых, через атмосферу дома я чувствовала власть театра над жизнью моих родителей, его дыхание в нашей жизни – во всяком случае пока «нашим домом» была эта узенькая комната у парадной входной двери в квартиру № 3.
Одно из самых первых, смутных, еле уловимых воспоминаний моего – не детства даже, а младенчества, физиологически мучительное, как и почти все предвоспоминания человека: яркий, не защищенный ничем свет электрической лампы под высоким потолком, завешенная газетами сетка моей детской кровати с тщетной попыткой оградить меня от этого беспощадного света, мелькающие силуэты множества шумных, может быть, танцующих молодых людей, время от времени склоняющееся надо мной очень молодое лицо еще стриженой моей матери и щемящее ощущение моей ненужности в этой непонятной беспокойной сутолоке. Может быть, такое и было только раз, потому и запомнилось, но осталось навсегда – первое неуютное ощущение своего «я» в мире.
Так же мучительно трудно и скорбно другое предраннее туманное видение полутемного пустого и бесконечно-длинного вечера без родителей на руках у няни Моти. Мотя пришла к нам работать, только приехав в Москву из рязанской деревни, когда мне было чуть ли не три недели, а ей 18 лет. Она была «приходящая» прислуга и жила в Серебряном переулке, в том же доме, где Краевские, у своей старшей сестры «рыжей Саши». Сестры Воробьевы – это особая романтическая и драматическая история, а вернее даже несколько историй. Свою крошечную, курносую, корректную Мотю – короткая стрижка, английская блузка, французские каблуки и бирюзовые незабудки в малюсеньких ушах – я очень любила в детстве, она и в Ландех с нами ездила, и потом нас не забывала. Но в том предраннем детстве, в том незапамятном далеко, я, несмотря на Мотю, вечернее отсутствие родителей – а это почти наверняка был театр – воспринимала трагически. Даже тогда, когда стала понимать, куда и зачем они уходят.
Вот папа, свежевыбритый, в белой рубашке в полоску, внимательно завязывает перед зеркалом галстук. Мама ослепительна в своем очень коротком и блестящем черном платье, пышная юбка которого покрыта черным же прозрачным шифоном, спадающим длинными неровными фестонами: у талии к моему восторгу пламенеет громадная бархатная роза. Я верчусь между мамой и папой, шепча про себя слова из постоянно распеваемых мамой куплетов:
…Вот подвязкой алой стянут
Белый шелковый чулок…
Чулки у мамы не белые, а «телесные», как тогда говорили, и не шелковые, а «фильдеперсовые», как тогда носили. Но алая роза у маминой талии подсказывает знакомые слова из «Жирофле и Жирофля» – модного спектакля. Я горжусь и любуюсь молодым оживлением родителей. Но в душе уже неудержимо нарастает скорбная тревога близящейся разлуки, конца, ужасов. Это – как надвигающаяся катастрофа, когда просить, молить, жаловаться – неприлично, недопустимо и бесполезно.
Но театр – не только горе, он – и радость, и поэзия.
Вот родители мои после ужина одетые растянулись рядом на своей железной кровати, на солдатском сером одеяле, а я усаживаюсь верхом на животе отца. В руках у меня концы веревочки, привязанной к прутьям спинки кровати, – веревочки представляют вожжи. Папа и мама изображают Пер Гюнта и Осе. Пер Гюнт уговаривает умирающую мать сыграть с ним, как когда-то в детстве, в дорогу и лихого коня:
И в Сориа-Мориа, замок чудесный,
Лежащий на запад от кроткой луны,
К востоку от солнца, мы мчались с тобой…
Все понятно мне в этой увлекательной игре, все есть здесь, что нужно для игры: и певучий ритм стихов, и воображаемое движение воображаемых коней, и ненастоящие мамочка и сыночек, который жалеет свою мамочку, и веселые, согласные друг с другом, никуда не уходящие от меня мои настоящие папа и мама, я с ними, я участвую в прекрасной общей игре, и даже догадка о жутковатой тайне, скрывающейся в этой игре, не портит радости, а, напротив, придает ей значительность, выводит ее куда-то далеко за пределы этой комнаты, к какому-то лунному замку, на какую-то бесконечную дорогу и в какие-то далекие дали. И запоминаются навсегда как музыка непонятные слова: Сориа-Мориа, Пер Гюнт, Осе, Сольвейг…
И долго еще хранилась в нашем наследственном павловском секретере – вместилище почти всего имущества семьи и во всяком случае всех вещественных знаков ее тайн, – действительно, какая-то газетка с фотографией сцены из «Огней Ивановской ночи», где отец играл главную роль. На снимке невозможно было что-либо отчетливо различить, но я-то знала, что одна из этих смутных теней – папа, молодой папа, о прекрасной игре которого написано здесь же рядом, хотя я сама не могу этого прочесть.
Многие бывшие ученики театральной студии и сам Николай Михайлович Церетели с Константином Георгиевичем Сварожичем оставались еще несколько лет после того, как мои родители расстались с мечтой о театре, друзьями и гостями нашего дома.







