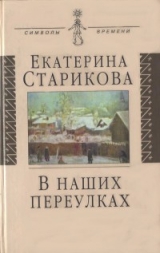
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
По роду моих занятий мне не раз приходилось встречаться с рассуждениями литературоведов о «бедном чиновнике» и «маленьком человеке», о том, как изображали его Гоголь и как Достоевский и в чем между ними разница, как затем советские литераторы, то третируя, то амнистируя, то поучая великих предшественников, вносили в этот образ свой победный оптимизм. Приходилось и мне самой кое-что подобное говорить к случаю и по поводу – чего за жизнь не приходится делать! Но всегда при этом жило во мне стыдное ощущение неправды, скрытое больное родство с образом и темой, принуждающее совсем к иным словам и ином тону. Папа! Предзимними московскими сумерками, где-нибудь на деловых улицах старой Москвы – в этих тесных каменных ущельях, когда толпы отработавших служащих устремляются по ним к своим домам, а небо – желтое, холодное – с какой-нибудь одной черной вороной на нем – так безжалостно к человеку, я до сих пор мысленно вижу среди живых людей своего отца – в его старом грубошерстном пальто с потертым барашковым воротником, с портфелем, полным бумаг для вечерней работы, спешащим с Мясницкой на Арбат – к нам, его маленьким детям. В эти грустные, «экзистенциалистские» часы мое сердце всегда сжимается болью за него. И последний раз – в таком же холодном, но мокром, стыло-блестящем осеннем Ленинграде, на крайней, идущей вдоль Фонтанки аллее Летнего сада: сердце сжалось и покатилось к ногам, когда в лице – некрасивом, смытом – случайного встречного пожилого служащего, в его скромном достоинстве и куцей одежде – я узнала родство с другим, всегда до конца красивым лицом. Папа! Не он, но вечная боль о нем.
Иногда я делаю личные поправки к избитой литературоведческой теме, размышляя, почему нет у меня – при полном понимании – высоты и холодности, чтобы предпочесть гениальный гоголевский гротеск сочувственному рыданию Достоевского. И еще мне кажется, что и они, великие печальники и плакальщики, не знали, что еще больнее и трагичнее, когда у маленького, затерявшегося в жизни человека сначала высоко маячило впереди нечто, что объединяло его с большим миром, будоражило кровь предчувствием призвания и таланта, а уж потом – Мясницкая, портфель, набитый вагон трамвая или метро (в исторической последовательности десятилетий), убогая комнатушка, заплаты на пальто – и так изо дня в день, из года в год. После всего, что прокатилось по миру – и по Ландеху, и по Волге, и по Сибири? Все сначала?
Но нет, знаю я и другое… Все не так…
Так, потому что здесь есть непреложное грубое общее: скупая отмеренность радостей жизни раз и навсегда, заранее, в обрез. Денег, жизненного пространства, дорог, еды, одежды, свободного времени – никаких излишеств, даже излишеств полной нищеты, когда все трын-трава, сегодня живем, а завтра пропадай все пропадом (так бывает лишь у отчаявшихся и у свободных, а у «маленького человека», привыкшего к ограничениям благоразумия, даже такой роскоши как самозабвенное отчаяние не бывает – не по карману).
И не так, потому что разве только этими «радостями» меряется жизнь человеческая? И разве не всем людям они отмерены той или иной мерой? И не состоит ли сама идея нравственности в ограничении (в самоограничении?) и т. д. А у него, у моего отца, все-таки были мы, его дети, и была вольная юность. То есть у него было будущее и было прошлое, а не они ли дают простор сверхличной перспективы, т. е. смысла жизни? Кто же измерит его?
А иногда я думаю совсем по-другому… Я представляю себе, как могла сложится его судьба, останови он одно из ее мгновений и круто поверни с этого мгновения в иную сторону. Что могла уготовить тогда его судьбе наша общая судьба?
Я начинаю с самого начала.
Он не уехал в девяностом году из Ландеха и остался хозяйничать в родной избе, как его дядюшки Макар Антонович и Василий Федорович. О, Господи, спаси и помилуй от этой судьбы – равно от продразверсток и от твердых заданий, и от раскулачивания и от председательства, от палочек-трудодней и от беспаспортного гражданства, от ссоры с матерью, когда рушили собор в 30-х, от ссоры с детьми, когда те уехали бы из деревни в 40-е, от одинокой больной старости в этом заброшенном, забытом Богом мире, бездорожном, гиблом краю.
Нет-нет, он уехал в девятисотом году в Астрахань, в свою Владимирскую слободу. И он, всегда такой благоразумный и сдержанный, не вступил в РСДРП, а полюбил ту богатую вдову, за которую сватали его хозяева. И стал астраханским лавочником – с 1904 по 1917 – так ведь? Но дальше? Но тут я невольно улыбаюсь. Нет, никогда не могло бы этого быть. Руки не так были устроены, природа не та.
Он вступил в партию в 1904 году и проделал весь тот путь, который он действительно проделал: Семипалатинск, Томск, Якутск, Иркутск 1918 года. И не испугался бы, не отстранился бы совестливым нравственным чувством от демагогии и террора, не восстал бы против реального лика революции, идеальной сущности которой он был предан. О, он мог бы высоко взлететь в те годы, на той сибирской волне. Его прежние сибирские товарищи, разыскивая его иногда в Москве 20-х годов, диву давались, что он не ездит по столичным улицам в черном автомобиле, а скромно ходит пешком в свою союзную кооперацию – не такой карьеры ждали они от иркутского большевика. Ну а что бы было дальше? Куда увез бы его этот черный автомобиль? С его честностью, с его мягкостью он и до 1937 года не продержался бы. Судьба, а вернее, характер, спасли его и от этого пути.
Ну, и наконец, все было так, как было. Только он не испугался безработицы, не пожалел своих деток, перебился как-нибудь и вот в 30-е годы оказался актером одного из московских театров. Он не стал бы совсем большим актером, но иногда, когда приходится мне невзначай увидеть на экране телевизора благополучное лицо какого-нибудь Царева, я думаю: а ведь мог бы и отец так вот красоваться. Разве он был бы худшим Чацким? Ничуть не худшим. И мог бы сладко есть и пить, отдыхать в санаториях, жить в хороших квартирах, коллекционировать любимые книги по искусству и… заседать в разных комиссиях и советах? И это мог бы? А мог ли бы? Вот тут-то и загвоздка. Почему же не смог тогда, в восемнадцатом году, проголосовать, как все, как большинство? Вот тут-то, в этом самом «мог» и «не мог» и лежит водораздел осуществления наших возможностей. Кажется, можешь, а не можешь. И все тут! И нет тебе ни санаториев, ни квартир, ни почета. И остаются в удел каменные ущелья московского Сити, замерзший трамвай 30-х годов и душное метро 50-х. И остается вот эта самая моя боль о нем – особенно сильная в холодные предзимние городские сумерки, когда человеку так важно знать, что за его спиной есть у него в этом неуютном мире хорошо защищенный дом. От моего отца в 30-е годы и этот дом уходил.
3
Итак, все было так, как было. Весной года великого перелома мы всего-навсего переезжаем в другую комнату той же квартиры. Этим событием прежде всего ознаменовалось для пяти-шестилетнего ребенка новая историческая эра. Переезду сопутствовали обстоятельства психологического свойства, характерные и для времени и для моих родителей – бессребреников.
Нехватка жилой площади в Москве была уже очень острой, но распределяли ее патриархально, силами домового комитета, который был еще организацией общественной. Когда умер старик Истомин, председатель этого комитета предложил отцу занять в квартире две комнаты да еще те две, что были расположены внутри квартиры и соединены между собой большой темной комнатой, где некогда спала горничная (при спальне «барыни») и до сих пор стоял большой мраморный умывальник (несмотря на ванную комнату рядом). В случае такой передвижки мы бы оказывались владельцами одной, меньшей, половины квартиры. Истомины – второй, большей, а у самого парадного входа оказывался бы «холостяк» Константин Иванович. И отец мой, с полного одобрения мамы, отказался! «Как я могу переселить старуху из ее комнаты, она привыкла к ней, у нее только что умер муж, она же хозяйка этой квартиры»? Председатель поправил: «Бывшая хозяйка! Вы делаете глупость». Но папа был тверд в своей деликатности – и в нашей квартире снова воцаряется атмосфера дружелюбной взаиморасположенности… И наша растущая семья на десятилетия оказалась в одной комнате.
Но какой комнате!
28 с половиной метров великолепного паркета, не заставленного почти ничем, – наша «мебель» не занимает и пятой его части, и мы с Алешей, обнявшись в один клубок, катаемся в бешеном восторге по этим только что вымытым звездчатым ромбам. Небывалый простор нас пьянит.
Два высоченных окна выходят на восток, весеннее утреннее солнце заливает нас светом, не встречающим на своем пути никаких препятствий (занавесок у нас здесь так никогда и не будет: слишком много мануфактуры на них нужно, нам и без этого не в чем ходить, первые занавески – военное затемнение, синие бумажные шторы). Мы с Алешей буквально прилипаем к беломраморным широким подоконникам – перед глазами не каменные стены переулка, а небо, сад; и через месяц после нашего переезда тут пышно и бело расцветут яблони, груши, каштаны, сирень; лишь далеко-далеко за садом, за дворами и низкими крышами виден такой же большой, как наш, дом в Трубниковском переулке, облицованный таким же белым кафелем, – окна этого дома нежно и печально отражают к нам в комнату закатное солнце.
28 с половиной метров лепного потолка, и вечером, когда я лягу в постель на новом месте, я впервые изучу этот сложный узор, постепенно получающий для меня постоянные, четкие, пугающие очертания.
Застекленная дверь в переднюю – еще одно новое и значительное впечатление. У дверного рубчатого стекла странное свойство: когда смотришь из темной передней в нашу новую комнату, кажется, что там внутри какой-то необычный, удивительный свет, свойственный нездешнему, радостному, но призрачному миру. Я уже знаю «Синюю птицу», и мистические ощущения мне отнюдь не чужды, но сегодня и они приобретают светлые краски.
К тому же в день переезда счастливые благодарные Истомины разрешают мне на белых стенах нашей прежней комнаты углем от самовара рисовать все, что захочется. Я рисую громадных человечков с растопыренными пальцами и гигантские домики с дымом из трубы. Взрослые увлекаются моей забавой и тоже что-то рисуют и пишут – все равно здесь будет ремонт!
В этот апрельский день 1929 года вокруг меня все любят друг друга, счастливые своим благородством, удачливостью, надеждами на перемены. Да и как же еще все молоды!
А через полгода в комнату тихого «холостяка» въезжают, оплакивая «свою» квартиру и «свою» родную Тверскую, которую только начали ломать (реконструкция Москвы!), трое Еремеевых. Он – деловитый, энергичный, молчаливый техник по строительству; она – низенькая, очень пышная, нос – пуговкой, румяная, бойкая – дочь мелкого лавочника, недавно еще сидевшая за своей кассой в родительской лавке и сейчас еще, принарядившись, щеголяющая бриллиантиками на белоснежной батистовой с прошивками блузке и черепаховыми гребнями в удивительных, громадных – ниже пояса – темно-золотых волосах – наша знаменитая Настасья Григорьевна, бессменная мамина соседка в течение тридцати трех лет, с которой делили горе и радость, дружили и ссорились, менялись комнатами и в конце концов совсем разошлись (она и сейчас, в 70-е годы, живет в нашей бывшей комнате в Каковинском переулке, страшная, разбухшая старуха, обозленная на мир всеми несчастьями жизни). Вместе с родителями приехала к нам дочь Еремеевых Зина – черненькая семнадцатилетняя красотка, уже окруженная кавалерами, мать наряжает ее в шифон и хлещет по щекам за поздние возвращения домой.
А через полгода покинули нас «младшие» Истомины, поменяв великолепие наших паркетов и потолков на более скромное отдельное жилье в соседнем особняке, и вместо них в их двух комнатах поселилось трое Папивиных. Он – лысый череп, три шпалы на воротнике защитной гимнастерки, скрипучие ремни и сапоги, черный автомобиль по вечерам у подъезда – крупный чин ГПУ; она – красивая, яркая, вульгарная баба с перманентом, только входящим в моду, занята нарядами и сплетнями; дочка на год меня моложе, учится в одном классе со Светланой Сталиной – откормленный на сытных пайках грубоватый ребенок в прекрасных трикотажных свитерах и рейтузах невиданной нами добротности; дверь папивинских комнат охраняет громадная овчарка, никогда ни на кого не лающая, но и не выпускающая никого из комнаты без разрешения хозяев.
Однажды я оказалась ее одинокой пленницей. Мне хватило ума терпеливо ждать прихода хозяев собаки, и она лежала у двери не шелохнувшись. Над дверью висел в рамке портрет незнакомого мне человека, а под портретом была подпись. Вернувшейся хозяйке комнаты я продемонстрировала свое умение читать «Ям-го-да». Возмущенная Маруся Папивина поправила меня: «Генрих Григорьевич Ягомда! Неужели не знаешь такого имени?» Я молчу, пристыженная своим невежеством. В другой раз, посетив соседей, я обратила внимание на две картины в золоченых рамах – сосны, освещенные солнцем, что-то вроде Шишкина. Раньше этих картин здесь не было. Я поспешила поделиться своим восхищением с мамой. А она ответила сердито и непонятно: «Не смотри на эти картины. Нехорошие они. Лучше бы тебе таких не видеть». Я поняла маму много лет спустя.
А еще через год из нашей квартиры уехала к «своим» и старуха Истомина, одарив нас семейством Грязновых, въехавших в ее комнату, – страшным, дремучим, скандальным семейством из четырех человек. Впрочем, скандалил только глава семьи, время от времени разражаясь истерической бранью по поводу «паразитов», не ценящих его исконно пролетарское происхождение. Старик Грязнов был мал, изглодан злостью и, вероятно, прошлой нищетой, он курил едкую махорку и запахом ее тянуло из-за закрытой двустворчатой двери в нашу комнату. Жена старика, напротив, всегда молчала и тихо появлялась в своем углу кухни, молчали и двое грязновских сыновей, молодых парней. Мать – по деревенской осторожности с чужими, сыновья – по роду занятий. Не знаю, чем они занимались, когда приехали к нам, но в середине 30-х годов, когда мы подросли, то сами и обнаружили их среди штатских «топтунов» – мы эту категорию различали безошибочно, их ведь было такое множество на Арбате – главной правительственной трассе. Старший из молодых Грязновых ходил, переменив кепку на роскошную шляпу, младший, напротив, преобразившись в уличного оборванца. Этими переодеваниями они и обратили на себя наше внимание.
Так наша квартира стала коммунальной. Ее метаморфоза еще далеко не завершилась, но она уже обладала почти полным набором представителей всех классов советского общества 30-х годов. Моя тридцатилетняя мать открыто и дерзко брала на себя здесь роль «бывшей» – дворянки, интеллигентки, «барыни», какой никогда не была. Крестьянство же здесь представляли наши теперь часто меняющиеся домашние работницы – все эти Дуси, Фроси, Насти, сбежавшие от колхоза и задешево продающие свою молодую силу – за скудный карточный обед и койку с занавеской в нашей передней. Ну и работа не трудна для них. Мама всех их быстро выдавала замуж – у нее была легкая рука.
Загудели на нашей кухне десять примусов, быстро закоптив до бархатной непроницаемости ее недавно еще белый потолок. Закрылись плотно двери комнат. Ободрался на кухне линолеум от множества ног. Перестал блестеть паркет. Но не сразу, конечно, не все сразу.
Раньше рождается Лёля, младшая сестра. Это случилось в конце января 1930 года, в лютые морозы. На те дни, что мама уехала в родильный дом, к нам вернулась Мотя. Теперь я большая, мне почти шесть лет, при привычной Моте мне совсем не страшно. Под вечер 30-го января Мотя, Алеша и я идем по пустому, гулкому от холода Арбату, останавливаясь у витрин любимых магазинов – у канцелярского, у зоологического и особенно долго у совершенно замерзшей витрины цветочного магазина между Серебряным переулком и «домом с привидениями» – здесь мы с восхищением рассматриваем густые морозные узоры, подсвеченные изнутри окна, больше ничего не видно. А через пятнадцать минут в родильном доме Грауэрмана на Большой Молчановке, где неполных три года назад появился на свет Алеша, узнаем, что у Ольги Михайловны Стариковой родилась девочка.
Появление в нашей семье маленькой, очень болезненной Лёли – горчичники, банки, пеленки, бутылочка с молоком, термометр – совпадает и с другими трудностями, которые приносит время: с карточками, очередями, с отсутствием – уже не просто денег, это и раньше было, – а масла, мяса, молока и уже не одежды, а хоть какой-нибудь «мануфактуры». Уходит из жизни родителей театр, почти совсем, уходит навсегда как страсть. Какой там театр! Сутулятся папины стройные плечи и острей обозначаются скулы. Мама бодра, деятельна, решительна, властна, резка. Я все чаще слышу, что я уже большая, мне все чаще достается за проступки и без них, я все больше замыкаюсь в свои мысли и фантазии. Из капризного, избалованного, толстенького и нарядного ребенка я превращаюсь в послушную, тихую, исполнительную, длинную, худую, плохо одетую, никогда ни на что не жалующуюся девочку. «Идеальная девочка, – говорят родственники и знакомые, – помощница в семье, благоразумная и, знаете, очень умненькая». Я слышу и делаю вид, что не слышу. О, как опасна эта «идеальность» в сочетании с замкнутостью, мечтательностью и самолюбием! О, какими болезнями она чревата! Никто не догадывается о безудержности и честолюбивости моих мечтаний. Пересказать – смешно. Но иначе как скачущей на белом коне в алом платье с развевающимися черными кудрями (!) я и вообразить себя не могла, на меньшее не соглашалась. Впрочем, скоро коня сменит необитаемый остров, где я непременно и всегда одна – как Робинзон Крузо, герой, соперничающий в моем сердце с Томасом Сойером. И все – про себя, все молчком.
Уходит из нашей жизни Ландех. Летом 1930 и 1931 годов мы живем в Серебряном Бору, а вернее, через реку от этого фешенебельного дачного поселка, где дача Истоминых, в деревне Татарово. Оттуда в 1931 году мы наблюдаем, как снимают золото с куполов Храма Христа Спасителя.
Рядом с домом, где мы живем, «на горах»[6]
идут красноармейские учения, веселые, здоровые красноармейцы каждый день проходят мимо нас с песнями, даря нам иногда отстрелянные пули. Эти маленькие серебристые пульки мы с Алешей насаживаем на деревянные стрелы как наконечники и целое лето упражняемся в стрельбе из луков. Иногда после учений мы находим в горах настоящие бумажные мишени, использованные красноармейцами, – это уже полная удача.
И еще в Татарове Москва-река с песчаным громадным пляжем, густо покрытым голыми телами. Я вижу это впервые, это довольно интересно. А в августе, перед возвращением в Москву, мы с мамой вдвоем ходим далеко, в Рублево, за грибами – там мы собираем опята; приближается осень, когда я пойду в школу.
И хотя я узнала за эти два лета много нового, я тоскую о Ландехе. Впервые в нашей жизни снятая «дача», впервые – подмосковная деревня – без прелести ландехского патриархального уклада, без уютного и горделивого ощущения своей естественной, законной, кровной причастности к жизни деревни, где все знают, что ты – внучка уважаемой Марьи Федоровны, дочка Василия Александровича, городская гостья, где с удивлением рассматривают твою коротенькую юбку в складку и бант на голове и восхищенно замечают: «Ишь, маленькая, а уже как по-московски выворачивает». И повторяют твои слова, нарочито и смешно «акая».
Здесь, в Татарове, мы безличны и никому не интересны. Эта разница ощущается болезненно остро. Но я знаю, что в Ландех ехать нельзя – там «коллективизация». Из всего, что за этим словом стоит, я понимаю, что ни у кого теперь там нет своих лошадей, а потому добраться в Ландех нам невозможно, никто не сможет приехать за нами в Вязники.
Но в январе 1931 Ландех еще раз войдет в нашу московскую жизнь ощутимо и отличительно от прежнего для нас, детей, как легенда, как миф о героическом путешествии отца на родину.
4
Бабушка Марья Федоровна писала нам регулярно, но редко, примерно раз в три-четыре месяца, а то и еще реже. Она слепла, считали – от многолетней «строчки». Папа просил ее переехать к нам в Москву. Она отвечала: «Жить без своей избы на старости лет? Нет уж!» Он просил ее приехать показаться врачам, она и этого не хотела: «Чего уж теперь. Все в Божьей воле». Но в начале зимы 1931 года пришло письмо от бабушки, что она болеет, очень плоха, хотела бы повидаться с сыном. И папа заметался.
Не так-то просто было зимой 1931 года доехать до Ландеха. Семьдесят километров от Вязников, которые мы раньше проезжали на лошадях за сутки, теперь предстояло пройти пешком. А морозы стояли в ту зиму лютые. А дорога пустынная: одна, две деревни на всем пути, а то все «бором» да замерзшими болотами. А одежды у отца – никакой подходящей: городские ботиночки с калошами и пальтишко. И вот начались сборы одежды по знакомым и родственникам и накапливание «гостинцев» из скудного карточного пайка. К счастью, Краевские, живущие в Серебряном переулке, – охотники, да еще богатые. У них не только ружья и собака, у них есть и полушубки, и валенки, и треухи. Какие-то осложнения с номерами обуви, что-то коротко, что-то мало, но все как-то улаживается и папа уезжает в неизвестность – как на Северный полюс: письма идут плохо, телеграммы тем более, как он доберется и туда и обратно, неясно. Мы ждем.
Он вернулся из Ландеха недели через две взволнованный, помолодевший, освеженный. Я помню это утро, когда мы проснулись, а он уже оказался дома. Густой зимний сумрак, льющийся через замерзшие голые окна, прохлада плохо отапливаемого высокого помещения, утренний беспорядок большой комнаты, где спят, едят, одеваются, играют трое детей и двое взрослых. И на длинном нашем столе, среди убогого стандарта и грубого ширпотреба начала 30-х годов – как чудо иной цивилизации – розовая фарфоровая чашка из Ландеха, две бабушкиных тарелки, очень старинных, сплошь разрисованных причудливым пейзажем. А на матраце, заменяющем диван, кровать и все прочее – бабушкины шали, тонкая и плотная, зимняя и летняя. Она отдавала сыну, она отсылала невестке все, что было у нее получше. Она прощалась с жизнью. Но я не поняла тогда горестного смысла подарков, а лишь радовалась знакомым, полузабытым предметам, видя в них и знак бабушкиной любви, и чудо красоты и драгоценности. Думаю, доживи эти вещи до наших дней, они и сейчас бы так воспринимались. Но наше восхищение не помешало нам разбить очень скоро и тонкую чашку на четырех ножках, и расписные тарелки; у бабушкиных шалей была своя судьба, несколько более долгая.
Поездка отца в Ландех оказалась не столь трудной, как виделось заранее, и не столь мрачной. На пустынной лесной дороге все-таки попадались ему попутчики, подвозившие его на санях. А сколько разговоров с этими «попутчиками»! Увы, я понимала только, что отцу интересно, что он взволнован, я слышала какие-то споры взрослых, видела живой интерес деда, пришедшего из Хлебного переулка послушать папины рассказы о деревне, но смысл этих рассказов не очень-то доходил до меня. Запомнился лишь отцовский восторг перед красотой зимнего дремучего бора, словно я сама видела этот блеск инея на соснах и слышала громкий скрип валеных отцовских сапог по снегу в тишине бора. «Как Мороз Красный Нос», – думала я и радовалась, что папе-то оказалось жарко и в тридцатиградусный мороз, когда он пешком, ландехской рысью отмахивал лесные версты в непривычно добротных чужих одеждах.
Но больше всего врезался в память его рассказ о первых мгновениях свидания с родным домом. Двери в Ландехе тогда не запирали. Он поднялся на крыльцо и никем не замеченный и не окликнутый вошел в избу. А войдя, увидел, что она пуста и тогда крикнул: «Кто есть тут живой?» И никто не ответил. И тут ему бросилось в глаза черное покрывало, лежащее на лавке. И сердце оборвалось: он принял это покрывало за знак смерти, похорон, траура. «Ведь знаю, что не покрывают у нас гроба черным, а в это мгновение решил, что мать умерла». Но тут сама бабушка окликнула его слабым голосом и слезла с печи. Покрывало оказалось принадлежащим монахине, которая поселилась у бабушки. Изгнанные из закрывшегося тогда Святоозерского женского монастыря монахини разбрелись по окрестным селам, их приютили, кто мог, а у бабушки была пустая изба, да и сама была она слаба, боялась жить одна. Но папе бабушка зимой 1931 года показалась не такой уж плохой, как он ожидал. Оживленная его приездом, она топила баню, пекла пироги, хотя коровы уже не держала, сзывала родственников, словом, принимала сына по всем правилам деревенского гостеприимства. За столом шли споры о колхозе. Сын агитировал мать: «Машины будут, электричество проведут». Бабушка отвечала: «Зачем мне электричество, мне и с лампой хорошо. Был бы керосин». «Не нужен будет керосин. Вот в хлев вечером пойдешь, только рукой повернешь, и на всем дворе светло». «А зачем мне в хлев ходить, когда коровы нет, а была бы, кормить нечем, да и хлев починить не могу, одна, и лесу нет». Я помню эти рассказы: папа огорчался непонятливостью бабушки, мама радовалась ее проницательности. Я чувствовала эти оттенки и, ничего не спрашивая, пыталась понять, кто из них больше прав.
Отец уехал из Ландеха в Москву успокоенным. Но его первый испуг и видение смерти в родном доме оказались пророческими: больше он мать свою не видел.
Бабушка умерла от рака желудка в августе того же 1931 года. Но узнали мы об этом только зимой! В России начала 30-х годов, в ее смятении, разорении, разобщении, в ее движении, стремительных переменах, сдвигах, все было возможно. Одуваловы дали папе телеграмму, что мать его умирает или же умерла. Телеграмма до Москвы не дошла. Увидев, что сын не откликается на смерть матери, родственники больше ему не писали.
Однажды среди зимы приехал к нам один ландехский мужик, его кормили, поили чаем, долго разговаривали, расспрашивали о колхозе, вести из деревни воспринимались с обостренным общим интересом. Я тут же вертелась возле стола. И вдруг лысый приезжий среди чинной беседы к чему-то упомянул: «А вот покойная Марья Федоровна говорила…» Я и сейчас вижу внезапно окаменевшее лицо отца…
Тогда же я сделала вид, что ничего не слышала и ничего не поняла. Я позволила родителям оставить меня в мнимом неведении. Я каким-то инстинктом чувствовала, что им так удобнее, а по какому-то другому инстинкту не хотела разговоров об этом. Ни одной слезы не проронила я о бабушке и где-то в глубине души упрекала себя за бесчувствие, ужасаясь собственной черствости. Я и до этого уже доросла!
Но вечерами, в постели, глядя в узоры лепного потолка, которые уже давно сложились в постоянный пугающий рисунок четырех круглых бабьих лиц, смотрящих на меня из каждого угла, я думала о бабушке, вспоминала ее живой, воображала мертвой (я еще не видела мертвого человека), охваченная ужасом смерти.
И много лет еще мне снился страшный сон. За той стеной, где стояла моя уже давно взрослая кровать (детская переходила младшим по очереди), вообще-то находилась ванная комната, а уже за ней – узенький коридорчик, соединявший переднюю с темной комнатой. Этот коридорчик, которым нужно было неизбежно проходить для совершения вечернего туалета, был для меня и так местом весьма неприятным, таинственным и страшноватым. Во сне же мне представлялось, что прямо за моей стеной – этот коридорчик, в нем на двух табуретках стоит жестяное корыто, как при стирке, а в корыте лежит моя бабушка. Я знаю, что она мертвая, но она улыбается и как-то странно дрыгает ногами. Вот и все – я в ужасе просыпалась при этом видении. Но ужас продолжался и наяву; во сне гроб-корыто стоял как раз в непосредственной близости и параллельно с моей кроватью, нас разделяла тонкая стена. И хотя я прекрасно знала, что за стеной – большая ванная комната, и слышала отчетливо пение водопроводных труб, все-таки ужас близости со смертью не оставлял меня и я боялась прикоснуться к стене. И как только немного подросла, почувствовала власть старшинства, самовольно поменялась с Алешей кроватями, конечно, ничего не объясняя: «Смотри, у меня же лучше». А родители целую зиму еще, вспоминая о бабушке, вполголоса иногда переговаривались: «Как ты думаешь, она догадывается?» Я и это слышала. И молчала.
В ту же зиму 1931–32 годов умерла в Серебряном переулке наша прабабушка Елизавета Семеновна Краевская, мать деда. Сама эта смерть воспринялась мною как-то абстрактно.
Это не имело отношения к моим ночным страхам. А вот когда я обнаружила, что наша рубчатая стеклянная дверь обладает не одним лишь дневным световым свойством, но и вечерним, это уже было серьезно: при приглушенном в комнате свете и освещенной передней была видна тень проходящей по передней человека, и когда звук его шагов приближался, тень удалялась, а когда звук удалялся, тень приближалась. Это вот было страшно. И снова вспоминалось, что старик Истомин умер в нашей комнате, что может опять присниться бабушка, что прабабушку сожгли в таинственном, только что построенном в Москве крематории, об устройстве которого ужасные вещи рассказывали друг другу взрослые.
Так начинает делиться моя жизнь на дневную, обыкновенную, и ночную – мучительную, полную фантазий, страхов, размышлений и наблюдений. Впрочем, иногда мечтательная ночная жизнь врывается и в день и, идя в одиночестве по нашим переулкам, я в задумчивости прохожу мимо собственного парадного.
Вскоре после известия о бабушкиной смерти из Ландеха пришел громоздкий багаж: зашитая в чистенькие, полосатые половики ширма, «киргизский» ковер и бабушкина шуба на лисьем меху – Одуваловы поделили «наследство». Телеграмма о смерти пропала, а такая посылочка – дошла! Она изменила облик нашей комнаты, придав ей «окончательный» вид, который сохранялся почти неизменным до самого конца 30-х годов, а то и до войны, хотя и в это время к нам продолжали иногда поступать никому не нужные осколки давнего дворянского обихода.
Так неведомо откуда появилась у нас громадная гравюра Бёклина в роскошной черной раме. Под картиной была надпись: «Villa am Meer». Выбор художника, как и мебели, был продиктован не вкусом обитателей комнаты, а случаем. Но рассматривать подробности таинственной картины, взобравшись, как можно выше – на стол, на секретер, на шкаф, стало одним из моих постоянных и любимых развлечений. Каких только романтических историй я ни сочиняла, глядя на загадочную женскую фигуру под вуалью, стоящую у края бьющих о берег морских волн!
Но все-таки в первую очередь бабушкина деревенская ширма и прабабушкин дворянский секретер были главными и постоянными предметами и приметами нашего дома: такой ширмы ни у кого в Москве не было! Ветхий серый шелк папа заменил ярко синим грубоватым холстом (не от декорации ли какой остался?), и отныне ландехская ширма отделила наши три детские кровати от остальной комнаты своими надежными двухметровыми панелями – так было вплоть до самого моего замужества, а, вернее даже, ухода из дома. В 30-е годы творчество ландехских столяров и старые, 900-х годов, папины подарки бабушке – из Астрахани и Семипалатинска, из Томска и Иркутска – послужили нам на славу. «Киргизский» ковер перекочевал с ландехского кованого сундука на родительскую тахту, из верха шубы («довоенное сукно»!) сшили маме пальто – последнее пальто в той нашей общей жизни, а сама лиса, увы, попала старьевщику: они еще изредка ходили по арбатским переулкам.







