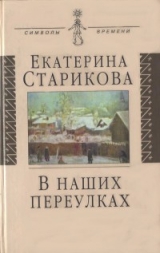
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
В эти же времена кто-то из многочисленных родственников подсунул мне для чтения книгу с ятями без обложки и имени автора – «Легенды о Христе». Библии в доме, конечно, как и в большинстве советских домов, у нас не было. И некоторые евангельские притчи я узнала не по Евангелию, а по этой растрепанной книжке, сюжеты и образы которой воспринимала, не задумываясь над художественным преломлением. Так Сельма Лагерлеф стала для меня пятым евангелистом. О том, что она была автором этой книги, я узнала уже взрослой.
Однако ни мои мистические порывы, ни религиозное просвещение теток, ни елки-протесты – ничто не помешало мне вступить в 1934 году в пионеры – как все. Прием в пионеры уже превратился в знак одобрения хорошего поведения и прилежания. И все-таки, и все-таки… Заученная в десять лет клятва хранится в памяти: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду честно и неуклонно служить делу Ленина-Сталина и социалистической революции…». Я произносила эти слова вместе с одноклассниками с той самой сцены, где скакала крыловская мартышка с хвостом из моих рейтуз, и не чувствовала пока никакого противоречия между евангельскими притчами, тайными елками и своей клятвой. То был дом, а то была школа. И в момент хоровой декламации полупонятных слов на полутемной сцене Малого зала школы № 7 и меня охватывала дрожь энтузиазма и восторг причастности к некой избранности, которые захлестывали тогда страну.
Быть «как все». Это было недостижимым идеалом. Всегда что-то мешало его достижению.
Но не все хотели подражать такому идеалу. Алеша Стеклов, один из класса, не вступил тогда и никогда не вступит в пионеры. Мы чувствовали, что он был особенный мальчик. Никогда никому не подражал, никогда не был «как все» и не хотел быть. И самое удивительное, при своей отдельности и избранности (прекрасно учился, пел, играл на рояле, занимался гимнастикой) был уважаем классом. Никто никогда его не дразнил, понимая, что насмешки его не заденут. Он каким-то образом окажется выше их. Отвержение Алешей заманчивого своей торжественностью обряда приема в пионеры оставалось для меня загадкой.
11
Лето 1934 года мы провели в деревне Сертякино, в трех километрах от станции Гривна Курской железной дороги. По воле судьбы почти через двадцать лет именно в Гривне отец моего мужа К. С. Апт, изгнанный в космополитическую кампанию и с работы, и с казенной квартиры, построит дом, где пройдут детские годы – с двух до восьми лет – нашего сына. Тогда-то, в 1953 году, мы и посетим снова Сертякино, чтобы еще и еще раз убедиться, что в России человеку не надо возвращаться в старые места после долгого перерыва, если он хочет уберечься от лишних душевных ран или, во всяком случае, от оскорбления эстетического чувства.
Как выбираются «дачи» неимущими москвичами на лето? Обычно зацепкой служит чья-то причастность к данному месту – знакомых или родственников. В Сертякине в 1934 году служил агрономом (в совхозе? в колхозе?) двоюродный брат нашего деда Михаил Александрович Краевский. Летом там же жила его жена Елена Николаевна, по прозвищу Малёля, и их семнадцатилетняя дочь Ирина, по прозвищу Пультя. В семействе Краевских почти все носили ласковые, смешные и часто не очень благозвучные прозвища. Малёля и сосватала маме дачу в Сертякине.
Мы поселились тогда в доме дьячка, в удивительно уютных для обычного дачного Подмосковья условиях. Дом стоял не на самой деревенской улице, а в глубине от нее, за церковью. Церковь была еще действующей, в соседнем от нас доме жил священник, а вот дьячка уже не было. Куда он подевался, не знаю. Были ли наши тихие и кроткие хозяева – муж, жена и их дети, мальчик и девочка, – родственниками дьячка? Тоже не знаю. Взрослые тогда не очень-то посвящали нас, детей, в конкретные обстоятельства жизни, а мы, дети, привыкли их принимать как данность: известно, что живем в доме дьячка, – и все. Перед крыльцом дьячкова дома росли столетние липы, а окна нашей единственной комнаты, в прошлом, вероятно, парадной горницы со следами некрестьянского быта (какой-то утлый диванчик перед окнами и даже два старых кресла с блекло-пестрой ситцевой обивкой), смотрели на кладбище. Вернее, кладбище было в некотором отдалении, под нашими окнами располагался небольшой цветник, за ним шел огород, потом – лужок, а уж дальше виднелись старые деревья кладбища и его кресты. И эта близость к церкви и кладбищу (мы оказывались зажатыми между ними), смутившая меня в первый прохладный и душистый вечер приезда в Сертякино 1 июня 1934 года, придала нашей трехмесячной жизни там укромность и поэтичность.
Мы жили в большой деревне с разъезженной глинистой дорогой, с цепью грязноватых прудов между двумя порядками домов, но были изолированы церковью и от громких голосов баб, полоскавших в прудах белье, и от мальчишек, ловивших в них карасей, и от мычания коров, месивших утром и вечером грязь на проезжей части улицы. Однако, изолированность дома дьячка не означала, что мы жили уединенно. Напротив, лето 1934 года было одним из самых веселых лет нашей детской довоенной жизни.
Наша юная двоюродная тетка, правоверная комсомолка, спортсменка, шахматистка, а впоследствии университетский математик, Ирина Михайловна Краевская, научила нас тогда играть в волейбол, любимую массовую игру 30-х годов. Сеткой служила веревка, натянутая на толстые прямые стволы лип. Из Актюбинска к Малёле приехала на часть лета и другая наша двоюродная тетка, четырнадцатилетняя Лери (Валерия). Да и мы из Каковинского явились в деревню не одни, а прихватили с собой двенадцатилетнего соседа по дому Юрку Поливанова. У него в это время был тяжело болен отец, и конечно, именно наша мама пришла на помощь его матери, взяв к нам Юру и удалив тем самым его от тяжелых впечатлений. Горестные обстоятельства не помешали ему влюбиться в хорошенькую Лери, и он открыто и дерзко выражал свои чувства, особенно отчаяние по случаю ее отъезда в середине лета.
И подумать только, никого не смущало, что четверо детей вместе со взрослыми спят, едят и играют в одной комнате! Положим, играли-то мы на улице, и тем больше на улице, чем теснее было дома.
В Сертякине в то время поселилась и мамина приятельница Наталия Алексеевна Маклакова со своими тремя мальчиками, но, к счастью, на другом конце деревни. Я почти откровенно не любила Наталию Алексеевну. И не только за ее постоянные заглазные (но я-то слышу!) осуждения нашей мамы, обвинения ее в бесхозяйственности: «Вечно они пьют чай, неужели нельзя сварить кашу? Зачем детям чай?» А мы любим чай! Однако меня Наталия Алексеевна отталкивала еще чем-то, чему я не знала названия.
Перед переездом в Сертякино мама прочитала нам вслух «Дубровского». И едва оглядевшись на новом месте, мы окрестили концы деревни соответствующим образом: запущенный липовый парк со следами разрушенного каменного дома при въезде в деревню мы назвали Покровским, а остатки фруктового сада, тоже со следами бывшего и там помещичьего дома, мы назвали Кистеневкой. Так и прошло это веселое лето в реальном ощущении нашей близости к национальным мифам, ибо Пушкин был безусловно главным мифотворцем нашего духовного мира.
Прелестна и уютна была тогда природа этой южной стороны Подмосковья. Какой-то тихий свет, казалось, был постоянно разлит вокруг. Сейчас задумалась: отчего так явственно видится мне этот кроткий свет. И вдруг поняла: вокруг не было хвойных лесов, среди которых прошло мое младенчество. Прямо от полустанка Гривна, – где не было даже платформы, а только серая бревенчатая билетная будка, и пассажиры спрыгивали на траву из узкоглазых вагонов, притащенных громко пыхтящим паровозом, – начиналась дубовая роща. Остатки ее мы застали в 50-е годы. Среди дубов в глубокой впадине, касаясь их корней и отражая их плотную зелень, сверкал тогда довольно длинный пруд, в котором мы и купались. Сразу за прудом начиналась тонкоствольная березовая роща, свет которой и застыл в моих воспоминаниях о том месте. Уже в этой роще, едва сойдя с тропинки, можно было собирать между переплетением корней небольшие крепенькие белые грибочки, что мы и делали походя, когда встречали и провожали взрослых от поезда и к поезду. За березовой рощей шло открытое жаркое клеверное поле, гудящее шмелями. А уж за ним издали темнел липовый парк – наше «Покровское».
Небольшие березовые рощи окружали Сертякино со всех сторон, перемежаясь хлебными полями. И когда кончился сезон сбора обильной в тот год земляники, наступило время грибов. Больше всего было подберезовиков. В каждом «своем» месте они отличались друг от друга. Так и ходили в одну рощу за самыми маленькими на толстых ножках – для маринада (маринадами-то занималась одна Малёля, мама до таких тонкостей не снисходила). В другую рощу, где рос кустарниковый подлесок и густая трава, шли за большешляпыми подберезовиками на тонких ножках. Шляпки эти можно было жарить целиком, как котлеты, заливая прямо на сковороде сметаной, если она, конечно, была. Редко бывала. Тем не менее иногда под руководством Малёли воспроизводился этот старинный помещичий изыск. Грибы в тот год были немалым подспорьем в нашем скудном рационе.
Еда все еще продавалась по карточкам. Конечно, по сравнению с тридцать третьим годом в Москве с продовольствием стало легче. То в Москве. Помню, что когда изредка к нашему восторгу мама варила нам макароны, хозяйка дома просила отдавать ей слитую с макарон воду, и дети ее тут же жадно выхлебывали ложками мутную горячую жижу, заедая ее скупым куском хлеба. Дети были примерно моими ровесниками и принимали участие во всех наших играх. Но макароны ели мы, москвичи, а они хлебали от них только отвар.
Я так подробно остановилась на уютной природе Сертякина именно потому, что через два десятилетия я не нашла там почти ничего от бывшей прелести. Дубы у станции еще стояли, но большая часть их была обнесена разномастными заборами, да и недолго оставалось им стоять. Стремительно строилось вокруг Москвы жилье после войны, и, конечно, бесполезные дубы уничтожались в первую очередь, освобождая место под огороды. Спустили пруд, и узкая Петричка еле-еле пробивалась сквозь траву по дну широкого оврага. Неузнаваемо поредели березовые рощи. Полуразрушенным и заброшенным торчал среди Сертякина остов церкви. С трудом нашла я место, где стоял дьячков дом: не было ни столетних лип, ни дома – вместо него какая-то слепленная тяп-ляп глиняная хибара. Я не осмелилась зайти внутрь, но заглянула за дом. И, о ужас, исчезло кладбище! Нет, кладбище-то даже намного расширилось, но ни одного большого дерева на нем не осталось: видно, ими в войну обогревалось Сертякино. Что же говорить о нашем «Покровском», о «Кистеневке»? Голо, пусто, безобразно. И не то чтобы Сертякино принадлежало к тем заброшенным, покинутым деревням, откуда ушли люди. Куда там! Рядом с хибарой на месте дьячкова дома – крепкие, крытые железом дома и редкие телеантенны над ними (ведь только начало 50-х годов). И то сказать: в пяти километрах – громадный Климовский завод, дальше – многотысячный Подольск. Окрестные села втягиваются в их индустриальную орбиту. Но почему же так безобразен у нас этот процесс? Чем липы-то перед крыльцом ему помешали?
Впечатления о лете тридцать четвертого года как-то противоречиво вобрали в себя два главных мотива: безудержное детское веселье на фоне прекрасной природы и ощущение близости смерти к этой цветущей земле.
Еще в июне умер отец Юры Поливанова, и он уехал на три дня в Москву на похороны. И вернулся таким же веселым и еще более хулиганистым, готовым на любое озорство. Но я запомнила одну его фразу, свидетельствующую, что детское озорство не всегда означает бездумность. «Юра, посмотри, как расцвели пионы, пока тебя не было», – это я говорю ему. «Никогда не показывай мне этих цветов! Они пахнут смертью», – отвечает мне он. И никогда больше мы не упоминали ни об его отце, ни о пионах.
А вскоре в соседнем с нами доме умерла дочь священника. Она была молода, двадцати с небольшим лет, и она долго чем-то болела. Мы, дети, бывало навещали ее. Привезет мама из Москвы что-нибудь вкусное, например, выдали по карточкам сырковую массу с изюмом (наверно, вместо масла). «Отнесите Нине. Может, хоть немного съест». И мы гурьбой входим в комнату, где под образами лежит бледная-бледная, улыбающаяся нам молодая женщина. У нее самой была двухлетняя дочь, и женщина всегда улыбалась нам. И вот Нина умерла. И взрослые нам сказали, что ее отец просит нас, детей, собрать побольше цветов для похорон. И мы весело понеслись по еще не кошенным лугам, нарывая охапками незабудки, лютики, дрему, колокольчики, погремки. Июньские цветы быстро вянут. И когда гроб в сопровождении трех священников, облаченных в сверкающие на утреннем солнце золотые ризы, понесли мимо нашего дома в церковь, пахло уже не цветами, а сеном, и вянущие головки незабудок свисали с края гроба вниз, к нам. Мы были горды, что принимаем участие в таком важном событии. И в церкви стояли тихо и чинно. Молодая женщина с таким же белым, как и при жизни, лицом была прекрасна, и сон ее казался естественным, а запах вянущих трав мирным и привычным. Это были первые для меня похороны, они не несли нам, детям, ни горя, ни страха. Смерть почти незнакомой юной женщины слилась с ярким ощущением природы и ее естественных перемен.
Прекрасно помню, что именно в Сертякине я узнала новое для себя слово «зарница». Когда давно уже поднялись и испарились душистые июньские туманы, застилавшие по вечерам луг за нашими окнами, когда не только осыпались пионы, но и была съедена вся земляника с окрестных полянок, когда в палящий июльский зной мы шумно отпраздновали Ольгин день, одарив маму букетом ромашек и васильков с вложенными в него тяжелыми ржаными колосьями и заев именинный пирог только что поспевшей малиной, вот тогда-то и наступили темные-темные «воробьиные» ночи. И я впервые в своей десятилетней жизни увидела в маленькие дьяковские окошки молчаливые тревожные всполохи. «Что это? Ведь грома не слышно». – «Зарницы», – сказала мама. И навсегда это слово слилось для меня с молчаливым лугом и тихим деревенским кладбищем.
А после жарких «воробьиных» ночей наступили, как и полагается, дожди. Сходив за грибами, промокнув и обсушившись, мы собрались всей гурьбой в нашей комнате. Приходили и хозяйские дети, и деревенские соседи – три мальчика, жившие за домом священника. Мама и старшая из нас Пультя занимали кресла, нахальный Юрка и маленькая Лёля устраивались на диванчике под окнами, остальные рассаживались прямо на полу. Пока было светло, мама читала нам Пушкина. Кажется, это была единственная книга, взятая нами в деревню. Но вот наступали сумерки. В Сертякине электричества не было. Керосин экономили, и лампу не зажигали без особой нужды. И тогда мы начинали петь. Запевала, конечно, мама, подхватывал Алёша, постепенно в хор вступали все остальные, я же – последней, чтобы не слышно было моих фальшивых нот. Это был разгар наших «русских» увлечений, и вот тут, в Сертякине, мы главным образом и упражнялись в пении народных и псевдонародных русских песен. При словах «удаль молодецкая» в песне «Эх, звончей, быстрей, бубенчики…» я вглядывалась в гаснущих сумерках в красивое и строгое лицо моего соседа-ровесника Вани Скотникова и представляла его в собольей боярской шапке. Как князь Серебряный. Это над его крышей в 1953 году я обнаружу самую мощную в деревне телеантенну и прикину: ну, конечно, в этом некогда нищем доме должны были вырасти как-никак три работника. Если выжили в войну. Вряд ли.
А где же наш папа? Среди детских, молодых и не очень еще старых лиц того лета я почти не вижу его лица. Вот длинные черные косы и антрацитовые глаза под широкими бровями Пульта; вот золотисто-розоватая, очень женственная Лери; вот синеглазый озорник Юрка на самом верху вековой липы поет на всю деревню известную в те времена уличную песню: «Полюбила она хулигана за его голубые глаза»; умилительно крошечная четырехлетняя Лёля, курносый шустрый Алёша, бодрая оживленная мама, подвижная Малёля с ее гибкой, несмотря на возраст, фигурой, густыми русыми волосами и широким простоватым лицом… А вот даже мамин дядюшка Михаил Александрович Краевский, этот брюзгливый барин с ухоженными загнутыми вверх усами. Как однажды в Сертякине он меня удивил! Облаченный в длинный брезентовый пыльник, он шел по жаркому клеверному полю рядом с обозом груженных возов, на которых вверху сидели бабы, и обменивался с ними отборнейшей матерной бранью. Я знала, конечно, что эти слова непристойны и запретны, но никак не ожидала, что услышу их от кого-нибудь из своих родственников.
Но где же наш папа?
В то лето я помню его только на разъезженной глинистой дороге, идущей от станции в деревню. Он бредет по грязи с тяжелыми сумками в руках. Это он приезжает к нам по выходным дням, он везет нам то, что выдали в Москве по карточкам. Один выходной в неделю, длинный рабочий день, медленный и редкий паровой поезд, долгий путь в переполненном вагоне – где уж тут ягоды, грибы, букеты?
Не все и не всегда хорошо и у нас в нашей деревенской жизни. Ведь и мама иногда уезжает в Москву, и тогда я остаюсь за старшую: легкомысленный Юрка не в счет. Я привычно веду наше несложное хозяйство – зажечь керосинку, почистить картошки, сварить макароны. Мне это совсем нетрудно. Но я боюсь ответственности. Например, мама приказала в день отъезда сделать на ужин винегрет и ни в коем случае не истратить на него до конца последнее постное масло: три ложки и все, остатки нужны для нашего же самостоятельного обеда на следующий день. Я лью масло в ложку осторожно, боюсь перелить хоть каплю лишнюю. Но стоящий рядом Юрка резко толкает меня под локоть, и все масло выливается в миску с винегретом. «Что ты наделал? Что мы будем есть завтра?» – с ужасом кричу я. «Не бойся, Катушка, парирует Юрка, – завтра нарву на колхозном поле огурцов, и мы прекрасно поедим». И нарвал, и что-то поели, и ничего с нами не случилось. Но страх за то, что же с нами будет, родился во мне очень рано и лишил меня во многом внутренней свободы.
Запомнилась мне одна страшная для меня ночь в Сертякине в отсутствие мамы. Заболела внезапно маленькая Лёля. Она на что-то жаловалась и плакала в темноте. Дрожащими руками я никак не могла зажечь керосиновую лампу. Наконец зажгла, разбудила семилетнего Алёшу и побежала на другой конец деревни к Малёле. Бежала и плакала. Бежала и спотыкалась в темноте. На плотине, разделявший два пруда, упала и больно ушиблась. Малёля тут же пошла со мной к нам, как-то все быстро уладила и нас успокоила – больше ничего не помню.
Как-то моя восьмидесятивосьмилетняя мать сетовала по телефону, что ее правнучке, десятилетней Маше, пришлось остаться дома с трехлетней сестрой. Не без ехидства я спросила: «А как же ты меня оставляла в Сертякине на двое суток?» – «Но это же совсем другое дело, – отвечала мама. – В доме была хозяйка, а в деревне – Малёля». – «А у Маши – телефон, и два часа не двое суток», – настаивала я. Мама оправдывалась: «Ведь тогда были карточки. Необходимо было выкупить хлеб на день вперед и на день назад». Необходимость такая, конечно, была. Но «другое» в том, что к детям мы относимся иначе, чем к внукам. В храбрости матерей сказывается родительский инстинкт подготовки потомства к будущим испытаниям, у бабушек же он уступает место другому инстинкту: продлить человеку детство, увеличить порцию заботы, скупо причитающейся человеку за жизнь. Возле нас в детстве не было бабушек.
Я могу спутать последовательность несложных будничных событий нашей жизни москвичей рядовой судьбы. Но я никогда не спутаю, где и как проводили мы лето в том или ином году. Тем более в детстве. Лето у нас, северян, – праздник, удачный или неудачный, но праздник, веха, отделяющая друг от друга отрезки буднично текущего времени. И я могу перечислить места и обстоятельства каждого лета своей жизни. Сертякинское лето было благополучным и ярким. Оно и закончилось ярким сине-желтым сентябрьским днем, когда мы вдвоем с мамой, уже расставшись с деревней, заехали туда в гости к хозяевам. Мне доставило большое удовольствие показаться в деревне не босиком в задрипанном сарафане, а в белых носочках и, как сейчас помню, в белой блузке в зеленую полоску с красным пионерским галстуком – взрослой городской школьницей. В посветлевшем просвечивающем «Покровском» парке под ногами громко шуршали свернувшиеся в трубочки сухие листья лип. В деревне было пусто и тихо. Вани Скотникова я не встретила. Тем не менее я весело простилась с Сертякиным на два десятилетия. Не знаю, почему мы туда не вернулись на следующее лето.
12
Мои воспоминания могут показаться очень идиллическими на фоне исторических событий той эпохи. Они и были бы такими, если бы не постоянный мрачный отсвет этих событий, еще не вполне мною понимаемых, и если бы не постоянная тревога внутри дома, сопровождавшая наше детство в эти годы. Тревога рождалась подспудно зреющим отчуждением наших родителей друг от друга.
Конец 1934 года запомнился мне, вероятно, не 1, а 2 декабря. Очень сумрачное зимнее утро. В школе нас, маленьких, мало что понимающих, но напуганных, собрали в читальном зале библиотеки, и именно библиотекарша стала нам долго читать из газеты что-то неясное, но устрашающее и угрожающее. Имя Кирова я услышала тогда впервые, услышала, когда он был уже убит. И вот слышу его больше шестидесяти лет почти с прежней невнятностью. По словам моего мужа, в те дни, когда убили Кирова, нянька мужа говаривала: «Раньше его всё больше Кереновым звали, а теперь вот Кировым. И убили». Я не знала имен ни Керенского, ни Кирова, но что происходит что-то плохое, почувствовала. Дома взрослые еще чаще стали нас предупреждать: ни о чем об этом не говорите ни в школе, ни во дворе, ни с соседями. Круг запретных тем все расширялся.
Вскоре после убийства Кирова отменили продовольственные карточки. И этот момент – 1-е января 1935 года – запомнился как праздник. Можно войти в булочную и купить сколько угодно хлеба. Вернее, сколько у тебя есть денег. Денег всегда было мало.
Брат и сестра еще ходили в детский сад в Сивцевом Вражке, мама вечно толклась там, помогала воспитателям, я иногда заходила к ним из школы. И, о патриархальные нравы! Повариха усаживала меня вместе с малышами за стол. Толстые, грубые, но со сметаной блины казались мне необыкновенно вкусными. Если мы с мамой оказывались днем дома вдвоем, она посылала меня в булочную за свежим батоном. Вместо обеда мы с ней пили крепкий чай и съедали весь батон, намазывая на хлеб соленое масло. Представляю, как осудила бы маму Наталия Алексеевна! Мне же эти отступления от будничных правил запомнились как праздник. Ешь хлеба, сколько хочешь. Когда собиралась за стол вся семья, «сколько хочешь» никогда не получалось. Но вся семья собиралась все реже и реже.
А в каком году у нас дома появилось радио? Не в том ли же 1934? Проведение в квартиры радиотрансляции, водружение на стену нашей комнаты черной тарелки репродуктора стало поистине еще одной революцией в нашем ежедневном существовании. Радио теперь было включено почти постоянно. Мы собирались в школу или в детский сад под звуки «Пионерской зорьки», а засыпала я под бой курантов со Спасской башни. Тогда разрешалось автомобилям сигналить на улицах, и вместе со звоном часов по радио до нас доносились разнообразные гудки проезжавших мимо автомобилей, что создавало ощущение полной твоей причастности к некой общей жизни – города и страны. Эффект был кем-то очень точно рассчитан.
Но не только политической пропагандой отличалось советское радио тех лет. Одновременно это был и могучий источник распространения культуры в полуграмотной стране: спектакли, оперы, концерты, лекции – все это транслировалось обильно и на очень высоком интеллигентном уровне. Один язык дикторов чего стоил в смысле просвещения! Голоса Лемешева, Козловского, Барсовой, Обуховой звучали в наших ушах постоянно. Песни Бетховена, песни на слова Беранже, русские романсы входили в ежедневный обиход нашей жизни. «Евгений Онегин», «Кармен», «Травиата», а позднее – «Князь Игорь» и «Хованщина» передавались по радио так часто, что мы знали и распевали, как могли, классические оперные арии. Нас водили и в театр. Считалось, что по крайней мере два раза в сезон дети должны посетить Большой театр, а драматический – сколько уж удастся. Билеты были дешевы. Но одно дело сходить раз на известную оперу, а другое дело прослушать ее целиком и частями десятки раз. Мы слушали их десятки раз.
Конечно, столь же часто, как классика, передавалась по радио и советская музыка. Массовые песни того времени – это была, может быть, самая сильная пропаганда господствующей идеологии. Но музыка-то была в них неплохая: Шостакович, Дунаевский, Покрас… Музыкального вкуса по крайней мере она не портила.
Большую радость нам доставляли детские радиоспектакли. После жестокой пугающей политграмоты начала 30-х годов вдруг нам стали не только рассказывать, но и изображать (да и делали это самые хорошие актеры) занимательные истории самого разного рода – тут и любимый нами особенно «Робин Гуд», тут и замечательный «Китайский секрет» (история изобретения фарфора в беллетризованной форме), тут и «Музыкальная табакерка» и многое, многое другое. И все это в сопровождении милой музыки, веселых песенок, бесконечно нами распеваемых. Радио отгоняло от нас до поры до времени и страхи, и чувство одиночества. Во время самых увлекательных и любимых передач мы обычно садились все вместе прямо на стол, чтобы оказаться поближе к висевшей волшебной тарелке и обмениваться тут же впечатлениями. Именно так мы подробно обсуждали только что обнародованный план реконструкции Москвы и гордились, и радовались, что наш дом окажется на углу Нового Арбата и мы прямо из окон будет любоваться неведомым проспектом. Никак не могли подумать, что наш дом, давно уже не наш, окажется на замусоренных задворках этого проспекта. Во время радостного обсуждения будущего мы подсчитывали, можем ли мы дожить до вожделенного и таинственного 2000 года и сколько каждому из нас станет тогда лет. Сходились на том, что младшие непременно доживут, а вот моя судьба всем казалась сомнительной. И сейчас, когда до начала нового тысячелетия осталось совсем немного, я по-прежнему хочу верить в точность наших былых арифметических расчетов. Это было бы справедливо[7]
.
Да, в зиму 1934–35 годов во всяком случае радио у нас в комнате уже было. Репортаж о возвращении челюскинцев и о восторженной встрече их на улицах Москвы я слушала, лежа больная в постели. По-прежнему увлеченная арктическими путешествиями, я и за «челюскинской эпопеей» (так тогда называли это событие в газетах) следила пристально. Вскоре папа подарил мне толстую книгу с историей затонувшего ледокола и спасения его пассажиров. Книга была снабжена множеством фотографий и карт. Вникая в них, я несколько недоумевала: в чем же героизм тех, кто на льдине ждал избавления? А что им оставалось делать? Героями в моих глазах были летчики-спасатели, но не пассажиры. Мне казалось несправедливым, что спасателей и спасенных чествуют одинаково. Как заметили еще педологи, мне всегда не хватало правильных политических оценок текущих событий. Вульгарный здравый смысл мешал мне воспарить над очевидностью.
Когда сейчас, в 90-е годы, я часто слышу по телевизору и читаю в газетах горестные причитания о необходимости «духовного возрождения» после семидесяти с лишнем лет духовной спячки, я могу только усмехнуться над таким плоским однолинейным восприятием истории. Восстали к вершинам духовности и культуры! С таким-то языком? С таким «говорухинским» представлением о прошлом России? С таким пониманием процессов самой революции? С таким потребительским требованием к жизни? И грустно, и смешно. И, главное, чревато трагическими контрдвижениями. Сколько мы их пережили! И еще дождемся.
Нет, страшные, кровавые тридцатые годы не были бездуховными. И подготовленное к войне поколение, воспитанное этими годами, не было бездуховным. Рушили церкви, Пушкина и Толстого трактовали в «классовом духе», оправдывали тиранию и палачество высокими идеалами всеобщей справедливости. Но ощущение духовного идеала и неэгоистических целей человеческого существования присутствовало властно в жизнеощущении этих поколений. У старших, выросших в 20-е годы, – в формах жестко-революционных (или контрреволюционных), у нас, младших, повзрослевших в 30-е годы, – в формах постепенного приближения к общегуманистическим идеалам.
Ну а что на этом общем фоне происходило в нашем доме?
13
Что-то новое и опасное входило в нашу жизнь. Эта опасность была неопределенна, не называема словами, но ее присутствие, ее приближение подспудно ощущалось.
Я не сразу начала замечать, как часто мама стала уходить одна по вечерам из дома. Как раз перед возвращением отца со службы. Сидит с нами, читает нам вслух «Чертопханова и Недопюскина», вдруг взглянет на часы, захлопнет книгу и скажет: «Дочитаем завтра». И начинает поспешно переодеваться. У меня сжимается сердце. Уже не младенческой тоской своей покинутости. Болью за отца. Я еще не отдаю себе отчета в причине этого чувства, но со страхом ожидаю возвращения папы домой. Я заранее придвигаю к столу «его» кресло (единственное наше кресло, но красного дерева, наследственное, безукоризненной «александровской» формы). Я старательно готовлю стол, словно отца ждет пир, а не обычный скудный обед. И напряженно, с тревогой в сердце жду. Вот знакомые, короткие два звонка, и мы все втроем летим в переднюю: кто первый откроет ему дверь. Конечно, я первая. И, самая длинная, я повисаю у него на шее, с радостью и болью привычно ощущая грубый ворс его пальто – вечного, может быть, еще дореволюционного пальто. Алёша и Лёля виснут на его руках. А он по самому нашему безмерному восторгу уже угадывает: «Мамы нет дома?» – безнадежно спрашивает он, зная заранее мой утвердительный, деланно беспечный ответ. И желваки на его скулах подтверждают мою догадку, насколько все-таки важен ему мой ответ. Он молча моет руки, а я уже согрела ему суп на керосинке и налила полную тарелку. Он ест, а мы сидим по обе стороны от него. Он погружен в свои мысли и не обращает на нас внимания. Но скоро он догадывается по глазам младших, провожающих каждую его ложку, что его дети не очень-то сыты. По моему виду он ничего не понял бы, – так думаю я. Обед поделить невозможно, да я и не допустила бы такого. Он берет нож и начинает резать черный хлеб на маленькие кусочки разной формы: квадратики, ромбы, треугольники. «А вот вам и прянички», – с деланным весельем приговаривает он. Мы хватаем «прянички», солим их и проглатываем: как вкусно! В форме такой игры и я согласна что-то получить от отцовской порции хлеба. «Ну а теперь вам пора спать, – решительно говорит папа. – Быстро в ванную». Мы беспрекословно отправляемся умываться в нашу теперь почти всегда холодную и неприютную ванную комнату. Потом мы ныряем за ландехскую ширму, где стоят три наших кровати – впритык, буквой «п». Верхний свет погашен. Дети засыпают быстро. Я не сплю. Я слушаю шаги отца. Он ходит от двери до окна и от окна до двери, взад и вперед, без остановки. Потом шаги замирают, слышно, как передвигается кресло, как шуршит бумага. «Ага, он садится работать», – соображаю я и становлюсь коленями на кровать, чтобы проверить догадку. Сквозь редкий синий холст верхней части ширмы я вижу силуэт отца. Он сидит за секретером ко мне в профиль – пышные волосы, прямой короткий нос, вздернутая верхняя губа. Его крупная красивая рука неподвижно лежит на счетах. От делает вид, что работает, но он не работает. Я осторожно снова залезаю под одеяло.







