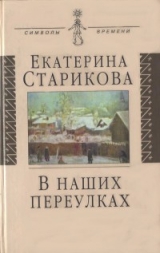
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Мое молчание было тем более непростительно, что ведь наши отношения с Н.Н. не закончились тридцать седьмым годом. Осужденный по 58 статье на восемь лет, то есть для тех времен на минимальный срок и без предъявления какого-либо обвинения, он, благодаря могучему здоровью и бухгалтерской профессии, перенес сравнительно благополучно мытарства заключения и вышел из лагеря по окончании войны, но покинул место ссылки только в сорок восьмом году. Его родители умерли во время войны, так и не увидев единственного сына, и таким образом Н.Н. лишился и жилья. Да и в любом случае ему в Москве не только жить, но и сколько-нибудь находиться не полагалось. Ночуя тайком по знакомым то там, то здесь, он искал работы и пристанища в заветном радиусе 101 км, но тщетно: к западу от Москвы все было разорено войной, к востоку – забито его товарищами по несчастью. Ни в Каковинском, ни на Зубовском у Маклаковых он появляться не мог: там его слишком хорошо знали соседи. Я к тому времени была уже замужем, и жили мы в Зарядье, в экзотической мансарде-трущобе, где никто не знал о нашем прошлом. И я предложила Н.Н. иногда ночевать в нашей комнате. И, кажется, именно я сыграла решающую роль в его дальнейшей судьбе. Однажды Н.Н. принес с собой газету с объявлением, что в Крыму, в Евпатории, требуется бухгалтер в восстанавливающийся после военных разрушений санаторий. Н.Н. сомневался: уехать так далеко значило оставить всякую надежду на связь с Москвой и снова расстаться с мамой. Я же стала горячо уговаривать их обоих остановиться на крымском варианте: теплый климат, раз санаторий – готовая еда, обеспеченное жилье. После всех тягот военного времени мои рациональные доводы были неоспоримы. Но не было ли у меня тайного желания отодвинуть Н.Н. подальше от нашей жизни, хотя уже все равно не общей? Я в этом себе не признавалась, но… где-то совсем глубоко в душе какое-то смутное сомнение в своем полном бескорыстии иногда проглядывало. В общем Н.Н. уехал в Евпаторию. Я его больше никогда не видела. Мама отправилась к нему в первые же каникулы, потом – на лето с детьми, потом, кажется, еще раз… Но общая их жизнь не склеилась. Ведь у них никогда и не было общей жизни, ее надо было бы не склеивать, а строить с самого основания. И, кажется, моя давняя детская интуиция тоже оправдалась: Н.Н. не любил маму так, как она его. Все это, может быть, и правда, но почему я-то, немолодая уже женщина, не сумела выслушать маму, не пересилила такие давние детские обиды и не дала ей перед концом облегчить душу исповедью? Это мой грех, и нет мне оправдания.
21
После отправки Н.Н. в лагерь кончилась неопределенность. Маме приходилось жить в новых обстоятельствах. Надо было кормить нас. А с концом личных страстей все большую и большую роль стала играть в ее жизни школа. Именно тогда мама окончательно обрела свое истинное призвание педагога. К тому же школа давала ей возможность ощутить общность своей судьбы с судьбами многих других людей. Все больше не только учительниц оставалось без мужей, но и детей лишалось родителей. И все примерно одним и тем же образом. Вчера жила нормальная семья, а ночью пришли, обыскали и увели. И прежняя жизнь кончилась.
Мало-помалу наш дом становился пристанищем осиротевших или полуосиротевших подростков. Мать Тамары все еще оставалась в ссылке. После смерти бабушки Лиля Брянская стала каждодневным посетителем нашего дома. Теперь мы садились делать уроки за один стол уже впятером. А тут зачастила к нам еще одна одноклассница – Клара Туровлина. Недавно еще экзотически, во все заграничное разодетый ребенок, с немецким ранцем за плечами (все мы ходили в школу с клеенчатыми портфелями), вдруг и она оказалась обездоленной сиротой. В отличие от многих бессловесных драм, история сестер Туровлиных нашумела на всю школу. Они-то не молчали о своей беде именно потому, что привыкли быть своими у советской власти, ощущали себя ее привилегированными детьми. И вдруг лишаются сразу обоих родителей – ответственных работников Внешторга. От самой Клары мы узнаем, что при аресте родителей обеих девочек хотели отправить в детский дом, но решительно воспротивилась этому их домашняя работница, пожилая тетя Маша, как мы ее звали. Не отдам и все. Что я их не прокормлю? Да и родная бабка у них есть, зубной врач в Загорянке. И Майя уже в десятый класс переходит. Какой детдом? Кончит школу – работать пойдет. Так и не отдала.
Перед контрольными по математике мы с Тамарой и Лилей часто теперь приходили в квартиру сестер в Малом Левшинском переулке (единственную отдельную квартиру среди всех знакомых нам детей). Мы остро ощущали контрасты теперешней и недавней жизни в этой квартире. В бывшей спальне родителей на деревянных кроватях – шелковые персидские покрывала (родители сестер не только в Берлине работали, но и в Тегеране), в передней перед высоким зеркалом – прелестная женская сумочка, невиданного нами синего цвета, мягкая и душистая. Но когда Маша усаживает всех нас ужинать, на столе только серый хлеб, кусочек масла и сахарный песок. Почти как у нас, только у нас сахар всегда кусковой, а чай хорошо заварен. А здесь тонко нарезанный хлеб чуть-чуть мажут маслом и посыпают сверху сахарным песком. Вкусно, но непривычно. И мало. Постепенно красивые вещи из квартиры исчезают. Куда? Это я наивно спрашиваю. И в первый раз узнаю о существовании комиссионных магазинов. Конечно, я видела на Арбате такую вывеску, но не отдавала себе отчета, что она значит. А теперь Маша сердито попрекает Майю за то, с каким сожалением та расставалась со своей любимой сумочкой. «Бесстыдница. Родители в тюрьме, а ей сумки жалко. Передачу им надо отнести?»
Иногда к Туровлиным из Загорянки приезжает их бабушка. Она с грустной улыбкой смотрит на нас, когда Клара решительно, бойко объясняет нам самые трудные алгебраические задачи. А однажды при бабушке Клара стала рассказывать, что у Майи было комсомольское собрание и там от нее потребовали отречения от родителей – врагов народа. Но Майя отказалась. Она, нет, они обе не верят, что их родители – враги, их мама и папа – настоящие коммунисты. Майя так и сказала на собрании. Майя на собрании плакала, но не отреклась. И теперь ее, наверное, исключат из комсомола. Бабушка слушала Клару и не говорила ни слова, но по ее морщинистым щекам скатывались крупные слезы.
Но это перед контрольными мы собирались в Левшинском, в обычные же дни Клара чаще заходила к нам. И тогда мы пили наш чай и ели наш хлеб. Делим батон на столько человек, сколько присутствует. А присутствует часто много.
Однажды среди учебного года в нашем классе появилась новая девочка – Роза Пруслина. А скоро и она, и ее младшая сестра Клара были приглашены моей мамой к нам домой. Обе сестры были черноволосые, но Клара – худенькая и бледная с четким профилем Анны Ахматовой, а Роза – пышная и грубоватая. И в тот же вечер, когда сестры ушли от нас, мама рассказала нам еще одну горестную историю. Девочки эти были из Минска. Когда арестовали их родителей, они тоже должны были быть отправлены в детский дом, но с их отправкой произошла какая-то задержка. И на рассвете сестры сбежали из своей полуопечатанной квартиры на вокзал и уже на следующее утро были в Москве, у бабушки. А бабушке восемьдесят лет, и живет она в одиннадцатиметровой комнатке в развалюхе, прямо около нашей школы. Девочки боятся, что их разыскивают минские энкавэдэшники и, если найдут, отправят в детский дом. Но наш директор Пелагея Павловна сказала, что не отдаст их, пусть попробуют. Роза Пруслина скоро ушла из школы, поступила в медучилище и стала медицинской сестрой. А грустная, задумчивая Клара Пруслина, будущий искусствовед, постепенно и надолго стала постоянным посетителем нашего дома. Мама и ее пригрела.
В ту зиму 1937–38 годов в нашей школе произошла совсем уж страшная история. Однажды мама привела с собой к нам домой какую-то незнакомую девочку из младших классов и тихо сказала: «Пообедаем вместе, а потом займите ее играми. У нее большая беда, но она еще не знает о ней». Мы старались. А уведя девочку от нас, мама рассказала о ее беде.
Брат этой девочки учился в 10-м классе нашей школы, а их отец был арестован уже несколько месяцев назад. Увидев в тот день девочку, я тут же вспомнила и ее брата, у них обоих была примечательная внешность: темно-золотые прямые волосы, очень яркий густой румянец на смуглых щеках и яркие же карие глаза под густыми темными бровями. Так вот история была такова. У десятиклассников был вечер по случаю какого-то праздника. Портфели были свалены в одну кучу. Расходясь поздно домой, разбирали портфели и перепутали. Две подруги обнаружили, что захватили портфель того мальчика. Конечно, полюбопытствовали, что в нем, и обнаружили дневник. Тут же поздно вечером заглянули в него. И с ужасом прочитали, что их одноклассник, не желая мириться с обвинениями против отца, решил покончить с собой. В слезах захватив с собой портфель, девочки бросились в школу к директору. Ведь Пелагея Павловна жила при школе. Разбудили ее, все ей выложили и показали дневник. Она успокоила, как могла, девочек, а утром вызвала к себе автора дневника (вот не помню ни его имени, ни фамилии, ведь я не была с ним знакома). Он выслушал вразумления директора с иронической улыбкой, заверяя ее, что все это шутка, рисовка, «литература», что не надо на это обращать внимания и никому ничего говорить. Она поверила ему и отпустила в класс. Он проучился весь день, даже отвечал у доски и, предупредив сестру, чтобы сегодня его не ждали рано дома, ушел из школы, как обычно. Но домой не вернулся. Его нашли мертвым на рельсах железной дороги: бросился под поезд. Не пожалел в свои семнадцать лет мать. Себя пожалел. Почти шесть десятилетий прошло с тех пор, а я нет-нет, а представляю себе с ужасом золотую голову на рельсах и как мать не дождалась его. Почему-то даже запомнилось, что жили они тоже за городом (выгнали из квартиры при аресте отца?), но не по той дороге, где он покончил с собой.
Это все истории 1937–38 годов, о которых мы знали. Но были вокруг нас и тайные, о которых мы услышали годы спустя. Среди посетителей нашего дома появился и Дима Редичкин, друг Алеши Стеклова. Трудно было представить большие противоположности, чем Алеша и Дима. Сдержанный, молчаливый, живущий какой-то своей скрытой жизнью отдельно от всех – Алеша и общительный, веселый озорник Дима, но тем не менее они не просто сидели за одной партой, но и дружили. Не помню, кто первый из них и когда стал заходить к нам домой, но Дима уже в шестом классе влюбился в Лилю, нимало не скрывая своего пылкого чувства, и вслед за ней потянулся к нам, заставив, наверное, и Алешу преодолеть застенчивость и тоже появиться у нас. В общем, к 8-му классу всеми было признано, что Дима влюблен в Лилю, а Алеша верно служит мне. Бывают в отрочестве такие невинные союзы, которые принимаются и одобряются детским сообществом. Но речь пока не о том.
Как-то уже в 9-м классе захожу я зачем-то к Диме, в их с матерью крохотную комнату с высоченными потолками (они жили в Еропкинском переулке на Кропоткинской) и среди беспечной болтовни ни о чем вдруг говорю ему, глядя на верх шкафа: «Выбросил бы ты этот пыльный букет, давно пора». А он неожиданно строго: «Нет, я не выброшу его никогда. Эти мимозы папа подарил маме, последний его подарок перед арестом». Мы помолчали минутку, а скоро как ни в чем не бывало снова начали обсуждать подробности «Оды на туфли» – коллективного сочинения нашего класса по случаю обновы нашей учительницы истории. У наших учителей обновы были редки, и мы бурно на них реагировали. И лишь возвращаясь с Кропоткинской на Арбат, я подумала: «Ну и Дима – каждый день видимся, кажется, дружим, а он молчал о таком! Когда у них-то случилась беда?» Но мы и дальше молчали о «таком». Так я никогда ничего и не узнала о беде Редичкиных, ни в школьные годы, ни когда уходил Дима на фронт (наш год рождения призывался в сорок третьем), ни когда раненый убегал он из госпиталя в одной пижаме и прямо к нам, не к матери, чтобы в веселой компании сверстников рассказывать забавные армейские истории: как пришлось ему вспомнить так презираемый нами немецкий язык, агитируя через промерзший жестяной рупор солдат противника и слыша, как они передразнивают его немецкий, как стоял он в строю во время расстрела «предателя», прострелившего себе руку, как рассекали ему гангренозный живот, а он понимал, что врачи считают его безнадежным. И все это, смеясь и веселясь.
Но вернусь к концу тридцатых годов, когда наша комната из семейного обиталища превратилась в своеобразный сначала детский, а потом подростковый клуб. Мама была его неизменным председателем. Почти все его члены, кроме Алеши Стеклова, были или полусиротами или полными сиротами. Они тянулись к маме. Мама лучше нас знала их семейные истории, их личные драмы, их склонности. Они доверяли ей свои секреты, вероятно, потому, что она искренне и взволнованно принимала их близко к сердцу. У нее была удивительная способность проникаться чужими интересами, особенно подростков. А нашими? А моими?
Я не умею объяснить сложности наших с мамой отношений. Безусловное с моей стороны уважение. Да и позволила бы она кому-нибудь нарушить почтительность к ней? Отчетливое осознание мною духовного родства с нею, вернее, ощущение себя скромной наследницей ее духа – восприемницей всего, что хранила ее блестящая память, но не самого богатства фактов и артистизма оттенков их живого бытования, а лишь сознания ценности таковых. Чувствовала я себя и продолжательницей хотя бы отчасти ее роли ответственного свидетеля и судьи течения истории, проходящей перед твоими глазами. Все это я осознала очень рано. Но во всем личном, интимном, даже физическом – между нами стояла стена. И осталась навсегда.
Я пишу эти слова через месяц после смерти мамы. Она умерла 5 мая 1991 года в старой Кунцевской больнице рядом с домом, где прожила последние двадцать шесть лет. Она болела не более четырех дней и твердо решилась на неизбежную операцию, прекрасно осознавая ее опасность на девяностом году жизни. Она умерла через полтора часа после окончания операции, и мы надеемся, что она еще не пришла в себя от наркоза. Бог дал ей долгую жизнь и сравнительно легкую смерть. Истекший месяц мы прожили как бы в тени этой внезапной смерти. И несмотря на незримое присутствие в воображении свежей могилы и содрогания от этого присутствия, еще не можем привыкнуть к тому, что мамы нет. Моя рука по утрам еще тянется к телефону: осталась привычка справиться о ее мнении по поводу вчерашней газетной статьи, уточнить какую-нибудь подробность из исторического прошлого, рассказать что-нибудь забавное о моем внуке и ее правнуке. Эта привычка все еще оставляет надежду на помощь ее живой, отзывчивой памяти, тщетную надежду. И раз уж так случилось, что именно в это время я пишу о ней, мне хочется написать о наших с ней отношениях только правду. Она достойна правды и не любила сентиментальности. Но как нелегко добраться до настоящей правды!
Почему-то вдруг вспоминаю характерный для наших отношений эпизод уже из 50-х годов. Домашняя работница Таня, няня маминого внука Коли, вышла замуж, уехала на родину мужа и прислала маме письмо о каких-то своих семейных неладах. Мама огорчилась и собралась ехать в Белоруссию, в совхоз, где жила Таня. Перед ее отъездом я не без горечи спросила: «Почему ты никогда так не беспокоишься обо мне?» – «О тебе? – удивленно спросила она. – Почему я должна о тебе беспокоиться? Ты получила образование и воспитание, ты можешь сама справляться со своей жизнью». «А Таня?» – ревниво спросила я. «Видишь ли, Таня, живя в нашем доме, тоже получила известное воспитание, но условия ее теперешней жизни ему не соответствуют. Вот и приходится о ней беспокоиться».
Все это было очень логично. Но не чересчур ли холодно? И еще я тогда усмехнулась про себя: тебе же хочется съездить в Белоруссию, в родные места, и там блестяще справиться с новой ролью. А если бы ты знала, как в этот момент надо было беспокоиться за меня! Но логичное заключение поставило точку в разговоре, он не мог иметь продолжения. Мама поехала к Тане и помирила молодых супругов, а я справилась со своими делами.
В тридцатые годы и подобный разговор между мной и мамой был невозможен. Каждый в одиночку справлялся со своей жизнью. Мама спрашивала с нас троих в обыденных делах строго, а в душу не лезла. Что мы хорошо учимся, это само собой разумелось. За случайную плохую отметку никогда не ругала, скорее сочувствовала. Могла огорчиться четверкой вместо ожидаемой пятерки. Всегда старалась подсунуть вовремя необходимую с ее точки зрения книгу, не заставляя ее читать, а заинтересовать какой-нибудь из нее подробностью. Гнев мамы мог быть неистов и не всегда соответствовал обстоятельствам. Но чаще в те годы он обрушивался на головы младших, особенно Алеши. Мне резких замечаний она почти никогда не делала после памятного окрика за неубранную комнату. Только один раз надо мной разразилась гроза. Мы с Тамарой пошли в кино на вечерний сеанс с полного, конечно, маминого разрешения. Но билетов нам не досталось, и Тамара предложила пойти на следующий, ночной сеанс. Он начинался в одиннадцать. Я очень колебалась и хорошо представляла себе последствия такого опоздания домой. Но так хотелось в кино! И не так увидеть фильм, как посмотреть на негра-чечеточника, развлекавшего публику «Художественного» перед сеансом. И еще было стыдно показать свободной Тамаре, что я не смею ослушаться домашнего приказа, как маленькая. В общем, негра, сверкающего лаковыми туфлями, я увидела, а домой вернулась в два часа ночи. И тут прорвалось все, что копилось против меня с тридцать седьмого года (а шел уже тридцать девятый), были помянуты все мои подлинные и мнимые вины, половины из которых я не поняла, а вторую забыла. Помню только, что главным грехом оказались следы помады на моих губах, а намазаться ею изобрела Тамара из боязни, что нас могут не пустить на ночной сеанс. Вот в этом я считала гнев мамы справедливым, вот это я и сама считала несмываемым грехом и признаком своего полного падения. С какими покаянными словами и клятвами будущей чистоты я выбрасывала в помойное ведро грошовый карандашик в бумажном футляре, купленный в аптеке на копейки, с трудом сэкономленные! В конце этого громогласного неистового скандала мама вдруг расплакалась и сквозь рыдания стала мне объяснять: «Пойми, что я так тебя ругаю, потому что люблю и хочу, и надеюсь, что ты будешь когда-нибудь лучше всех». Вот этими словами она меня поразила. Вот эти слова и запомнились как не совсем понятное открытие. Она меня любит? И можно оскорблять, потому что любишь? И можно надеяться, что оскорбительные слова сделают человека когда-нибудь лучше?
Но безудержные вспышки гнева были проявлением лишь одной стороны маминой натуры. Противоположную сторону холодноватую твердость и заражающую стойкость духа – я оценила сполна только в войну.
Никогда не забуду маминой реакции на первую в Москве воздушную тревогу. Я проснулась среди ночи от незнакомого еще нам воя сирены с испуганным возгласом: «Что это?» Мама сидела за письменным столом спиной ко мне, она готовилась к экзамену, спеша сдать его, пока можно: так важно было ей получить диплом о высшем образовании. Не оборачиваясь на мой голос, строгим, учительским тоном мама объяснила мне: «Ничего особенного. Обыкновенная воздушная тревога». И приказала: «Встань, спокойно оденься, и мы неспеша выйдем из дома». Потом власти заявили, что та первая в Москве тревога была учебной. Ни одного взрыва, и правда, не прогремело. Но страшно было: никто еще не знал, куда надо идти и что делать. «Ближе к стенам, а то может задеть осколками… Дальше от стен, можно оказаться под завалом…» – слышалось в шарахавшейся толпе, заполнившей наш погруженный во мрак переулок. Мама же, нащупав в темноте мою руку, все тем же твердым холодным тоном приказывала: «Спокойнее, спокойнее. Главное, не метаться. Ничего страшного пока не происходит…» Мамино отношение к той первой военной опасности стало камертоном для нашего поведения во всех перипетиях последующих лет: никакой паники, никаких жалоб, никаких поблажек в исполнении разнообразных обязанностей, нужных для выживания. Тогда-то я сполна оценила воздействие на нас маминой стойкости, особенно сравнивая ее с истерической паникой, охватывавшей некоторых женщин при частых теперь звуках той же сирены и еще более частых слухах о грозящих нам бедах.
22
Однако и в предвоенные годы я уже отчетливо сознавала влияние на меня маминых взглядов. Именно то, что в советское время называлось «идейное влияние». Но примерно в середине 1938 года я ощутила потребность сопротивления этому влиянию. Трудность моего желания от него освободиться заключалась в том, что логика моих тогдашних знаний об окружающей жизни не давала мне убедительных аргументов против маминого отрицания строя, политики и идеологии страны, в которой мы жили. Я понимала кровавую театральность политических процессов, знала не только о несправедливости, но и о бессмысленности массовых репрессий (экономический «смысл» – бесплатный труд – мне еще не был доступен), я была достаточно осведомлена о губительности для сельского хозяйства колхозов (хотя бы на примере судьбы Макара Антоновича, все писавшего и писавшего нашему отцу горестные письма о порушенной деревенской жизни). Все это я прекрасно знала и понимала, но вдруг как-то устала от этого знания, от печали сплошного отрицания, от его безысходности. Так же, как летом тридцать шестого года мне захотелось освободиться от груза семейной драмы, в тридцать восьмом я ощутила острое желание вырваться из плена маминых неопровержимых доказательств гибельности той системы, в которой мы жили. Особенно часто мама спорила о развращающей нерентабельности колхозов с Павликом Артамоновым. Брат четырех командиров Красной Армии и, конечно, коммунистов, Павлик в тридцать восьмом году был уже комсомольцем и отчаянно опровергал маму, что не мешало ему все чаще и чаще проводить вечера у нас в Каковинском. Я молча слушала эти бесконечные дискуссии, зная неопровержимую правоту маминых фактических аргументов и не желая с ними соглашаться чувствами. Мне вдруг страстно захотелось быть «как все»: ходить на демонстрации 7 ноября и 1 мая, выступать на собраниях с одобрительными речами, писать в стенгазету заметки по поводу наших достижений. Я же видела, как просто живут некоторые мои благополучные одноклассники. Ведь не у всех же были арестованы родители. Мало того, вблизи нашей школы были построены новые благоустроенные дома, в которых поселились работники НКВД. И дети из этих домов появились в нашем классе, спокойные, благополучные, хорошо одетые девочки. Я бывала у некоторых из них дома. И мне так захотелось благополучия и душевного равновесия. Но я не решалась, да и не сумела бы спорить с мамой, тем более победить ее неистовую страстность отрицания.
Однако молча слушая мамины обличения, я достаточно чутко улавливала и уязвимые места ее позиции. Все было правдой в представляемой ею картине нашей жизни: жестокость, бессмысленность, разрушительность, противоречащие самой человеческой природе и законам жизни. Но ведь в то же время это была величайшая ошибка миллионов, результат искренних заблуждений многих прекрасных и чистых людей, таких, как наш папа. В маминых речах того времени не было ни капли понимания той драмы, в них было не горе, а злорадство. И это было самым слабым местом ее аргументов. Я чувствовала в этих нотах злорадства голос побежденного класса, радующегося великому несчастью: не вышло, величайшая утопия рухнула! Но, думала я тогда, ведь было же в той утопии величие духа, грандиозность мечты о полном бескорыстии? С детской потребностью в полной искренности я ощущала ограниченность сплошного отрицания духа революции – при всей бессмысленности и количестве пролитой крови. Раньше маме не была свойственна какая-либо, а тем более сословная, ограниченность.
Может быть, в тех моих одиноких раздумьях играла роль и война в Испании. Трудно было подростку не проникнуться романтизмом той борьбы против фашизма, объединившей героев разных стран. Ведь мы не читали «По ком звонит колокол» и не скоро его прочтем. А дух испанской гражданской войны пронизывал весь наш быт. В Москве на углах улиц продавали испанские апельсины, и город был засыпан цветными бумажками от них. Апельсинов мы, конечно, не ели, но маленькая Лёля собирала с мостовой красивые бумажки и составила из них пеструю коллекцию. Названия испанских городов звучали в наших ушах постоянной героической музыкой. А однажды я попала в Детский театр на «Приключения Буратино» (такая большая, читавшая Достоевского и Толстого, а с каким увлечением смотрела вместе со всеми эту модную сказку, а главное, песенки, песенки слушала и запоминала, их скоро запоют все вокруг: «Был поленом, стал мальчишкой…»). В тот день, оказалось, театр был заполнен испанскими детьми, недавно привезенными на пароходах в СССР. Об этом объявили нам со сцены. И зал встал и бурно, долго аплодировал испанцам, а они – в красных шапочках с кисточками – нам. Это был нечастый в моей жизни момент счастливого единения с массой, в данном случае – с детской, а потому особенно восторженной и искренней.
И я пошла в школьный комитет комсомола и попросила анкету для вступления в него. «Тебе же еще нет пятнадцати?» – спросила дежурившая активистка. «Еще нет. Но на будущий год будет», – ответила я гордо.
Мама, увидев в моих руках бланк анкеты, ничего не сказала. Но мне показалось, что она даже обрадовалась моему решению. К этому времени быть в комсомоле означало, собственно говоря, лишь лояльность к власти. А мама, при всех своих неистовых филиппиках против этой власти, была все-таки мать. И как все тогдашние матери, она боялась за нас. Анкета для вступления в комсомол казалась хоть какой-то защитой. Я положила анкету в дальний ящичек дворянского секретера.
23
В мае тридцать восьмого года у меня снова начались приступы малярии, жестокие и частые. Через день температура поднималась выше сорока, а потом падала не ниже тридцати девяти. Такой малярии у меня еще никогда не было, она была уже опасна для жизни. Я лежала за ширмой почти в беспамятстве и ощущала только одно: папа держит мою влажную руку своей большой и сухой и время от времени меняет у меня на лбу пузырь со льдом. И от этих родных прикосновений благодарное спокойствие разливается по моему горячему телу.
В июне я поднялась с постели, шатаясь, как пьяная, на длинных и тощих ногах. К четырнадцати годам я уже достигла своего взрослого роста – 170 см. Наступало лето, но мы снова не снимали дачи, мы уже никогда не будем жить летом все вместе. Как только я поднялась, меня снова отправили на дачу к тете Тюне в Ильинское, как когда-то. Мама с детьми была приглашена стариками Краевскими на Косую Гору. Мы снова разлучились.
Слабая, желтая от акрихина, ко всему равнодушная, шаталась я по обширным комнатам и бескрайнему участку теткиной дачи. Меня не радовали ни пышные пионы, ни любимый жасмин, ни жаркий запах сосны. То и дело я прикладывалась на диван в столовой с книгами Оскара Уайльда в руках. Тетя Тюня почему-то считала безнравственным это чтение, забирала у меня книги, возбуждая мое любопытство (скоро, правда, сменившееся разочарованием), но стоило ей заняться хозяйством, как я снова бралась за развратного «Дориана Грея».
Но время, воздух, лето, хорошая еда, регулярный прием акрихина сделали свое дело. Я снова оживала. А тут началась настоящая жара. Никли цветы на рабатках и клумбах перед домом, горели едва начавшие наливаться ягоды земляники. Тетка с домашней работницей надрывались от поливки. Я рвалась им помочь: мне надоело лентяйничать. Тетя Тюня опасалась, что огородная работа подорвет мое здоровье. Владимир же Николаевич как врач уверял, что труд на воздухе только поможет мне выздороветь. Я поддерживала его: «Помнишь, когда я была маленькая, – говорила я тетке, – ты диктовала мне из „Таинственного сада“? Ты еще ужасалась, что я писала „оромат“? Помнишь, от чего выздоровел брат Мери?» Видимо, мое литературное доказательство было неопровержимо, мне разрешили работать в саду.
Как же скоро я была не рада своей убедительности в споре о здоровье! Полить обширные теткины плантации при песчаной, всасывающей, как губка, воду почве и при глубоком колодце с тугим насосом было совсем нешуточным делом. Сорок ведер воды – это была лично моя норма. Для каждого ведра надо было сделать около ста накачивающих движений. Мудрено ли, что к августу у меня налились мускулы, а загорела я, как негр. А еще прополка! А еще сбор ягод! Сначала-то в охотку. А потом, когда они уже в рот не лезут?
По вечерам иногда к Мамоновым приезжали гости из Москвы. Но запомнился мне только художник Черемных. Стоило гостям появиться на широкой террасе, как следовал приказ тетки: «Катя! Собери ягод». А уже сумерки, почти ничего не видно на грядках, я нашариваю крупные ягоды на ощупь. И подать их на стол надо не в алюминиевой миске, а на хрустальном блюде, обложив предварительно блюдо чисто вымытыми кленовыми листьями. Тетя Тюня настойчиво учила меня навыкам «нормальной жизни», приемам «хорошей хозяйки» и вообще «хорошему тону». Как все это мне быстро надоело! Мне хотелось домой, мне хотелось к своим. После маминых страстных политических и литературных дискуссий, после нашего молодого домашнего общества, как скучны мне казались разговоры Мамоновских гостей! Вот кто-то очень удачно купил дачу, а у врача такого-то очень знатный пациент и вообще большие связи, а юбки, знаете, снова стали носить короче… Я ухожу с террасы и прячусь подальше – в спальню. По случаю гостей во всем доме горит яркий свет. Рассеянно я сажусь за теткин туалет и гляжусь в трельяж. Где же моя малярийная желтизна? Смуглый румянец, блестящие глаза, а волосы выгорели почти добела, вон каким ореолом пушатся они, освещенные сзади! Внимательно рассматриваю я себя во все три зеркала и в первый раз вижу себя в профиль. Так вот я какая? Может быть, не так уж дурна, как сожалеет иногда мама? «Катя, иди разливать чай!» – зовет тетя Тюня, неуклонно продолжая свою педагогическую программу. Я с сожалением отрываюсь от зеркала.
Во имя справедливости замечу, что мои родственники вовсе не были скучными и ограниченными мещанами, как то может показаться из моих слов. Просто они были много состоятельнее нас и менее политизированы, чем мы. Нищета избавляла нас от многих материальных интересов и более остро давала ощутить злые плоды социализма. Мамоновы имели возможность отстраниться от злобы дня. Прекрасные музыканты и знатоки музыки, супруги много свободного времени проводили за роялем, да и набитый книжный шкаф свидетельствовал об их разнообразных интересах. К тому же и они были ироничны и остроумны, колкими шутками окрашивая любой разговор. Только тетя-то Тюня чаще молчала. Мне казалось в детстве, что ей мешает говорить вечная папироса в тонких сжатых губах. Всегда веселый, несмотря на свой почтенный возраст, Владимир Николаевич, видно, угадывал, что я скучаю на их пустынной даче. Вернувшись к вечеру из больницы, он в ожидании ужина часто играл на рояле специально для меня, рассказывая при этом сюжеты мне не знакомых опер и напевая из них отдельные арии.







