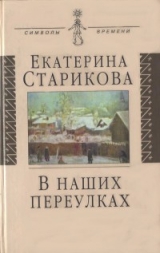
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Если такой вечер приходится на весну или осень, если окна открыты, а папа так же неподвижно сидит за секретером над грудой бумаг, то слышу я и то, как к нам в комнату вдруг врываются тоскливые фабричные гудки: сначала один, совсем низкий, потом ему вторит высокий и пронзительный, потом снова низкий, и вот их становится много, и голоса их сливаются в мрачную индустриальную симфонию. Это кончилась вечерняя и началась ночная смена на фабриках Дорогомилова, на заводах Фили – за Москвой-рекой, где по вечерам пылают такие пышные и тревожные закаты. Вечерние гудки означают одиннадцать часов. А мамы все нет. Я не задаю себе вопроса, где она, она же сказала: «Пойду к Наталии Алексеевне».
Наталия Алексеевна, которую я почему-то давно не люблю, – племянница «того самого Маклакова», члена Временного правительства, эмигранта, публициста. Она живет с матерью и тремя сыновьями от разных браков в двух крошечных комнатках особняка бывших владельцев известной шелковой фабрики «Красная роза». Дом № 12 на Зубовском бульваре давно превратился в громадную и жуткую коммунальную квартиру – сорок жильцов. Это здесь произошло приобретение молодым и неизвестным Ираклием Андронниковым портрета Н.Ф.И. Он выторговал портрет возлюбленной Лермонтова у матери Наталии Алексеевны, Наталии Сергеевны, урожденной Голицыной, почти в присутствии нашей мамы (она сидела в соседней комнате). Мама воспроизводила сцену покупки не менее забавно, чем сам Андронников. По маминому свидетельству, никто в семействе Маклаковых не знал, какой из двух прелестных акварельных портретов (я помню их на стенах одной из комнат – голубое и розовое платья на двух почти одинаковых дамах в локонах) принадлежал предмету страсти поэта. Андронников выбрал портрет той, что показалась ему красивей. Наталия Сергеевна до конца жизни настаивала на приблизительности андронниковской версии.
Но когда папа весь вечер сидит один, мне неважно, где именно мама, мне важно только, что папа страдает. И вот уже не по радио, а через окно слышится далекий звон часов: двенадцать на Красной площади. Кажется, что она далеко от нас, это – другой мир, отделенный от наших переулков Арбатской площадью, Воздвиженкой, Александровским садом, кремлевскими стенами. Но в тишине теплой ночи бой часов отчетливо слышен в нашей комнате. Через много лет, в иной жизни, он снова будет меня сопровождать, но уже доноситься не с востока, а с запада – это когда я, выйдя замуж, поселюсь в Зарядье. Но пока он доносится до меня поверх тихого лабиринта родных арбатских переулков. А мамы все нет. Я задремываю и уже сквозь сон слышу звук открываемой двери, приглушенные и напряженные голоса родителей. Я понимаю, что мира нет, но все-таки они вместе – вот скрипнул матрац их общего ложа – другого нет. Папа не один. И тогда я засыпаю по-настоящему.
Мама по-прежнему любит петь, она поет, что бы ни делала, но теперь она поет другие песни.
Колонку нашей ванны топили и в эту эпоху. Только теперь не было аккуратной связочки мелких дровишек, специально предназначенных для московских ванных комнат. Их больше не продают на Смоленском рынке, да и самого рынка уже нет. Когда он исчез? Вдруг Смоленская и Сенная площади оголились в своем разностильном безобразии, опустели до полного бессмысленного аскетизма. И дровишек не стало, как, впрочем, и многого, многого другого. Нас теперь довольно часто «купают» в Серебряном переулке у Краевских, где в ванной комнате – газовая колонка. Но иногда согревают колонку и дома, но не дровами, а чем попало. Обнаружилось, например, что в нашей колонке быстро и с прекрасным тепловым эффектом горят старые калоши. Их было много, так как что-либо выбрасывать в ту пору не приходило в голову, но и носить старую обувь бесконечно оказывалось невозможно. Вот эти латанные и клееные калоши и оканчивали свое существование до конца с пользой – с треском и шипением они отдавали свое последнее тепло нам. Колонка нагревалась быстро. Моя нас, мама теперь чаще всего поет цыганские романсы.
Все б тебя слушал, смотрел в твои очи
И с наслажденьем забыл бы весь мир,
Но тебя нет, и темнее день ночи,
Все там блаженство, где ты, мой кумир…
Мы тоже поем новые мамины песни. Особенно удаются они Алеше. Взрослые гости забавляются, когда наш брат поет с «маминым» чувством:
Как мне забыть эту боль и страданье,
Как мне забыть эти муки мои?
Трепет сердечный, восторг ожиданья,
Вот что наделали песни твои!
И гости у мамы теперь другие, чем раньше. Они заходят к нам днем, когда папы нет дома, «к обеду». К нашему скудному обеду. У нас в доме неизменно исполняется закон нерасчетливого гостеприимства. Кормят тем, что уже есть, но всех, кто ни зайдет. Даже в ущерб маленькой болезненной Лёле. Даже в ущерб бедному ужину отца.
К маме теперь заходят какие-то странные типы. Их называют «бывшие». Они разные, но их объединяет непременное сочетание изысканной интеллигентности речи, кажущейся нам смешной и манерной, и обтрепанность одежды. Увы, я забыла их имена, почти забыла, постаралась забыть, инстинктивно угадывая в них вестников иной, закрытой от нас маминой жизни.
Впрочем, почему же закрытой? Мы, конечно, не бываем там, где по вечерам пропадает мама. Но она любит нам рассказывать и рассказывает живописно, как собираются на Зубовском бульваре у Наталии Алексеевны эти самые «бывшие». Один учился в Пажеском корпусе, другой начинал жизнь в гвардии и чудом уцелел. Все они примерно мамины ровесники, все не доучились – не успели до революции, не участвовали в белом движении – тоже не успели по возрасту. Все бедны, занимают какие-то маленькие канцелярские должности, ютятся в каморках, иронически вспоминают нереальное прошлое с поместьями и боннами. И забываются вот в таких скудных вечеринках с водочкой и колбаской «среди своих», где так восхитительно поет «старуха Ланская». Мы постоянно слышим от мамы о графине Ланской, неграмотной цыганке, некогда пленившей своими песнями блестящего офицера Ланского, женившегося на ней. Теперь она доживает вместе с сыном на Смоленском бульваре № 24. «Ах, если бы вы видели, как бесподобно пляшет Сережа Ланской! – рассказывает нам мама, делая руками какие-то неуловимые, „цыганские“ движения. – Как он пляшет! Старуха играет на гитаре, а он пляшет. И не скажешь, что бывший офицер. Настоящий таборный цыган. Когда он входит в раж, он даже сапоги скидывает. „Подождите, maman“, – говорит он и тут же разматывает портянки, чтобы кончить пляску босиком. „По-нашему“, – говорит он. Настоящий цыган. А соседи снизу уже стучат щеткой в потолок, им, видите ли, шум мешает». Мама упоена вечерними впечатлениями и рассказывает о них нам, детям, подробно и, как всегда, артистично. Не упоминает она только одного имени. Его мы пока не знаем.
Из старых знакомых у нас теперь бывали запросто только Лёля Видонова и Лёля Капеллер. Редкие же «званые» вечера происходили с участием новых маминых друзей. Отчетливо из них помню только Сашу и Катю Ковалевских, молодую супружескую пару, бедную и жалкую. Взрослые о них говорили: «Знаете, Саша учился в Пажеском корпусе вместе с Тухачевским. И тот и сейчас поддерживает с ним отношения. Удивительно!» Сашу и Катю Ковалевских расстреляли вслед за их знатным другом. Я узнала об их судьбе из шепота взрослых.
Уже в 80-е годы я осторожно спросила маму: а были ли у них с нашим отцом политические расхождения и не сыграли ли они роли в их разрыве? Мама ответила скупо и неоткровенно: «В начале 30-х – не было, а потом мы перестали говорить о таких вещах». Не мне бы она это рассказывала. Мама-то никогда не переставала говорить о «таких вещах». Она обо всем говорила громко, почти открыто и очень неосторожно. Нас остерегала, а сама, кажется, ничего не боялась. И как Бог ее уберег? Папа же все больше замыкался в себе.
Теперь-то я уверена, что появление в нашем доме маминых новых знакомых как-то косвенно связано с общими событиями 30-х годов, с маминым к ним отношением. Папа молча ему сопротивлялся, не имея убедительных аргументов в защиту происходящего, но и не разделял маминого пылкого и резкого неприятия его. Хотя у самой мамы, в отличие от ее сестер, никогда не было ни аристократических претензий, ни почтения к громким дворянским фамилиям. Она и эту сторону российского прошлого и своего происхождения воспринимала прежде всего артистически. Она упивалась любыми пестрыми красками, она иронически обыгрывала любую яркую характерность. Как с удовольствием воспроизводила она речь смоленских или владимирских баб, так же со смаком она передразнивала изысканные и смешные в нашем грубом быту интонации какого-нибудь ее обтрепанного гостя. Вот она пригрела его участием и накормила, чем смогла, он вышел 20 В наших переулках за дверь, чтобы исчезнуть в своем призрачном бытии, а мама тут же со смехом воспроизводит его речь, напоминающую речь качаловского барона из горьковского «На дне».
Надо сказать, что никаких политических разговоров именно с этими «бывшими» у нас в доме не велось. Они-то как раз были самыми аполитичными. Испуганные и униженные в ранней молодости, они целиком ушли в борьбу за нищенское выживание и в самоиронию, словно всё еще не могли поверить, что это им, именно им, уготовлена и до самого конца уготовлена такая жалкая участь. Политические дискуссии, например восхваление Столыпинских реформ в противовес коллективизации, мама скорее могла начать с соседями по квартире, со случайными собеседниками в переулке, а еще скорее с фанатически убежденной в идеях социализма комсомолкой Ириной Краевской (Пультей), всеми силами открещивающейся от своего дворянского происхождения и постепенно порывавшей с родственниками, невольно напоминавшими о нем. А вскоре мама продолжит подробные дискуссии с нами – ее подрастающими детьми и с нашими друзьями. А с папой? Этого я не знаю.
14
И снова в памяти всплывает лето – грустное, дождливое, несчастное лето 1935 года. Мы провели его в деревне Головково по Ленинградской железной дороге.
В Серебряном переулке, в квартире Краевских, появились новые жители, брат и сестра Сергеевы. Это наши тетя Лёля и дядя Ваня поменялись с ними комнатами, переехав в большие в Николопесковский переулок. Полина Васильевна была преподавателем ботаники в Московском университете. И она соблазнила нашу маму «подработать» летом: снять дачу в выбранном ими, ботаниками, месте и за плату собирать и сушить травы для пополнения университетского учебного гербария. С зимы мы все весело готовились к будущей деятельности. Мама оживленно описывала ее нам: так мы обычно летом просто гуляем и собираем букеты, а тут за то же самое нам будут платить деньги. Оказалось так да не так.
Деревня Головково с действующей тогда церковью располагалась в километре от платформы того же названия – это была следующая станция за Подсолнечной, теперешним Солнечногорском. Деревню обтекал чистый светлый ручей, кое-где запруженный, и мы с удивлением узнали, что этот ручей – исток довольно известной реки Истры. В то лето она разбухла от непрерывных дождей даже и в самых верховьях, и в сенокос быстрый поток уносил на себе копны сена, смывая его с лугов.
Ненастье имело для нас, сборщиков гербариев, губительное значение. И, казалось, что самое неприятное тем летом была непогода. Но потом, через годы, и она стала мной восприниматься как символический знак – предупреждение близящихся несчастий.
Университетские ботаники жили в том же Головкове, они показывали маме первые образцы очередного растения, подлежащего в определенное время сбору, и учили ее способу сушки. Лопаточки, сетки, бумагу для прокладки сушащихся растений они тоже нам вручали. Но оказалось, что выкопать, не повредив корня, пятьсот штук даже погремков не так-то легко. А вот попробуйте найти нужное количество (сотни!) раковой шейки, выкопать ее, разрезать ланцетом ее толстый длинный корень – иначе его не просушишь (где, кстати, это растение, кто его видел в наших лугах в последние десятилетия?). А дождь идет и идет. А обуви и одежды подходящей у нас, конечно, нет. И мы топали целыми днями по лугам и болотам босиком, в тяжелых осенних пальто, с лопаточками и сумками в руках, проклиная мысленно некогда любимые цветы и всю ботанику скопом. Но вслух не роптали. Слово «надо» и мамин приказ были для нас неотменимы и в мои одиннадцать, и в Алешины восемь лет. Маленькая Лёля уныло тащилась за нами, повторяя русские и латинские названия растений. Но какие же тогда были луга! Сколько вокруг цветов, исчезнувших теперь! Перевязанные веревками сетки заполняли нашу единственную комнату, а когда изредка выглядывало солнце, мы срочно вывешивали их на плетень нашего палисадника, солнце тут же пряталось, и мы снова тащили проклятые сетки в дом.
Однако, дождь и ботаника только окрасили цветом печали то лето. Было в нем еще что-то гнетущее, что я не могла определить словами. Оно явственно прорвалось в день очередных маминых именин, такой же серый и сырой, как и все то лето. Вместо семейного праздника с малиной и ромашками на этот раз именины вылились в пьяную пирушку маминых гостей – вот тех самых, что были так тихи во время дневных посещений нас в Москве. Именно в тот день я впервые увидела и Николая Николаевича.
Был он сыном, кажется, Калужского предводителя дворянства; впрочем, может быть, и меньшего города той губернии, и вместе с матерью и отцом жил в одной квартире с Маклаковыми, занимая в этом страшноватом пристанище с дверями красного дерева крошечную комнатенку. Служил же где-то бухгалтером и был, по словам всех знакомых, прекрасным гитаристом. От него недавно ушла жена, и он, по рассказам мамы, очень страдал от разлуки с дочерью, которой было, наверно, лет десять. Большой, широкий, темноволосый, он был, вероятно, красив какой-то ленивой, спокойной красотой, мне же не понравился с первого взгляда. Или, может быть, то было не тогдашнее первое впечатление, скорее всего безразличное и смутное, а то, что наложилось на него позднее, – антипатия и презрение. Мое. А говорили, что он был хорошим человеком.
В дождливый день в деревенском доме за дощатой перегородкой сыро и тесно. В шумной и пьяной толкотне взрослых явно не до нас, мы здесь лишние. И я тихонько, никем не замеченная, ускользаю сначала из-за стола, потом и из избы. Забираюсь в сарай, но прошлогоднего сена в нем почти уже нет, а нового еще нет, и согреться нечем. Кажется, кончился дождь? Брожу неприкаянная вокруг дома. Устав, ложусь на чисто промытое дождем и едва подсыхающее деревянное полотно какой-то сельскохозяйственной машины, брошенной возле сарая, и, закрыв глаза, горько-горько плачу, не зная толком о чем: от омерзения к запаху водки, от своей ненужности. И вдруг ощущаю на голове прикосновение большой сухой ладони. Открываю мокрые глаза: папа. Он присел рядом со мной и молча гладит меня. От ласки я начинаю рыдать еще пуще, но постепенно успокаиваюсь. Мы с ним не говорим, но я знаю, что нам обоим больно и о причине этой боли вслух говорить нам нельзя.
15
От сырого ли лета, от постоянной ли печали, от чего ли еще, но вернувшись в Москву из деревни, я начала постоянно болеть. К ноябрю моя болезнь разыгралась не на шутку. Я лежала с очень высокой температурой и без всяких признаков других недомоганий. Отчаявшись, мама попросила посмотреть меня Костю Григоровича – молодого военного врача, давнего приятеля маминого двоюродного брата Колюши, впоследствии медицинского академика Николая Александровича Краевского.
С раннего детства ты считали Костю и нашим другом, потому что, едва встретившись с нами в Серебряном, он тут же начинал веселую возню и позволял нам то, что ни один взрослый никогда бы не позволил: общими усилиями повалить его на диван, внезапно набросить ему на голову его же шинель, запереть его снаружи в уборной. Сколько ему было тогда лет? Двадцать восемь? Тридцать? Для нас он – большой мальчик. И нисколько не похож на всегда серьезного, хотя и ироничного, Колюшу. Появление Кости Григоровича у нас в Каковинском воспринимается нами не как визит врача, а как праздник. Да и приходит он как щедрый гость – с громадными кульками в руках. В них всевозможные вкусные вещи, в том числе фрукты, которых мы никогда не видим. Костя тихо расспрашивает маму, слушает меня черной гладкой трубочкой, берет у меня из пальца кровь, а потом шепчет мне на ухо: «У тебя, наверно, паратиф, и послезавтра, когда будут готовы анализы, тебя посадят на очень строгую диету. Поэтому сегодня и завтра ешь как можно больше фруктов. Но уж потом – ничего такого, ни-ни. Договорились?» С точки зрения медицинской, вероятно, такой совет-разрешение был не очень правильным. Но как же я за него благодарна Косте! За доверие, за щедрость, за веселость. Педагогически он вел себя безукоризненно: дав ему слово, я потом сама следила за своей диетой и никогда не роптала на нее. Я же обещала ему.
Костя Григорович вскоре уехал жить и работать в Ленинград. Мы стали видеть его очень редко, а после войны я вряд ли его вообще встречала. Знаю, что у него никогда не было своих детей – это у него-то! Знаю, что, овдовев, он одиноко доживал свой век на одной из роскошных набережных Невы. И, наверно, он и не вспоминал нас, его давних обожателей, тощую длинную пациентку, свой точный диагноз и рискованные советы врача. Но я ничего не забыла. И его черноволосая голова с веселыми глазами, быстрые движения ладной фигуры в новенькой гимнастерке и высоких блестящих сапогах остались в памяти ярким и светлым пятном в сумрачной атмосфере тех лет.
Как раз в 1935 году Алеша пошел в школу, а мама стала в ней учительствовать. Алеша поступил, как положено, в первый класс, но через несколько дней оказалось, что ему там нечего делать. Сыграли роль наши с ним постоянные игры в учителя и ученика, чему способствовала подаренная нам кем-то настоящая парта – одноместная, но тяжелая, с откидывающейся крышкой. Парта возбуждала педагогическое вдохновение, я передавала брату всю полученную в школе премудрость. Мало того что, едва придя из школы, я усаживала брата за парту и, ходя вокруг нее, диктовала ему все, что писала и считала в этот день на уроках, я еще заставляла его в мое отсутствие писать дневник. Записи были кратки: «Сегодня лазали по деревьям», «Сегодня на обед были аладьи», «Играли в футбол», «Опять были аладьи». Справившись у мамы, я пыталась внушить Алеше, что оладьи пишутся через «о», он бунтовал и говорил, что «так невкусно» и что если я буду заставлять писать его «о», он перестанет играть в школу. Испуганная перспективой лишиться права командовать, я не настаивала на правописании.
В результате наших игр и при содействии мамы через несколько дней после начала учения Алешу перевели из первого во второй класс. Но и досталось ему там! Маленький, в очках, с домашними интеллигентскими привычками, он прошел тогда жестокую науку детского «воспитания». Но узнали мы об этом через десятилетия. У него в жизни будет еще много таких «уроков». Однако, в нашем доме не полагалось жаловаться на трудности и обнаруживать горести.
У мамы не было педагогического образования. Но она постоянно толклась в нашей школе: ставила спектакли, занималась отстающими, водила детей в музеи. Учителей не хватало, и однажды директор попросил маму заменить заболевшего учителя. У мамы преподавание получилось настолько блестяще, оно настолько ее увлекло, что скоро стало очевидным, что здесь она и нашла профессиональное призвание.
Начав преподавать в седьмой школе, мама сблизилась с Анной Ивановной Волковой, учившей наш четвертый класс как раз в том году новому предмету – истории. Анна Ивановна стала бывать у нас в доме. Мы, дети, любили ее появления. С неподдельным увлечением рассказывала она нам все, что только что прочитала сама. Я впервые услышала от нее сюжет «Ильской Венеры» Мериме. Широко раскрытые от ужаса серые выпуклые глаза Анны Ивановны придавали рассказу дополнительную выразительность. И ложась вечером в постель, я скашивала взгляд в сторону, опасаясь увидеть и на своей подушке черный бронзовый профиль. Прочитав потом Мериме, я такого страха не испытала. Любила Анна Ивановна нам рассказывать и о своей сиротской юности, когда ее родители умерли от холеры на Волге в 1921 году. Знали мы и подробности ее жизни в Малаховском интернате, о ее молодых путешествиях пешком по Кавказу. Трудно было потом, десятилетия спустя, угадать в унылой женщине, больной базедовой болезнью, те черты энтузиазма и увлеченности, которые привлекли нас к ней в детстве.
В ту зиму долгой болезни мой обычный день распадался на две четкие половины. Первую я проводила лежа в одиночестве (кто на службе, кто в школе, а новая домашняя работница, веселая Настя – в очередях). Я глотаю и глотаю без всякого разбора книги – «Лесного бродягу» Габриэля Ферри и «Братьев Карамазовых», «Войну и мир» и «Капитана Педро» неведомого автора, «Борьбу за огонь» и «Тысячу и одну ночь»… Книги читались нами по кругу – я первая, потом Алеша, потом Андрей Турков (он прочитывал книги с невероятной быстротой), потом остальные друзья по очереди. Или в обратном порядке, смотря чья книга или кто ее раздобыл. В промежутках между чтением я сочиняю сюжеты игр, в которые мы будем играть все вместе, когда я поправлюсь или хотя бы на время встану с постели. Ведь вторую половину дня со мной разделяло шумное сборище детей – не только брат и сестра, но и наши умножающиеся школьные друзья, а также мамины ученики. Все они постоянно заполняют нашу комнату, несмотря ни на какие болезни.
Было несколько излюбленных игр, нами изобретенных, но каждый раз их надо было разнообразить в подробностях. Едва только Алеша возвращался из школы, как я встречала его уже новой идеей: «А давай сегодня будем играть так…» Быстро делаются за единственным нашим столом уроки – Алеша быстрее всех, и мы погружаемся в иллюзорный театральный мир – без зрителей. Если мы играли «в театр» (в толстовском употреблении этого слова – то есть в кавказских горцев), то стол покрывался одеялом и превращался в «саклю», на головы навертывались полотенца, и ели мы тогда исключительно на полу. Нам разрешали. Если мы играли в «докторов Григашвилли» (и откуда только взялось такое название?), то старшие изображали двух братьев-врачей, а младшие – их пациентов, терпеливо сносящих над собой всяческие манипуляции. Особенно старательно мы мучили «осмотрами» и «процедурами» маленькую Лёлю.
А когда Марья Александровна Крестовская, бывшая преподавательница родителей в театральном училище, первая жена философа Шпета (уже, кажется, арестованного к этому времени, но еще не расстрелянного?), подарила нам большого гипсового медведя (ума не приложу, каково было его истинное назначение!), тут же возникла новая игра: «Ресторан „Белый медведь“». Тогда старшие дети превращались в услужливых официантов, а младшие – в капризных посетителей ресторана. Особенно выразительна была входящая в «ресторан» под ручку пара – курносый Алеша и носатая Суламка Башмачкина (Суламка – плебейское российское превращение библейской Суламифи). Моя одноклассница, Суламка была крошечного роста и вполне подходила на роль дамы моего маленького брата.
Эмблемой же ресторана служит гипсовый медведь, поставленный на хрупкий столик, за которым, по преданиям, любил сиживать в Париже Тургенев в гостях у нашей прабабушки. Ну и так далее, все новые и новые игры или вариации старых. Или эти игры-забвения относятся к более позднему времени? Я же так больна! Но детская жизнь как симфония – ее мелодии сливаются, расходятся и снова сходятся, оттеняя и подчеркивая друг друга и при этом ведя основную тему.
Вероятно, паратиф не заразен? Иначе чем объяснить эту толпу детей вокруг моего ложа, когда я почти совсем не встаю? Или паратиф[8]
давно прошел, а я лежу, потому что у меня держится и держится температура? Я не учусь. Стоит мне на день-другой пойти в школу, меня начинает лихорадить и температура снова повышается. И, главное, я не хочу поправляться. Я не признаюсь в этом и самой себе, но я не хочу быть здоровой. Меня как бы предупреждает какой-то инстинкт: моя болезнь что-то сдерживает, от чего-то предохраняет. Мама заботливо меня лечит и разрешает нам самые невероятные игры, переворачивающие всю комнату. Только чтобы к приходу папы все было убрано! Мама реже стала уходить из дому по вечерам. Устает в школе? Или ей лучше с нами, чем с Маклаковыми и Ланскими? А папа все чаще уезжает в далекие длительные командировки.
16
Это случилось в начале января 1936 года.
Папа был в отъезде, мамы не было дома. Мы, дети, рано улеглись спать за своей высокой ширмой. Младшие рано уснули, а мне, как это часто случалось, не спалось. Я тихо лежала под одеялом, по-прежнему мечтая об арктических экспедициях и необитаемых островах. Когда я услышала поворот ключа в наружной двери, а потом скрип двери в комнату, я по звукам уже поняла, что мама вернулась не одна. При отсутствии телефона гости довольно часто заглядывали к родителям неожиданно и поздно – поболтать, выпить чашку чая. Вот и сейчас мама прежде всего пошла в кухню. Загудел примус, звякнула крышка чайника. Я поднялась на колени в своей постели и через редкую ткань ширмы увидела, что в «папином кресле» сидит Николай Николаевич. Убедившись в том, что не происходит ничего необычного, я снова юркнула в постель. Вернулась в комнату мама тихо, стараясь не звенеть посудой, поставила ее на стол. Потом она зашла за ширму и спросила: «Ты спишь?» Мне часто доставалось за то, что я поздно засыпаю (как будто в том была моя вина), и потому на всякий случай я не ответила на мамин вопрос, притворяясь спящей. «Она спит», – зачем-то объяснила мама своему молчаливому гостю. И пошла в кухню за чайником. Она разлила чай и стала что-то резать ножом. Все это было привычным. Только очень уж было тихо, обычно с нами, спящими детьми, не церемонились. Запахло чем-то вкусным, мне захотелось есть. Я снова поднялась на колени, чтобы посмотреть, стоит ли «просыпаться» ради угощения. При приглушенном свете настольной лампы я увидела через холст ширмы четкий силуэт двух фигур. Николай Николаевич по-прежнему сидел в кресле, а мама присела на его подлокотник, и Николай Николаевич обнимал ее за талию одной рукой. Видно было, что он делал это привычно, небрежно и при этом изящно, как он обычно держал свою гитару. Сердце у меня гулко заколотилось, но очень осторожно и бесшумно я опустилась с колен в постель под одеяло. В комнате стали пить чай, все так же молча, а я лежала, затаив дыхание, и отчетливо представляла у себя в руках большой кухонный нож. Я медленно и сладостно вонзала его в грудь Николая Николаевича. И раз, и другой, и третий. А мама снова зашла за ширму и снова спросила: «Ты спишь?» Я молчала, отчаянно сдерживая дыхание. Потух свет, и из комнаты слышалось лишь какое-то отвратительное шелестение. Я резко поднялась и щелчком выключателя, находившегося в ногах моей кровати, залила комнату ярким светом. Выйдя из-за ширмы, я молча прошла мимо полураздетых мужчины и женщины и, зайдя на секунду в уборную, тут же вернулась. Потушив свет, я молча снова легла в свою постель. В темноте комнаты стояла настороженная фальшивая тишина.
Через какое-то время мама, полностью одетая, зашла за ширму и снова спросила: «Ты спишь?» Я не ответила. Мама присела на край моей кровати и стала мне шептать: «Понимаешь, Николай Николаевич опоздал на трамвай. Ему придется переночевать у нас. Но никто не должен этого знать. Ты же понимаешь, что теперь без прописки опасно ночевать не дома». Я молчала. Я знала про прописку. Но знала и другое. Смутно, но знала. Чем неотчетливее, тем отвратительнее. Меня тошнило. Физически тошнило. Казалось, что мучает запах копченой колбасы со стола. Я долгие годы потом не могла выносить этого запаха, запаха того сорта, что назывался «охотничьи колбаски». А мама снова зашептала: «Подвинься. Мне же негде спать. Дай я лягу с тобой». Я не шевельнулась. Мама вышла из-за ширмы и села в кресло. С тахты, с родительской тахты, отчетливо раздался мужской храп. И к моему тошнотворному отвращению прибавилось презрение: «Так ведь он ее не любит!» Мне не было еще двенадцати лет, но я поняла, что если один страдает, а другой спит, значит, этот другой не любит. Я даже пожалела маму. Не прощала, но брезгливо жалела.
Так неподвижно и молча провели мы несколько часов до того предрассветного времени, когда мама разбудила гостя и, что-то ему шепча, осторожно выпроводила его на лестницу, опасаясь уже не меня, а соседей. Потом мы обе все-таки заснули.
После той страшной ночи – на всю долгую жизнь страшной – наступило мучительно фальшивое утро. Были зимние каникулы, и все оставались дома. Мама была со мной непривычно ласкова. Этот неестественный тон ее речи усиливал мое презрение к ней. Воображение по-прежнему мучил вид ножа в моей руке и тошнотворный запах колбасы, которую младшие дети давно уже съели. Ища спасения от непривычных ощущений в привычных действиях, я попросила маму измерить мне температуру. Та оказалась несколько повышенной. Мы с мамой обе обрадовались этому обстоятельству, и обе старательно преувеличивали мое недомогание. Так обеим было легче: мама привычно лечила заболевшего ребенка, ребенок непривычно капризно принимал заботы. Лежа на узкой пружинной скамеечке под окном, прижавшись всем дрожащим от озноба телом к слабо греющей батарее, я пыталась читать любимый мной в то время роман Габриэля Ферри «Лесной бродяга», но не могла ни на миг погрузиться в столкновения индейцев и благородных авантюристов, обычно неизменно меня увлекавшие. Перед моими глазами был все тот же нож, медленно поворачивающийся в большом чужом теле. Лихорадка усиливалась. К вечеру температура у меня поднялась по-настоящему.
Так началась длительная и непонятная моя болезнь, в которую и я, и мама прятались, как улитки в раковину, – от опасности, от боли, от воображения, от презрения – от несчастья.
Вскоре после трагической для меня ночи вернулся из Красноярска папа. Я не смогла к нему ринуться со всегдашней открытой любовью. «Что с тобой?» – спросил он, целуя меня и пытаясь заглянуть в глаза. Я зажмурилась и уклончиво ответила: «Ничего». – «Что с ней?» – строго и тревожно спросил он маму. Она ответила: «Больна. Все время к вечеру температура. Ничего не могу понять. Надо сделать рентген».
К моему удивлению и облегчению рентген показал затемнение в правом легком. Я с гордостью держала в руках большой полупрозрачный лист с его изображением. Оно давало мне право на болезнь, на безответственность перед жизнью. Как рано мне понадобилось подтверждение этого права!







