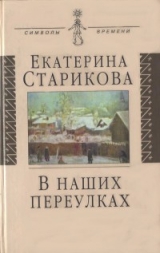
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Но вот кончился выходной день – одинокий или общий, скучный или интересный – и снова непонятная мрачная школа.
Из общей массы детей первым я выделила рыженького мальчика со странным именем Ким Попвасев. Я и сейчас не знаю, как надо писать эту фамилию. Не через черточку ли? Мама узнала, что этот мальчик по национальности коми. Мне показалось это замечательным, в этом было что-то «северное».
А однажды ко мне подошел полноватый, хорошо одетый одноклассник Володя Жаров и заносчиво объявил: «Мой папа – поэт», – «Такого поэта нет», – уверенно ответила я ему. «Нет, есть», – «Нет, нету». Дома обратилась к авторитету мамы: «Правда, такого поэта нет – Жаров?», – и была посрамлена: «Есть такой. И довольно известный. Мне, правда, его стихи не нравятся». С тех пор я стыдливо избегала нарядного одноклассника.
Надо заметить, что около половины мальчиков в нашем классе носили имя «Владимир»: большинство моих одноклассников было 1924 года рождения, года смерти Ленина, мы были «ленинским призывом». И мой первый «поклонник» носил это имя: Вовка Петухов. Маленький, тощий, с серым то ли от грязи, то ли от недоедания лицом, он был младшим отпрыском громадной семьи, обитавшей в одном из подвалов наших переулков. Восемь братьев Петуховых наводили страх на окрестных детей. «Петухов, когда ты прекратишь безобразничать?» – то и дело слышался в классе окрик учителя. И однажды последовал дерзкий ответ: «Когда меня посадят за одну парту со Стариковой». И посадили. И три дня я молчаливо мучилась от толчков и щипков Петухова, пока его снова не отправили на заднюю парту.
В «малом зале» нашей школы старый толстяк в темном лоснящемся костюме и с галстуком-бабочкой на шее старательно и увлеченно учит нас петь. Он перемежает классику с обязательным революционным репертуаром. Когда надо петь «И мой сурок со мною», у меня еще что-то получается. Но когда надо два раза вывести на разной высоте концовку «Интернационала», я сама слышу, как фальшивлю. Отметки еще не ставят, и наш учитель пения вводит собственные словесные поощрения. Слушая звонкий голос моего одноклассника крошечного, легонького Алеши Стеклова, учитель умильно улыбается и говорит ему: «А тебе в рот – сладкий пирожок». Когда же я пытаюсь воспроизвести «Интернационал», учитель только морщится и качает головой. Мне и воображаемого пирожка не достается. Мое самолюбие страдает, и так я впервые из общей массы детей выделяю Алешу Стеклова. Реванш за неудачи в пении я беру дома. Там я учу брата всему, что узнаю в школе, в том числе и песням: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц…» Там я хвалю и порицаю, в глубине души признавая, что и этот Алеша поет куда лучше меня.
А мама не только познакомилась, но почти подружилась с нашим учителем пения. При виде ее он улыбается так же сладко, как и слушая Алешу Стеклова. Сблизилась мама и с моей учительницей, с хорошенькой и юной Фирой Григорьевной, огорченно качавшей головой, говоря маме о моей бестолковости. Не желая варить нам кашу, мама успевает часто бывать в школе. Особенно часто, конечно, во времена «скользящего графика» выходных дней. Ведь мама тоже работает.
2
Работала мама в начале 30-х годов в ГОИНе – Государственном Океанографическом Институте. Ее устроила туда Елена Капеллер, подруга по Чернявскому институту «благородных девиц», сама работавшая в ГОИНе.
Мама там была всего-навсего одним из секретарей дирекции, но по активности своей натуры вошла всей душой в дела института и, конечно, приобщила нас, детей, к ним. Ведь институт-то был океанографический! В самом слове этом звучала для нас романтика. В момент общего повального увлечения арктическими открытиями, поэзией полярных путешествий, мы, Стариковы, оказались внезапно приближенными к их практике. Я мечтала о настоящей зимовке, о ледяных торосах, о переходах на лыжах через тундру, об оленьих упряжках, о встречах с тюленями, моржами и белыми медведями. Ведь так недавно была экспедиция Нобиле!
Однако, благодаря маминой работе, мы узнали тогда не только героическую и парадную сторону «освоения» Арктики и Антарктики, но и буднично трудную. Мы слышали от мамы о маленьких и безвестных научных экспедициях, отправленных в Ледовитый океан без должной экипировки, без достаточного количества припасов; о молчаливых жертвах этих экспедиций и о раздавленных льдами пароходиках, не приспособленных для арктических плаваний; о скромном траурном митинге в ГОИНе по случаю очередной гибели ученых и моряков. Но знали мы и о бескорыстной отваге этих энтузиастов, готовых к жертвам и опасностям во имя науки. Мне кажется, или в самом деле я помню даже фамилии некоторых пропавших тогда в Арктике океанографов: Денисов, Эдельсон, Зенкевич… Кажется, так. Мама велела нам запомнить эти имена. А вот названия их погибшего судна уже вспомнить не могу. Осталась в памяти только детская скорбь о гибели во льдах отважных молодых людей.
Мы пили рыбий, тресковый, жир, привезенный в полуголодную Москву в больших жбанах теми исследователями, кому повезло вернуться с севера. Они по-братски делились добычей с остальными сотрудниками ГОИНа, и мама с торжеством, как драгоценность, вносила в нашу комнату бидончик – тот самый, памятный мне по поездке к медовым старичкам. Свежий тресковый жир не был похож на отвратительное вонючее содержимое аптекарских бутылочек, считавшихся нашим спасением от малокровия. То был кошмар нашего детства. А этот рыбий жир мы выпивали с благоговением, остро чувствуя себя приближенными к героизму арктических открытий. И мама, и я носили в то время воротнички, изготовленные из тонкой планктонной сетки, с помощью которой отлавливались из океана экспонаты для изучения. Других-то украшений не было.
Как и всех в институте, маму наградили серебряным с синей и белой эмалью значком с надписью «ГОИН». Был десятилетний юбилей института. При мамином равнодушии к вещам значок очень скоро перекочевал в наши руки. Мы сумели им распорядиться скоро и достойно. Он был водружен нами на могиле любимой аквариумной рыбки, торжественно похороненной в сугробах Новинского бульвара. На этой могиле было поставлено нами два памятника, два нагрудных значка: «ГОИН» и «Друг детей». Видимо, второй выдавался как награда за помощь беспризорникам. Мы были уверены в оправданности обоих «памятников». Рыбка явно имела отношение и к водным пространствам, и к нам, детям.
В 1931 году, как я уже вспоминала, умерла в Нижнем Ландехе наша бабушка Марья Федоровна Старикова, а в Москве, в Серебряном переулке наша прабабушка Елизавета Семеновна Краевская. Мы увлекались похоронами и разговорами о смерти. Вместе с Андреем Турковым мы строили планы оживления людей и животных. Из горчицы, перца и уксуса и прочей «дряни» мы составляли эликсиры, от которых, по нашему мнению, должны были восстать и мертвые. А пока хоронили рыбок и замерзших птиц.
Зачем мама возила меня в свой ГОИН зимой 1931–32 года? Не знаю, но помню две поездки туда. На замерзшем трамвае, набитом людьми, через всю Москву, в Сокольники. Институт помещался в полуразрушенной громадной церкви. Ничего интересного для себя я там не обнаружила: неестественно высокие потолки, голые стены, канцелярские столы, скучные бумаги, незнакомые люди и холод. Как и везде в ту зиму – холод: дома, в школе, в трамвае и здесь – в институте. И как мама находила в этом скучном месте столько привлекательного?
Куда более сильное впечатление, чем сам ГОИН, на меня произвело наше с мамой посещение фабрики-кухни, недавно построенной возле института, куда он и был «прикреплен» на кормление.
Столовая фабрики-кухни делилась на две части: нижний зал – для рабочих и рядовых служащих, верхний, соединенный с нижним несколькими широкими ступенями и деревянной балюстрадой, – для ИТР, то есть инженерно-технических работников. Я тогда впервые услышала это распространенное в 30-е годы обозначение. ИТР в то время были объявлены привилегированным слоем.
В первое мое посещение ГОИНа мама повела меня обедать в рабочую часть столовой, где, видимо, ей и полагалось есть. Еда была отвратительна: пустая мутная похлебка, липкая перловая каша и ломоть хлеба. Привередничать, однако, не приходилось, поделив один обед пополам, мы с мамой все съели. Я ела и смотрела на оборванца с одутловатым лицом, ходившего между столами и жадно следившего за обедавшими. Если кто-нибудь не доедал своей порции, он кидался на остатки, как зверь, и жадно вылизывал алюминиевую миску. Я смотрела на него с ужасом. Мама объяснила мне, что человек этот, вероятно, приехал оттуда, где сильный голод, а голод во многих местах. Ты видишь сколько нищих на улицах? Сколько их звонит в нашу дверь? Я, конечно, видела их. Но чаще всего это были крестьяне в лаптях и домотканых коричневых поддевках. Они протягивали умоляюще руки к нашему скудному пайку у булочной. Там мы не без сожаления отдавали им довески, если они были маленькие. Большие полагалось приносить домой, а небольшие были в нашем распоряжении. Видела я нищих и у нашей квартирной двери. Но там мы чаще подавали им не драгоценный хлеб, а медные деньги. Крестьяне крестились, принимая милостыню, и благословляли нас. В них было достоинство и благообразие. Отличались они и от ранее нам привычных московских нищих. Еще совсем недавно у дровяного склада на углу Молчановки постоянно стоял слепой человек в черных очках и военной фуражке, при звуке шагов прохожего он повторял всегда одну и ту же фразу: «Подайте Христа ради бывшему офицеру». Его лицо было покрыто синеватыми точками. Следы порохового взрыва, объяснила мама и добавила как бы про себя: «И как не боится признаваться, что офицер».
Человек, вылизывавший миски в столовой фабрики-кухни, вызвал у меня не столько жалость, сколько отвращение. Он почти потерял человеческий облик. Ужас происходящего, может быть, усиливался тем, что совершалось это под светлыми сводами нового конструктивистского здания в соседстве с пальмами и скатертями верхнего итеэровского зала. Стекло и бетон. Равенство и братство. Как мечталось социалистам. Я, конечно, еще не знала слова «конструктивизм», не слышала об утопиях социалистов. Но контраст между необычной сверхсовременной архитектурой и унижением человека почувствовала остро. А теперь вот удивляюсь другому: как терпела охрана столовой голодного пришельца? А охрана была: у входа каждому выдавалась алюминиевая липкая ложка, при выходе сердитая тетка ее отбирала, как пропуск. Это тоже меня поразило.
Когда во второй раз – вскоре после первого – мы с мамой посетили ГОИН и тоже обедали на фабрике-кухне, мы гордо прошли мимо голых засаленных столов нижнего зала и поднялись по ступеням к белым скатертям зала верхнего. Откуда у мамы явилось это разовое право на привилегию? Не уступали ли уезжавшие в экспедиции сотрудники свои талоны оставшимся? Не из-за них ли меня повезли в Сокольники? Не пропадать же обеду? Ничего не знаю. Но под теми пальмами однажды сидела и итээровский борщ ела, а еще – не пробованный никогда до того настоящий шницель. И еще кисель. Каждому – целый обед. А ложку, предварительно чисто облизав, у выхода и в этот раз сдали в строгие руки грубой охранницы. И никаких нищих сверху не заметили.
Но что я все о ГОИНе и о маме? А где же папа? Он часто ездил в командировки в Сибирь, в ту пору чаще всего в Красноярск. Он восхищался этим городом. И привозил из Сибири и показывал нам фотографии енисейских «столпов» – гранитных скал под Красноярском. Нельмы теперь не привозил.
3
Зима 1932–33 годов прошла для нас веселее, чем две предыдущие, потому что дома мы оставались не с чужой домашней работницей, а с Саней Одуваловой.
Приехав осенью с нами из Волкова в Москву, она разместилась в углу общей передней на сундуке за сооруженной папой темно-зеленой шерстяной занавеской. Ей не казалось это ни обидным, ни несправедливым. Что особенного для крестьянской девушки спать «в сенях»? А что это «коммунальные» сени, ее тоже не смущало. Сон у нее был крепкий, вставала она раньше всех в квартире, с соседями быстро сошлась. Мама уходила в ГОИН, целиком полагаясь на Саню. Та весело руководила нашей жизнью. Видимо, чувствуя облегчение от Саниной помощи, мама и решила, что пора нас с Алешей учить иностранному языку. Выбор языка был подсказан обстоятельствами.
Крепко взявшись за руки, осторожно, как нам предписано старшими, мы с Алешей переходим Арбат и идем по Плотникову переулку. В самом его конце по правой стороне стоял тогда крошечный деревянный домик с мезонином (его снесли только в 70-х годах). Мы входим во двор, обсаженный большими кустами сирени, поднимаемся по ветхой скрипучей лестнице, а на площадке ее уже стоит, поджидая нас, стройная старуха с пышной седой прической и в глухом черном платье. Это – Анна Александровна Волоцкая, она – из обширного рода Голициных, тетка многолетнего возлюбленного нашей тети Лели Сергея Дмитриевича Попова. Ровный пробор в черных гладко сверкающих волосах, пышные усы, французское грассирование – таковы внешние приметы этого аристократического воспитанника Пажеского корпуса, преследуемого и постепенно спивающегося изгоя новой жизни. Несчастная любовь к нему сопровождала жизнь нашей тетки лет до тридцати, глухо доносясь и до нас смутной мелодией.
Анна Александровна – настоящая светская дама, сохранившая царственные манеры и в убогой обстановке теперешней жизни. Она принимает бедствия со скорбным достоинством как испытания, ниспосланные ей и ее близким Богом. Она ни на что не ропщет и как бы не замечает ни шаткой мебели, ни замерзшего оконца, ни облупленного таза на табуретке у входа в ее узкую каморку. Мы с Алешей учим: le chien, le chat, la poule. Алеша способней меня и к языку, как и ко всему остальному. Я это быстро самолюбиво и уязвленно понимаю. Но Анна Александровна учит нас еще чему-то, что скорее воспринимаю я как старшая. На всю жизнь запомнила я разговор с ней в канун моих именин в декабре 1932 года. Я пришла на урок, сияя от предвкушения праздника, и с порога объявила, что завтра я именинница. Анна Александровна строго спросила: «И как ты собираешься провести этот день?» Я с удовольствием ответила, что буду помогать маме месить тесто для пирога, а потом придет дедушка из Хлебного, придут мои тети и, конечно, наш двоюродный брат Андрей Турков из Серебряного (вообще-то он наш троюродный брат, но так как он и наш друг, то мы называем его двоюродным). И все принесут мне подарки. Тут Анна Александровна меня прервала: «Ты неправильно понимаешь смысл своего праздника». – «Какой смысл?» – «В этот день ты должна встать рано-рано, раньше всех, – подробно объяснила мне Анна Александровна, – и пойти в церковь. Ты купишь там свечу и поставишь ее перед образом своей святой Екатерины Великомученицы. Это она просит перед Богом за тебя защиты от зла. И только когда ты хорошо помолишься за себя, а раньше еще за своих близких и поблагодаришь святую за их любовь к тебе, ты можешь и месить тесто, и принять гостей, и получить подарки». Я была крайне удивлена.
Никакого направленного религиозного воспитания я, конечно, не получила. Я знала, что старшие родственники, все, кроме папы, бывают иногда в церкви, а потом весело «разговляются» в Хлебном переулке у дедушки. Но я не вникала в смысл этих понятий и обрядов. Сама же, кроме давних младенческих лет, когда церковные праздники были привычны, в церкви на службах бывала только в Ландехе, в Москве же – случайно, и церковные обряды воспринимала чисто эстетически. И в ответ на слова Анны Александровны я тогда, в декабре 1932 года, только фыркнула (чего никогда и ни в каком случае не позволила бы себе в присутствии мамы). Но может быть, не без влияния каких-то разговоров в ветхом мезонине (забытых, как и большинство заученных там французских слов) развилось у меня в восемь-девять лет тайное религиозное чувство. Оно никак не было связано с церковными обрядами, оно, можно сказать, было даже обратно им, потому что о том моем чувстве не знал никто и я ни за что бы ни обнаружила его прилюдно. Но возвращаясь из школы со второй смены, войдя в темный подъезд нашего дома, убедившись, что он пуст и никто меня не видит, я опускалась коленями на холодные широкие ступени нашей некогда нарядной, а теперь запущенной лестницы и истово просила чего-то у Бога, не облекая мольбы ни в слова, ни в определенные желания. Мистическое чувство прямой связи своей маленькой, робкой, но открытой тайнам мира души с чем-то великим и всеобъемлющим родилось во мне безвестно для кого-либо и так же тихо погасло, оставив в памяти след от собственной интимной причастности к безмерности вселенной. И еще некоторые сны…
В памяти сохранились два постоянных детских сна, предвещавших и предварявших очередную болезнь. И оба они чувственно воплощали ощущение бесконечности, пугающей бессмысленностью. Я и слова такого – «бесконечность» – еще не знала и тем более не употребляла, но близость ее присутствия приходила ко мне с каждой болезнью. А болела я часто. Ощущение было отвлеченным, а представало оно передо мной в предельно конкретных зрительных образах.
Вот пол нашей комнаты – самой первой, узкой комнаты у входа в квартиру – вдруг начинает уходить вниз в неведомую глубину, на краю которой я в ужасе и одиночестве остаюсь, зная, что каждое мгновение могу в нее соскользнуть, но все-таки не соскальзываю. И все привычные предметы в комнате – венские стулья, канцелярский стол, моя кроватка с белой сеткой, наш старинный секретер – все они каким-то чудом удерживаются на краю живой, движущейся пропасти. А над ней и вокруг нее висят чьи-то рожи и, глядя прямо мне в глаза, укоризненно качаются. Укоризненно и безмолвно.
Тот сон не имел у меня словесного обозначения. А вот второй имел. Я называла его «Про великана». Конечно, про себя. Я ни с кем не делилась своими тайнами.
Небесное пространство, видное мне не вширь, а в обе стороны в бесконечную глубь, пересечено широкими полосами света, а откуда-то сверху, пересекая эти полосы, но не разрывая их, а лишь изгибая, стремительно летит громадное тело с очертаниями человеческой фигуры, но и не соотнесенное ни с чем человеческим. Неясно, с какой точки пространства я наблюдаю этот страшный стремительный полет, но он нигде не кончается, он ровен и одинаков в пространстве и времени и длится, пока я не просыпаюсь с ясным ощущением ужаса бесконечности.
Мне кажется, что первый сон – из более раннего детства, а второй – из более позднего. И может быть, второй возник после того, как я однажды, проснувшись на рассвете, когда в нашей комнате все еще спали, тихо выскользнула из кровати и, подбежав к окну, встала коленями на пружинную скамеечку, застыв в восторге от невиданного еще мною зрелища восходящего солнца? Собственно, самого солнца я не могла увидеть из-за домов, а видела я только необычное для меня освещенное откуда-то снизу небо, и оно все было прочерчено грядами серых облаков, на равных расстояниях расположившихся друг над другом. Но нет, конечно нет, сон про великана возникал гораздо раньше, а тот восход и параллельные линии облаков лишь напомнили мне тогда повторявшееся сновидение.
Мое детское религиозное чувство не имело ничего общего с теми «русскими» настроениями, которые тоже владели мною одно время в 30-е годы. Их появление гораздо легче объяснить логически и исторически. Но о них ниже.
А именины я свои любила потому, что они совпадали с началом зимы, когда снег только лег на землю пушистым покровом, оттеняя серые ветви старого тополя за нашим окном ярко-белой окантовкой. Серое небо, серый тополь, серые крыши, и все это подчеркнуто и прочерчено белой кистью безупречного художника. В те именины тридцать второго года я получила в подарок только тетрадь для рисования и узенькую коробочку цветных карандашей. Бумаги было мало, как и всего остального, в школе нам выдавали тетради строго по счету в определенное время, и я радовалась папиному подарку. Грубая серая бумага тетради тут же в моем воображении воссоединилась с пейзажем за окном. Не медля ни минуты, я вывела в правом верхнем углу первой страницы тетради дату: 6-е декабря 1932 года (именины праздновали накануне, в выходной день). И скоро весь лист тетради покрылся сетью кривых линий, должных изображать ветви тополя и яблонь за окном. Белой краски не было, картина явно получалась бедноватой. Тогда на одной из веток я, как могла, нарисовала серо-черную ворону, «совсем как у Серова», – утешала я себя, и хотя продолжала сожалеть об отсутствии белой краски, но любовалась той мысленной картиной, которую рисовало мое воображение за убогим рисунком.
4
Странная вещь память: почему запоминаются навечно одни дни, не отмеченные особыми событиями, и пропадают без следа тысячи других? Так запомнился мне снежный морозный день 8-го марта 1933 года. Отчетливо вижу две детские фигуры: они весело бегут по Плотникову переулку, перепрыгивая через каменные тумбы у деревянных ворот старых особняков и соревнуясь с холодными игривыми струями поземки, сметающей сухой снег с белых утоптанных ногами тротуаров. А вот и знакомый серый домик, и узкая скрипучая лестница, и сумрачный свет через замерзшее оконце, и снова le chien, le chat, и гладкие карточки лото в замерзших руках. Может быть, то был наш последний урок в мезонине? Я не помню весенних походов туда. Может быть, наступивший совсем уж голодный 1933 год показал нашим родителям невозможность выкроить из скудного бюджета и ту мизерную сумму, что полагалась Анне Александровне за ее педагогические усилия? А может быть, она заболела и вскоре умерла?
А особо запомнился мне, собственно говоря, вечер того дня. Мама почему-то долго не возвращалась из своего ГОИНа. Я, сев делать уроки, обнаружила, что у меня нет какого-то необходимого мне карандаша, и стала просить у Сани несколько копеек, чтобы купить его. Саня уговаривала меня никуда не ходить: ты посмотри только, какая метель, куда это – на ночь глядя? Я не послушалась и пошла.
Арбат был пуст. Ветер гнал сухие струи колючего снега по чисто выметенным заледеневшим тротуарам и пронизывал мое ветхое пальтишко. Ближайший канцелярский магазин был уже закрыт, я упрямо направилась в тот, что находился за Староконюшенным. Переходя Николопесковский (в будущем улицу Вахтангова), я поскользнулась и упала. И тут же увидела свет фар двигающегося на меня автомобиля. Я пыталась встать, но скользили ноги, скользили руки, опиравшиеся на лед. Автомобиль неуклонно, хотя и очень медленно приближался. Кругом – ни души. Я чувствовала себя букашкой, бьющейся в свете лампы. Мне казалось, что гибель неминуема. Но автомобиль, приблизившись ко мне почти вплотную, тихо и плавно объехал меня и проскользнул на Арбат. Как только померк слепящий свет фар, я тут же поднялась на ноги. Магазин у Староконюшенного был уже закрыт. Саня встретила меня в передней шепотом: «А что тебе говорили? Неслух. Вот пожалуюсь матери. Она ведь дома». Но конечно, не пожаловалась. Она-то была истинным «другом детей». Я тоже молчала, хотя весь вечер у меня дрожали руки.
Мама с Лёлей Капеллер сидели за столом и пили крепкий горячий чай, оживленно разговаривая и не обращая на мое появление внимания. Их задержка объяснялась и общим собранием в институте по случаю 8-го марта (вот я и запомнила дату: мама удивлялась, что весна на носу, а такой мороз), и тем, что трамваи не шли из-за заносов. Мама и Лёля Капеллер полпути из Сокольников прошли пешком.
Русская метель, ни с чем не сравнимая цена крова над головой в наш лютый мороз, уют чаепития с бесконечными пылкими разговорами – эти постоянные черты нашей жизни в любые времена я впервые сознательно приняла в сердце в вечер 8 марта 1933 года. И тогда же осознала новый облик нашего некогда веселого и оживленного Арбата как воплощение холодной жестокости нового времени: пустынность и порядок, черный автомобиль, слепящие фары, страх. И закрепилось тогда в душе четкое разделение и противостояние черного, жесткого, холодного внешнего мира и дома, которому угрожает этот мир. Дом был и сам не очень тепел и сытен, но в нем всегда давалась возможность разумом преодолеть фальшивость победивших абстракций и преступность царящей беспощадности. Источником разума была, конечно, мама. Папа охранял теплом заботы, молча.
5
Саня Одувалова, быстро войдя в сложный и бедный московский быт с его карточками, очередями, примусами, коммунальными квартирными страстями, в то же время явно и открыто тосковала о деревне. Она готовилась весной вернуться домой. Сидя вечерами за длинными пяльцами, поставленными под окном вдоль мягкой и тоже длинной «дворянской скамеечки», Саня без устали «строчила» многочисленные батистовые изделия (трикотажного дамского белья еще не было) для мамы, ее сестер, подруг, наших соседок и вслух подсчитывала свои заработки – накопления на приданое. В сундучке у нее уже лежал розовый и салатный шифон на платья и блестящие резиновые ботинки – все из торгсина, приобретенное на царские золотые, запеченные в Волкове Анной Федоровной в ржаные кокуры и присланные в Москву дочери. Папа разламывал лепешки, чтобы вынуть монеты, а мы все трое стояли в ожидании этих обломков и тут же съедали их. Лежа в постели перед сном я воображала себя взрослой в воздушных разноцветных платьях из Саниного шифона.
Последнее воспоминание о Сане в «той жизни» – Великий пост 1933 года. О том, что пост, мы узнаем, конечно, от Сани. Мы, дети, сидим все трое в ряд на «дворянской скамеечке», подвинутой к столу (мы всегда так сидели за столом) и едим крутую пшенную кашу с русским маслом. Саня сидит напротив и не ест. Она постится. Пробует проглотить кашу без масла – не лезет в горло, сухая. «Льняного маслица бы!» – мечтает Саня. Но постного масла не выдали по карточкам. Видя мучения Сани, мы дразним и уговариваем ее: знаешь, как вкусно? Ну попробуй, ну немножко! Вот увидишь, ничего не будет. Саня вдруг кладет капельку масла в свою тарелку, подносит ложку ко рту, отдергивает ее, снова подносит и причитает: «Ох, грех-то какой! Что маменька бы сказала?» Наконец решительно крестится и глотает первую ложку скоромной каши, а затем быстро и брезгливо очищает тарелку и выходит из-за стола, не глядя на нас, свидетелей ее падения.
В апреле 1933 года Саня уехала от нас. Отец ее торопил: «Возвращайся, пока реки стоят». Я как-то не заметила момента Саниного отъезда: не стало ее, и дом поскучнел. Еще помню фразу из ее первого письма по приезде в деревню: «Выхожу замуж на Красную горку за одного знакомого жениха». С мужем своим Семеном Романовым Саня прожила до начала войны, до его ухода на фронт. В 1934 году родила свою первую дочь Нину. Шла коллективизация и индустриализация, но шла и обычная жизнь со свадьбами, рождениями и смертями.
В связи с отъездом Сани маме приходится уйти из ГОИНа. Мне объяснили: мама не может работать, потому что я плохо учусь, она вынуждена «заняться мною». Но вот недавно мне попало в руки чудом сохранившееся мамино письмо 1932 года к ее сестре, где без ссылок на мои грехи мама пишет о невыносимой обстановке в ГОИНе после ухода прежнего директора и назначения нового, пишет она там и о своем страстном желании покончить с опостылевшей работой. В 1933 году она с ней и покончила.
6
Летом 1933 года наша семья впервые никуда не уехала из Москвы – не стало такой возможности. Впрочем, я-то большую часть лета провела на роскошной даче в Ильинском по Казанской дороге у тети Тюни – младшей маминой сестры Наталии Михайловны.
Выйдя в 1930 году замуж за известного в прошлом петербургского, а потом московского врача Владимира Николаевича Мамонова, тетя Тюня вдруг из бедной советской служащей, из хорошенькой, очень хрупкой «барышни» (так тогда еще говорили) превратилась в холодную и сдержанную grand dame (как ехидничали ее сестры). Владимир Николаевич был намного старше тети Тюни, и этим, вероятно, объяснялось ее старание быть «важной». Впрочем, может быть, все было сложнее. Я слышала краем детского любопытного уха разговоры взрослых о давней влюбленности девушки-подростка в приятеля отца, холостяка и «бонвивана», о его сомнительном к ней отношении и о его вдруг, «к старости», проснувшейся страсти к ней, и о ее расчетливом согласии выйти за него замуж. Дача (московского жилья у Мамоновых, собственно говоря, не было, в двух московских комнатах жила мать Владимира Николаевича, а о совместном жилье и речи не могло быть), наследственные бриллианты, новые туалеты были реваншем былого оскорбленного самолюбия. Где здесь правда, а где домыслы? Не знаю. Но что тетя Тюня была очень сдержанна с седым веселым мужем, а он ее обожал, это я видела, живя с ними на даче и все примечая.
Ах, как я скучала на этой роскошной даче!
Целиком из светлого дерева, ни внутри, ни снаружи не оштукатуренная и не окрашенная, дача была построена в стиле модерн – с фонарем в столовой, с венецианским окном в спальне, с открытой овальной террасой, спускавшейся широкими низкими ступенями в обширный цветник, который был окружен гектаром соснового леса. Вероятно, тетя Тюня любила меня, раз брала в свое роскошное уединение, которое так ценила, и терпела мое присутствие. Но тут еще играла роль идея «хорошего воспитания» племянницы, живущей в «дикой обстановке» советской бедности и осуждаемого сестрами маминого «легкомыслия», о котором те не стеснялись говорить при нас. Бездетная тетка (она родила мертвого ребенка и больше не могла иметь детей) с целью достойного воспитания всем своим племянницам по очереди уделяла внимание и предоставляла на время кров. Но я была первой.
В воспитательных целях однажды по случаю прихода в гости к тетке пожилой соседки я была посажена за самовар разливать чай. Молча удивляясь бесконечности процедуры чаепития, но чинно исполняя обязанности «барышни», я учтиво спросила гостью, заметив ее опустевшую чашку: «А вы будете пить шестую чашечку?» Старуха вспылила и крикнула мне в лицо: «Если здесь считают выпитые чашки чаю, я больше пить не буду!» Я же была немедленно выдворена из-за стола и больше за этим самоваром не сидела.
Но faut pas с моей стороны иногда повторялись. В Ильинском была обширная ванная комната, однако накачивать воду в сорокаведерный чан на чердаке давно перестали. Тетя Тюня ставила в ванну таз с горячей водой, я залезала в ванну, она меня мыла, а потом обдавала с головы до ног теплой водой из кувшина. «А почему вода на мне собирается такими каплями?» – спросила я однажды тетку. «Потому что кожа человека выделяет жир и не впитывает воду», – объяснила мне тетка. «И твоя кожа выделяет жир?!» – изумилась я, глядя на предельно худую тетю Тюню. Такая обычно ироничная, она на этот раз всерьез обиделась: «Что же я – не человек?» И несколько часов со мной не разговаривала.







