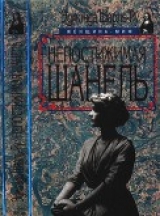
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 35 страниц)
III
Посвящения
Она будет царить в одиночестве в течение семнадцати лет, пощаженная временем и все еще красивая. Работа облагородила ее, стерев даже морщины изгнания. Она всегда боялась вульгарности и отказывалась называть прогрессом изменения, без конца угрожавшие ее хрупкому и совершенному миру.
Было непонятно, откуда у нее берутся силы. Могло даже показаться, что она только отражение самой себя, некое привидение, которое за полночь оставляют за работой, то бессильное, то доведенное до бешенства, одержимое лязганьем ножниц, занятое только своим творением, обретающим форму.
Она бывала глуха к протестам, глуха ко всему, что не являлось этой новой, медленно вырисовывавшейся формой, над которой она работала столь уверенной рукой, что, казалось, она не может ошибиться.
Некоторые из нас считали ее непогрешимой. Ее пальцы смыкались над тканью словно клещи, ее кулаки обрушивались словно удары молота, она копала, она разминала. Дефект должен был отступить, сопротивление ткани должно было быть сломлено. Движением художника перед мольбертом она отстранялась, чтобы лучше видеть, и тихо бормотала что-то бессвязное. «Так, так… Что ж, неплохо…» Ибо было ясно, что к словам она относилась с меньшей тщательностью, чем к работе. Связывать слова? К чему? Слова… С возрастом они стали всего лишь компенсацией за ее одиночество. Она не говорила. Слова сами взрывались у нее на устах, и только по вечерам. Яростный поток слов… Помрачение… Она пользовалась словами, как будто мстила, презирая и обманывая того, кто ее слушал. Слова? Они годились только на то, чтобы осуждать, исключать. По образу и подобию ее жизни, они были жестоки и несправедливы. Но какая разница… Она главенствовала не с помощью слов, а ценою упорной работы и долгого терпения.
Она была драматически одинока. Часть окружавших ее людей использовала ее, и она об этом знала. Но она предпочитала это своему ужасающему одиночеству. «Есть те, – говорила она, – кто приходит послушать меня с мыслью сделать потом из моих рассказов статью. Есть те, кто скучает, слушая меня, но здесь они едят лучше, чем дома. И наконец, есть те, которым надо что-то попросить у меня. Они приходят постоянно. Денег… Им всегда нужно денег».
Иногда до ее закрытого королевства доходило слабое, далекое эхо. Ее прошлое… Одного слова порою хватало, чтобы оно возникло вновь. Но ненадолго. Начиная с определенного момента старости вспоминать – значит тратить силы, а измерять истекшее время – значит смотреть на собственное умирание. Тем не менее ей случалось оглянуться назад, но без радости и всегда неожиданно.
В ее памяти одно имя сохранило свою власть: имя Реверди. Оно одно не вставало у нее поперек горла.
И дело не в том, что влечение, которое она испытывала когда-то к нему, было прочнее других и лучше устояло перед временем. В сущности, это была просто лишь признательность. Ибо у нее был только один повод для любви или ненависти: знать, простили ее или осудили. Ее поведение во время оккупации… Шпатц… Это были ее вечные муки, ее ад. Все, что она говорила, было только защитой, обвинением, бунтом или безнадежной попыткой оправдаться.
А Реверди ей простил.
И это кажется почти невероятным, если вспомнить, как яростно во время войны он ненавидел немцев, как презирал коллаборационизм и все, что с ним связано: Виши, адмиралы у власти, правительство Лаваля. И тем не менее поэт, с безумной радостью отпраздновавший Освобождение, художник честный и строгий настолько, что малейшее отступничество казалось ему святотатством, этот Реверди, из-за пустяков порывавший с лучшими друзьями, не порвал с Габриэль. Почему?
Быть может, объяснение кроется в ответе, данном им однажды беседовавшему с ним журналисту.
– Кто ваш любимый святой?
– Святой Петр.
– Почему?
– Потому что он предал.
В его глазах Габриэль предала.
Он больше не виделся с ней, или так редко, что это было все равно что не видеть ее. Но издалека, понимая лучше, чем кто бы то ни было, смысл слов «угрызения совести», «тоска», «одиночество», зная также поразительную силу нежности, он звонил ей. В 1949 году она получила от него экземпляр «Рабочей силы» со стихотворным посвящением.
В 1951 году он подарил ей книгу «Пьер Реверди» в издании «Поэты сегодня», и снова стихотворение, и снова посвящение, на сей раз последнее.
«Он прислал мне книгу без предупреждения, – говорила она, – словно подсунул письмо под дверь». До какой степени она была ему благодарна!
Пьер Реверди умер в Солеме 17 июня 1960 года. Он строго наказал жене и монахам аббатства: «Никого не предупреждать, не превращать все в анекдот». Когда новость о его смерти дошла до Парижа, его уже похоронили. Жена и два монаха проводили его в последний путь.
Вместе с его друзьями – Браком, Пикассо, Терьядом – Габриэль узнала обо всем из газет.
Когда о нем заходила речь, Габриэль говорила, что из всех молчаний тяжелее всего было перенести молчание Реверди. И она добавляла: «Кстати, он не умер. Вы знаете, поэты – не то что мы: они вовсе не умирают».
IV
Было воскресенье…
Она держалась. Держалась в течение семнадцати лет, переходя из ателье к себе в комнату. Надо было пересечь улицу, и все. Она держалась – с одной-двумя прогулками в неделю и небольшим отдыхом раз в год, предпочтительно в Швейцарии.
Работа вошла в ее жизнь настолько, что ночи стали для нее иллюзией дней.
У нее бывали приступы сомнамбулизма.
Ее заставали спящей стоя, иногда обнаженной. Голая, она разговаривала. Что означала эта беседа с невидимым?
С ножницами в руках она вслепую делала платье для несуществующей женщины. Распоротая с необъяснимой аккуратностью, ее ночная рубашка превращалась в груду материи, устилавшей кровать. Иногда это была пижама… Единственное, что она умела теперь делать, – распарывать, сшивать, отпарывать, зашивать, и она одна была тремя Парками сразу. Одной ночью она была пряхой, следующей – становилась непреклонной, иногда в приступе ярости она впадала в неистовство, искала то, чего ей не хватало, шаря ощупью в темноте. Но что? Что она искала? Свою смерть, быть может. В эти ночи она становилась вещей.
Однажды рано утром увидели, как с потерянным видом она движется по узкому коридору гостиницы, одетая во все белое, очень чистенькая, но в ночной рубашке. Куда она бежала? По всей видимости, она спала. Господин Фитц, проходивший мимо, сумел проводить Габриэль до двери ее комнаты, не разбудив. Это была история, которую он совсем не любил рассказывать. Он не знал, служил ли этот эпизод к ее пользе или, напротив, очернял память женщины, которой он необыкновенно восхищался. С этого дня ее горничная дожидалась, пока она заснет, а потом запирала ее.
Иногда кошмар приобретал другую форму. Кто-то приказывал ей: «Вымойся, Габриэль». Навязчивая идея… Она становилась добычей прежних наваждений, мечты о чистоте и белизне. Быть чистой… Быть чистой… Но соприкосновение с водой будило ее, и она оказывалась в ванной с узлом мокрого белья в руках. Все-таки она ложилась снова. Ах, никому ничего не говорить. Не надо, чтобы об этом знали.
Когда утром она приходила на работу, нельзя было предположить, что… Расскажи она о том, как провела ночь, ее выслушали бы с недоверием. В ее поведении было столько логики, казалось, она так владела собой.
Она держалась. И каждый сезон ее Дом выпускал одно и то же количество моделей. Ей было восемьдесят лет, когда рана убитого президента оставила кровавый след на юбке, сделанной в ее ателье. Но больше ничто не могло ее удивить. В тот же день другой президент Соединенных Штатов поспешно дал присягу рядом с молодой вдовой с потерянным взглядом красивых глаз, одетой в тот же костюм. Что говорила об этом Габриэль? «Да, Жакки Кеннеди в Далласе была в костюме „Шанель“». Что еще она говорила? Ничего. Больше ничего. Она была в том возрасте, когда волноваться значило тоже терять силы. В мире всегда было много несчастий, а ей надо было держаться.
Она держалась. Ее глазам и рукам было восемьдесят два, три, четыре года, но она по-прежнему держалась. Она по-своему вершила историю, одевая улицу, звезд и королев.
В восемьдесят восемь лет это должно было с ней случиться. Но в единственный возможный день – в воскресенье. Потому что всю остальную неделю она работала, и умереть за работой, в бесконечном отражении зеркал, было бы слишком театрально. И безвкусно. Не надо было превращать это в анекдот, как сказал бы Реверди.
Она сделала все с максимальной деликатностью.
Вернувшись с прогулки в то январское воскресенье в свою комнату в «Ритце», она никого не потревожила. Она прилегла, не раздеваясь, на медную кровать с четырьмя большими золочеными шарами. Узкую кровать. Кровать, чтобы спать одной – или чтобы умереть как Шанель… Опять-таки трудно себе представить, что могло бы быть по-другому. Горничной, которой она призналась, что чувствует себя ужасно усталой, не удалось убедить ее снять туфли. Она разденется позже, после обеда. Хорошо.
Селина – которую она звала Жанна, ибо она была еще из тех всемогущих хозяев, что меняли имена своим слугам, если они им не нравились, – итак, Жанна оставила ее отдыхать, но из комнаты не вышла. Обычно Габриэль вновь обретала силы в воскресенье вечером. И в понедельник вставала и отправлялась на работу.
На белом деревянном ночном столике два предмета: грошовый сувенир, маленькая позолоченная фигурка Святого Антония Падуанского, стоящего на подставке-алтаре, воспоминание о первом путешествии в Венецию с Мисей. Излечиться… Излечиться в Венеции. И еще икона, с которой она никогда не расставалась. Подарок Стравинского в 1925 году, после его долгого пребывания в «Бель Респиро». Стены в комнате были белыми, лакированными, как в больнице. Габриэль говорила, что любила эту комнату за ее простоту: «Настоящая спальня». На стенах ничего не было, ни картин, ни рисунков. В соседней комнате была развернута маленькая, самая обычная ширма, которую она называла: «Мои путешествия». Она прикалывала на нее почтовые открытки, которые друзья присылали ей. Были и другие, развешанные вокруг зеркала туалетного столика, под сильной лампой. «Ах нет! Никакого кривлянья. Это не парадное зеркало. Это зеркало посылает вам ваше истинное отражение».
Таким было убранство комнаты, когда в воскресенье 10 января 1971 года Габриэль лежала, вытянувшись, на кровати, а из соседней комнаты за ней наблюдала неподвижная фигура. Стало быть, одна, одна и рядом женщина, чтобы помочь ей принять последнюю гостью. Она будет умирать одна. Но что это меняло? Человек всегда один, когда умирает, когда пишет…
Вдруг Габриэль закричала: «Я задыхаюсь… Жанна!» Селина-Жанна подошла к ней. Габриэль схватила шприц, который у нее всегда был под рукой. Но у нее уже недоставало сил… И ампула никак не разбивалась. У нее хватило еще времени сказать: «Ах! Они меня убивают… Они меня убьют». Но кто? Кто убивал ее? Платья? Женщины? Все вместе они становились преступницами. А ее работницы? Разве они тоже не убивали ее?
Габриэль напрасно попыталась сопротивляться этому последнему мятежу. Чего они от нее хотели? Эти тени надо было распустить. Их надо было распороть. Но у Габриэль больше не было сил.
– Вот так и умирают, – сказала она.
Селина-Жанна была рядом. Она закрыла ей глаза.
Панареа, 1972 – Марсель, 1974
Иллюстрации

Засохший плющ…
Родное гнездо в запустении.

Убранство крестьянского дома.
В такой обстановке прошли детские годы.

Габриэль Шанель в 1903 году с одним из поклонников.

Ноты песенки Элизы Фор о петушке («Коко»), которую исполняла Шанель.

На рисунке Домье запечатлено типичное кабаре того времени.

Шанель вместе с Боем Кейпелом.
На ней впервые – брюки галифе.

На скачках в Довиле. 1907 г.

Шанель в 1909 году, в скромном наряде и блузе воспитанницы монастыря.

Шанель перед витриной своего первого магазина вместе с «живой рекламой» своих моделей – Адриенной.

Портрет Пьера Реверди с дарственной надписью Пикассо.

Габриэль Шанель в Биарице. 1920 г.

Портрет Миси работы Вюйара. 1896–97 гг.

Великий князь Дмитрий. 1914 г.

В 1916 г. в «Харперс базар» появилась первая модель Габриэль Шанель.

Модель из коллекции Габриэль Шанель.

Этот флакон духов, впервые появившийся в 1920 г., покорил мир.

Габриэль Шанель в «английский» период.

Портрет Шанель работы Кокто. 1932 г.

Шанель и Люсьен Делон в Венеции. 1931 г.

Забастовка в Доме моды Шанель.

После спектакля.
Слева направо: Александра Данилова, Сальвадор Дали, Габриэль Шанель и Жорж Орик.

Ужин после генеральной репетиции «Корсара».
Слева направо: Мари-Лор де Ноай, Игорь Стравинский, Вера де Бюссе Судейкин и Габриэль Шанель.

Портрет Шанель работы Жоржес Хойнинген-Хёне. 1935 г.

Показ мод.
Последний штрих перед выходом на сцену.

Внутреннее убранство дома Шанель.
Фото 1954 г.








