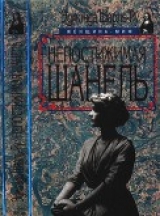
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
II
Образы юной польки
Когда вы начинаете рассказывать о ней, у вас возникает чувство, что бесполезно пытаться передать ее жизнь словами, ибо зрительный образ предшествовал всем посвященным ей текстам и возобладал над ними. Легендарная Мися… Как противится она всему написанному!
Попытавшись рассказать свою жизнь, она не сумела выразить себя. У нас нет даже ее воспоминаний, которые могли бы послужить нам ключом. Ибо в книге «Мися, рассказанная Мисей» Миси нет. Страничка из Поля Морана, поддерживавшего с ней дружеские отношения с 1914 года, говорит о ней больше, чем эта книга, в которой он тоже искал ее понапрасну. «Мися, – пишет он, – не такая, какой ее воссоздают ее слабые „Воспоминания“, а такая, какой она была в жизни…»[51]51
Paul Morand. Venises, Paris, Gallimard, 1971.
[Закрыть]
Далее следует стремительно набросанный портрет. Насколько я знаю, никто не обрисовал Мисю лучше. В сущности, это похищение. Моран останавливает свою героиню на полном скаку, ибо «с ней, – говорит он, – медлить было нельзя». Вот она, Мися, как есть: двадцатилетняя «красивая пантера, властная, кровожадная, несерьезная», ценимая художниками и поэтами, «Мися Парижа символистов и Парижа фовистов», Мися коварная, о которой Филипп Вертело говорил, что ей нельзя доверять то, что любишь: «Вот кошка, прячьте ваших птичек»: Мися, преуспевшая в жизни, пожирательница миллионов, «Мися Парижа времен Великой войны», наконец, «Мися Парижа времен Версальского мира», уже неразлучная подруга Габриэль мрачных времен 1919–1920 годов, Мися, которая спасла Габриэль от черно-розовой комнаты, дав ей возможность увидеть Италию. Габриэль впервые покинула Францию вместе с ней и открыла для себя Венецию.
Остановимся на этом. Признаем, что, говоря о книге Морана, придется употреблять слова «набросок», «эскиз». Добрый десяток набросков.
В конце концов, почему бы не попытаться рассказать о Мисе в образах? Почерпнуть необходимые элементы в портретах, для которых она позировала, выбрать их из полученных ею писем, из поэм, ею вдохновленных, включить туда несколько фотографий и сделать из всего этого монтаж, который оставил бы у читателя впечатление прекрасной и редкой загадки?
При жизни она согласилась бы сыграть в эту игру и была бы счастлива появиться перед глазами потомков в форме ребуса из плоти, масла, полотна и бумаги. Мисю устроил бы только такой подход.
Сердце Миси. В изображении Вюйара.
1895–1900 годы
Сперва ее фотографии.
Те, что сделаны Вюйаром. Вюйар, одевавшийся во все готовое в «Прекрасной садовнице» и так гордившийся своим «кодаком» с мехами. Клап! Его аппарат издавал звук «клап!» и запечатлевал в салоне на улице Святого Флорантена пышные формы новобрачной, ее пухлые, свежие щеки, волосы, поднятые по тогдашней моде в пышную прическу. Только что сорванный плод – это Мися, дочь артиста, называвшего себя скульптором, бравшегося за все, немного сутенера, довольно светского и очень польского: Киприана Годебского. Таде Натансон безумно влюбился в молодую кузину, которая жила одна в скромной квартирке в 17-м округе, на Весенней улице. Она решила выйти за него замуж, хотя мечтала стать пианисткой и зарабатывала на жизнь, давая уроки музыки ученикам, от которых отказывался ее профессор. Человек большого таланта, этот профессор. Он предсказывал девушке блестящую карьеру. Музыкальность, чувствительность, быстрота – он находил у Миси все достоинства. Когда она объявила ему: «Помните, кузен, который за мной ухаживает, так вот, я выхожу за него замуж!», мэтр разрыдался. Его дорогая ученица подстроила ему такое… Фотография. Это был Форе, первое знаменитое сердце, которое разбила жестокая.
Через несколько лет она заставила плакать Вюйара, затем Таде, бородатого супруга, которого мы видим рядом с ней на фотографии, сделанной на улице Святого Флорантена, в гостиной, где ситцем в тонкую полоску обиты кресла, затянуты стены, отделаны рамы, задрапирован феникс, в гостиной, которая уже была Вюйаром, хотя этого еще никто не знал. И Мися уже была Вюйаром, а значит, бородач Таде…
Вот еще один документ, по-прежнему сделанный «кодаком» Вюйара: Мися в летний день, в просторной тунике, доходящей до земли, в пеньюаре, но без всякого намека на беспутство Мод Мазюель в саду Сувиньи, напротив, чрезвычайное целомудрие в этом туалете, своего рода пеплуме, схваченном между грудями узлом, который воображается красным, вызывающим. Ее взгляд? Сытой кошки, с тревожной неподвижностью уставленный на лицо тщедушной золовки и словно говорящий: «Бог мой! До чего ж худа! Ах! Не приведи Господь, чтобы я когда-нибудь стала на нее похожа». Для контраста сопоставим с мордочкой Дамы Кошки лицо Миси в последние годы, такой, какой я ее узнала, когда опиум превратил ее в старую исхудалую женщину, конечно же, еще отличавшуюся невероятной дерзостью, но все же трогательную и как бы уже побежденную. Бесполезно было отыскивать в ней следы той, которую любил Таде. Что сталось с его жестокой, юной полькой?
В случае, если некоторые читатели станут путаться в нашем коллаже, поступим следующим образом: подобно тому как в центре лабиринта втыкают стрелку, чтобы указать выход, сгруппируем, покажем, воздвигнем в виде памятника все полотна, посвященные ей Вюйаром: «Мися в поле», 1896, «Мися в блузке в горошек», 1897, «Мися на фоне цветастой драпировки», 1898, «Мися за партией в шашки», 1899, и, наконец, последний раз взглянем на доброго Вюйара, покажем кусочек его галстука, завязанного бантом, вырежем краешек его вечного котелка, носок его ботинка, используем его облысевший лоб (этюд, сделанный Боннаром в 1908 году), включим образец его почерка, взятого из одного из его писем к Мисе, бросим это письмо в угол, ибо именно так она, несомненно, с ним и поступила, что я говорю, соберем все адресованные ей его письма, покажем их такими, какие они есть, – мятыми, испачканными, сначала то, в котором он благодарит ее за сделанную запись (тут вырисовывается профиль Людвига ван…), и подчеркнем следующие слова: «Этой радостью, подаренной стариком Бетховеном, меланхоличной, как все, что он дает мне, я обязан вам. Но в нем заключено еще столько разума и здоровья, как и в вас, Мися, одаренной ими в такой большой мере», и еще: «…я всегда был так робок с вами», и, наконец, на разорванном куске с трудом читаемые слова, которые объясняют все: «…счастье состояло в том, что вы были рядом».
Дух Миси. Тексты Верлена, Малларме, Дягилева.
1896–1898 годы и 1914 год
Шелестом ветра проносятся вокруг нее таланты. Сколько артистов! Поклонники самые разношерстные. Всклокоченная бороденка Лотрека, пушок под губой Фенеона, окладистая борода Русселя, белая бородка Ренуара, козлиная – Валлотона, по-ассирийски черная и прямая молодых деверей, мужа, всех сыновей Натансонов, широкие баки сводного брата Миси, Кипы Годебского, друга музыкантов, это ему Равель посвятил «Мою матушку гусыню», под которую экстравагантная Кариатис несколько лет назад имела смелость импровизировать. И пусть читатель не примет попытку обрисовать этот круг друзей за мечтания, отвлекающие нас от нашего повествования. Нет другого способа измерить расстояние, разделявшее Габриэль и Мисю, как только понаблюдать за молодой супругой Таде у нее в семье, в загородном доме, в окружении друзей. И тогда выявляется поразительный контраст между прошлым подружек: одна жила в Вильнев-сюр-Йонн, в низком, белом доме без всяких претензий, с фронтоном в виде перевернутой галочки, помещении бывшей почтовой станции, а другая – в Руайо, между высоких каменных стен аббатства, из которого Этьенн Бальсан сделал замок.
Здесь лошади, спорт и девицы, мечтающие только о любовниках, успехе, деньгах.
Там художники, поэты, и прежде всего Верлен.
Покажем его таким, каким вырезал его из дерева Валлотон: раскосые глаза непонятного серого цвета, шарообразный лоб, и Мися на фотографии того времени, одетая в простой тик, без всяких финтифлюшек. А поэму, которую он ей посвятил, эти несколько строк, потерянные Мисей (она все теряла), где Верлен сравнивал ее с розой, заменить рукописью, стихотворением, «Инвективами» или любым другим произведением поэта, напечатанным в журнале, принадлежащем ныне легендарному прошлому, – «Ревю бланш»[52]52
Основанный Таде Натансоном, «Ревю бланш» выходил в свет с 1891 по 1903 год. Журнал был для импрессионистов тем, чем через пятнадцать лет станет для кубистов «Нор-Сюд».
[Закрыть].
Мися была его сердцем, душой, телом. И кто, как не она, был изображен на его обложке? Существует ли документ, дающий более полное представление о том, каким влиянием пользовалась Мися? Ибо в киосках, в витринах, в книжных магазинах именно ей, тысячу раз узнаваемой под маской густой вуали, было поручено олицетворять журнал. Включим сюда и самую красивую обложку «Ревю бланш», сделанную Лотреком.
Еще один документ эпохи, сентябрьское воскресенье, Мися, ее друзья, и среди них – Ренуар. В этот день художники и поэты провожали до кладбища в Саморо похоронную процессию Малларме. Друг, заглядывавший по-соседски, приходивший в гости по субботам вечером, покинул их. И здесь в нашем коллаже резким контрастом, прямо-таки посягая на все остальное, появляются сабо, которые надевал Малларме, направляясь к Мисе и Таде. Тут же этикетка одного из лучших бургундских вин, которое он каждый раз приносил с собой. И наконец, толстая крылатка, которую он набрасывал на плечи, поздно ночью возвращаясь домой. А потом где-то в стороне крупными буквами слова: «Ха! Ха! Как она мила», потому что именно это говорил Малларме, когда Мися садилась за фортепьяно, и потому что знаменитое четверостишие, которое он ей посвятил, написанное на веере, цитируют слишком уж часто.
В 1933 году Кокто утверждал, что веер еще был у Миси. Кокто видел его у Миси в руках: «На ее веере было написано знаменитое четверостишие Малларме, и мне кажется, что из всех брачных контрактов, из всех видов на жительство это, без сомнения, был единственный документ, сохраненный этой полькой среди изумительного беспорядка…»
Десять лет спустя она признавалась, что не помнит, куда она его дела… Что с ним стало?
В случае пустоты, чтобы держалось, как говорят художники, вспомним о слове «чародейка», примененном к Мисе. Так называл ее Эрик Сати. «Может, вы немного чародейка?» – писал он ей. Отшельник из Аркея между тем не был льстецом. Скорее, брюзгой. Но не с ней. В том же письме он объявлял ей, что его трюк готов. Трюк – это был «Парад»[53]53
Балет, поставленный Дягилевым в 1917 году. Либретто Кокто. Декорации Пикассо. Хореография Мясина. Музыка Эрика Сати. Премьера состоялась 18 мая 1917 года в театре «Шатле».
[Закрыть].
Никогда он не называл свой балет иначе.
Наконец, прибавим следующее, сказанное a mezza voce, словно признание: «Вспомни, пожалуйста, что уже давно мы серьезно пришли к согласию, что ты – единственная женщина, которую я мог бы любить». Добавив монокль на ленточке, шапокляк, белую прядь волос или любую другую деталь того же рода – театральный бинокль или, скажем, оригинальную партитуру, макет, страницу из хореографического трактата, – сделаем так, чтобы это признание в любви как можно точнее напоминало его автора: Сергея Дягилева.
Тело Миси. В изображении Ренуара и Боннара.
Годы 1898, 1906, 1917
Мися, опирающаяся на изогнутую спинку скамейки, чудно подняв руки над головой, – фотография 1898 года. Это ее изображение в позе, способной ввести в искушение и святого, со стоящим перед ней Боннаром и сидящим рядом Ренуаром, предвосхищает полотна, которые она вызовет к жизни, – портреты, много портретов. Кисти Ренуара, сколько? Семь? Восемь? Она не помнила. Тогда в качестве вещественного доказательства приведем одно письмо Ренуара: «Приходите. Обещаю вам, что на четвертом портрете я сделаю вас еще красивее…» Очень важна одна фраза из этого послания: Поедим всласть. Общая черта многих французских художников, не так ли? Брак, Дерен… Покутить, задать обед своей натурщице, угостить в знак признательности за ее присутствие. Запомним дату этого письма, она тоже очень важна: 1906 год Мися к тому времени развелась и снова вышла замуж.
Для большей ясности поместим рядом аккуратно сложенный экземпляр «Матен», ежедневной газеты, выходившей большим тиражом. Тогда каждый поймет, что Альфред Эдвардс[54]54
Альфред Эдвардс родился в Константинополе 10 июня 1856 года. Сын Чарльза Эдвардса и Эмилии Капораль. Он женился на Мисе Годебской 24 февраля 1905 года. Развод состоялся в 1909 году.
[Закрыть], ее директор, появился в жизни Миси со своими миллионами, политическими связями, толстым животом и любовницами. Что было общего между завсегдатаями дома в Вильнев-сюр-Йонн, между Ренуаром, сыном башмачника, Вюйаром, сыном корсетницы, Боннаром и его женой, которая до того, как стала именоваться Марта де Мелиньи, была Марией Бурсен, мидинеткой, занимавшейся всякой чепухой в магазине похоронных венков на углу улицы Паскье, между этими людьми и знаменитостями парижского общества? Бегство было наилучшим выходом. Мися вскочила в Восточный экспресс. Эдвардс заказал купе рядом с ней. Думая ускользнуть от него, она вышла в Вене и спряталась в маленькой гостинице. Он снял там все комнаты. Тогда она позвала на помощь сначала Вюйара, потом Таде. Примчались оба. Первым уехал Таде, порядком обескураженный тем, что он увидел, и еще больше тем, что сделал: Эдвардс предложил ему пост директора горнопромышленного предприятия где-то в Польше, и он согласился. Вюйар, тот остался, стараясь сыграть как можно лучше роль телохранителя, со своими печальными глазами, галстуком бантом и чистеньким костюмчиком. Не слишком убедительно. На самом деле между разорившимся Таде и могущественным владельцем «Матен» выбор Миси был сделан. Людоед Эдвардс завладел ею. Вот фотография одной незаконной, бывшей тогда в центре всеобщего внимания, – Лантельм. Необыкновенно красива… В сотни раз обольстительнее, чем Эмильенна д’Алансон – Эмильенна Эдвардса. Ибо почти не вызывает сомнений, что Лантельм продолжала быть его любовницей, когда он ухаживал за Мисей. Случайность? Лантельм упала в Рейн и утонула. Он ее туда толкнул?.. 24 февраля 1905 года Эдвардс женился на Мисе в мэрии Батиньоля[55]55
Стоило бы обратить внимание на пьесу, в создании которой Таде Натансон принял участие в следующем году, подписав ее вместе со своим другом Октавом Мирбо. Каково было его реальное участие в написании этого произведения, «одновременно комедии интриги, комедии нравов и комедии характеров»? – писал Леон Блюм в статье, опубликованной в «Комедиа». Была ли это запоздалая месть Таде? «Очаг» был поставлен в «Комеди Франсез» в декабре 1908 года, через три года после развода. Невозможно отделаться от мысли, что вечный треугольник, жена, муж, любовник, воссоздает драматическую обстановку разрыва с Мисей. Любовник, «человек с деньгами, грубый, циничный» и «крупный финансист», которого Блюм называет также «плутом», напоминает Эдвардса. Что до героини, Терезы, в роли которой выступила госпожа Барте, это была Мися, изображенная в самом черном цвете. «Успех был огромный. Париж трепетал», – рассказывает Пьер Бриссон.
[Закрыть].
Все это для того, чтобы показать подругу художников и поэтов, отправившуюся на поиски денег, вступившую на путь, который десятью годами раньше, но в обратном направлении, прошла Габриэль Шанель, вырвавшись из круга Руайо.
Итак, между двумя подругами было много общего. У каждой были свои тайны. Отношение Миси к Эдвардсу, ее стремление стереть его из памяти, обойти молчанием, напоминало Габриэль, которая держала себя так, словно ничего не знала о Мулене. Она повторяла: «Мулен?.. Мулен?..» – с таким отсутствующим взглядом, словно ее спрашивали о луне.
Разбогатев, Мися чаще позировала своим художникам. Но мог ли Боннар, глядя взглядом знатока на Мисю, сидевшую на скамейке в Вильнев-сюр-Йонн, мог ли он предположить, что в один прекрасный день скамейка превратится в канапе, а сад – в будуар, мог ли Боннар вообразить Мисю в интерьере, где мешались блеск зеркал и атласное сияние стен? Вот вам и портрет: «Мися в будуаре», Боннар, 1908 год.
Представим себе Боннара перед мольбертом, слегка оторопевшего и вспоминающего другую Мисю, Мисю в 1898 году, смеющуюся, радостную, а неподалеку от нее – Лотрек после черт знает какой безумной ночи у одной из его мадам, Лотрек, храпящий с приоткрытым ртом, в брюках с расстегнутой пуговицей, но в полотняной шляпе и с пенсне на носу, а на расстоянии протянутой руки – большая груша. Уже начатая, со следами зубов… Клап! Моментальный снимок. Аппарат Альфреда Натансона (брата Таде) издал «клап», навсегда запечатлев уснувшего Лотрека. В другой раз близорукий Боннар в своей «легкомысленной» шляпе (это было в воскресенье в «Релэ», когда они все прогуливались) застал Мисю и Таде в траве, клап! Там был и Альфред со своим новомодным аппаратом. Какие поднялись крики! Эту фотографию хотели все! «Это Ренуар!» – кричали вокруг. Но он, Боннар, скромно и не говоря об этом вслух, подумал: «Это Боннар». Они с Таде лежали в траве, и Мися легонько прислонилась к его ногам, склонив голову к… Ах, нет! Он не должен во время работы думать о том, как именно эти двое лежали тогда, Таде в сдвинутом на затылок канотье, а Мися, глядя потерянно, словно маленькая девочка, только что узнавшая, что такое любовь. И ее голова, лежащая на… Довольно, Боже мой! Больше не думать о Мисе, принадлежавшей Таде, особенно во время сеанса перед этим канапе, на котором сидела молодая женщина, одетая в атлас, и улыбалась Боннару. Госпожа Эдвардс… Кто бы мог подумать? Боннар писал портрет богатой госпожи Эдвардс.
Полотно Боннара надо показать как следует. Сделаем так, чтобы светлые розы на консоли имели то же значение, что и для художника. Такие пышные, распустившиеся, эти розы… Не просто букет, а, скорее, предлог, чтобы отвести взгляд от Миси и ее словно приглашающей груди, перламутровой и столь же пышной, как розы.
Используем в качестве последнего мазка орден Почетного легиона. Тот, от которого друзья Миси, все без исключения, отказались. Вюйар, Боннар, Валлотон… Чего было ждать от официального признания тем, кто по-братски проводил воскресенья в Вильнев-сюр-Йонн? Что касается погони за наградами… Отведем этому ордену то место и тот смысл, которые несут восклицательные знаки в одном интервью Ренуара: «Разве нам нужна защита? Мы люди. Мы больше чем люди – мы художники! Пусть нас оставят в покое! В покое полном, глубоком и окончательном! Это все, чего мы просим!»
III
Излечиться в Венеции
Мися применила к Габриэль то же средство, которое много раз испробовала на себе во время различных житейских бурь. Она считала, что жизнь надо подхлестывать, с ней надо обращаться как с волчком, ее надо хорошенько взбивать, словно тесто, не то она отбивается от рук и затягивает.
Габриэль покорилась. Сперва автоматически. В течение короткого периода – первых месяцев 1920 года – видели, как она повсюду следовала за Мисей, присутствовала, хотя пока и молча, на всех проходивших у нее сборищах. Будь то в музыке или в беседе, Мися очаровывала своих слушателей. «Она нас околдовывала в прямом смысле слова», – писал Жан Кокто. Гостеприимство ее «открытого дома» сильно отличалось от того, что до сих пор знала Габриэль. И даже тон, мечтательный и требовательный, в котором звучало желание быть услышанной, опровергавшееся постоянным «Бог с ним», – даже тон Миси был тем же самым, что у Шопена. Мися, королева Парижа, была полькой в душе.
У нее был собственный мир, ни на что не похожий. В то время как Паскин, Сутин, Модильяни жили на Монпарнасе, а ценность Монмартра стала падать, художники и поэты Миси по-прежнему жили на Холме, по-прежнему на Монмартре проходил парижский период Боннара, Хуана Гриса, Реверди. Хотя «Дом» и был местом встречи авангардистов, писатели и музыканты Жан Кокто и Радиге, Орик и Пуленк встречались в «Быке на крыше», этой ночной прихожей «Русских балетов». Тому было объяснение: более чем когда-либо Мися была связана с танцем. Существовала и другая причина: ее брак с людоедом подошел к концу. Миллионы Эдвардса не смогли возместить того, что друзья Миси и сама Мися чувствовали себя неуютно в его обществе. Она развелась. И хотя третья попытка вновь свела ее с набобом, на сей раз по крайней мере с набобом от живописи.
Иметь в качестве заказчиков одновременно испанское духовенство и Ванделей, разумеется, было совсем не в духе Боннара или Хуана Гриса, и по поводу Хосе Марии Серта можно иронизировать. Разве не смешно, что художник использовал золотую пудру и в одинаковом стиле расписывал фресками своды собора в Више[56]56
Виш – маленький город в Каталонии. Хосе Мария Серт работал там более двадцати лет.
[Закрыть], стены здания Лиги Наций, салоны «Уолдорф Астории» в Нью-Йорке и будуары парижской буржуазии? Можно было поязвить на его счет, как Кокто, не отказывавший себе в этом. В письмах к Мисе он называл его «Господин Жожо» или говорил, что «снаряды, падая, издавали мяуканье, словно жирные дикие кошки, вроде господина Серта». Разумеется… Но существовал один факт, который никто не пытался отрицать: однажды вечером, когда Мися и Серт в самом начале их связи обедали наедине в «Прюнье», Серт представил ей Дягилева, и на этом основании признательность артистов из окружения Миси была ему обеспечена. Получить заказ от Дягилева? Разве не этого добивался каждый? И потом, никто не мог отрицать, что третий супруг их общей музы обладал дарованиями, которых были лишены два предыдущих. Как не признать, что он обладал гениальным чутьем на предметы, крайне развитым чувством грандиозного и редчайшим умением соединять противоречивые эпохи? Благодаря ему Мися нашла подходящую себе обстановку. Этим не следовало пренебрегать. Люди великодушные, друзья-артисты первыми признали: «Господин Жожо – талантливый декоратор». В общем, они его терпели. Они находили, что он очень «в стиле „Русских балетов“». В то время Дягилев и его спектакли особенно интересовали Мисиных друзей.
Главным событием этого года было «возвращение Игоря». Стравинский решил принять французское гражданство. Его пребывание в Швейцарии, где он жил с 1914 года, подходило к концу. Все предвидели, что, едва оказавшись в Париже, тот, кто подарил «Русским балетам» «Жар-птицу», «Петрушку» и «Весну священную», вновь обретет свое место рядом с гениальным организатором – Стравинский был любимым композитором Дягилева. Действительно, Дягилев тут же поручил ему «Пульчинеллу». Речь шла о том, чтобы приспособить к темам Перголезе сюжет итальянской комедии, найденной самим Дягилевым в библиотеке в Неаполе. Декорации должен был писать Пикассо, хореограф – Мясин.
Габриэль Шанель в тени Миси наблюдала за подготовкой этого балета. Никто ее не знал. Ее едва представляли. Ее не было слышно. Она смотрела, слушала. Никогда она не присутствовала на подобном празднике. Наконец-то ее никто ни о чем не спрашивал. Никто даже не интересовался, что она здесь делает. Прошлого больше не было. Габриэль ощутила небывалую свободу. Она вступала, сама того не зная, в период, который можно было бы назвать ее славянской эпохой.
Через некоторое время, отнесясь с вниманием к тому, что неустанно повторяла ей Мися, Габриэль позволила себя уговорить. Получая сведения от Жозефа, расспрашивая его всякий раз, как она бывала в Гарше, Мися твердила, что Габриэль надо на время уехать из «Бель Респиро», оставить работу и переменить обстановку. Она повторяла, что именно это для Габриэль сущий ад, именно в этом корни ее страданий. Вырваться куда-нибудь! Габриэль согласилась.
Она поехала с супругами Серт в Венецию.
Это было одно из редких путешествий среди всех, ею совершенных, о котором она соглашалась говорить. Она признавала, что «Серты спасли ее». Она не говорила от чего, но это неожиданное признание, сколь бы немногословным оно ни было, показывало меру ее признательности.
Кто когда-нибудь расскажет, как она открывала для себя Венецию? Серт, роскошный бородач, был ее гидом. Он научил ее Венеции, как он один умел это делать, он заставил ее Венецию полюбить. По-своему. Ибо если послушать его, истинное представление о городе нельзя получить только по его дворцам, церквям, общественным зданиям, знаменитым статуям и прославленным потолкам. Габриэль восприняла его урок. Между музеем и жизнью она всегда выбирала жизнь, оставаясь безразличной к прошлому, свидетельством которого были венецианские музеи, и дивным образом несведущей во всем том, что под этим подразумевалось. Светлейшая? Что такое? Она с трудом понимала, о чем речь. Но Венецию, где только что открылся «Харри’з Бар», город, стоящий на воде, где гондольеры были владельцами каналов, «самый блестящий город Европы»[57]57
Paul Morand. Venises, Gallimard.
[Закрыть], да, этот город она знала. Она по-прежнему предпочитала выставленным произведениям искусства те, что находились на предназначенных им местах. Она навсегда сохранила слабость не к Италии, которую не любила, а к Венеции.
Редко случалось, чтобы, за исключением Венеции и Лондона, она нахваливала прелести какого-нибудь иностранного города. Берлин? Она говорила, что никогда там не бывала. Это неправда, но продолжение ее истории объясняет, почему она никогда о нем не упоминала. Нью-Йорк был для нее предметом шуток. О Мадриде она отзывалась как о далекой провинции. Венеция в ее представлении одна только заслуживала титула иностранной столицы. Возможно, тем самым она признавала превосходство города, нереальной атмосферы которого оказалось достаточно, чтобы излечить ее. Говоря «Венеция», Шанель вновь возвращалась мысленно ко времени, когда, приобретя известность и получив признание, она за несколько месяцев стала ровней Мисе. Ибо подлинное событие состояло в следующем: важнее, чем Венеция, был Дягилев, встреча с «царем Сергеем» – важнее, чем все остальное.
Сергей Дягилев находился на отдыхе. В тот день он завтракал с великой княгиней Марией Павловной. Мимо проследовало трио Серт – Шанель, прибывшее накануне. Удивление. Излияния чувств. Мися была связана с Марией Павловной так же, как и Сергей. Были приставлены три стула, и все стали завтракать вместе. Какого рода беседу прервали вновь прибывшие? Какими воспоминаниями обменивались изгнанники, окруженные чужим великолепием Венеции?
При жизни мужа великая княгиня покровительствовала дебюту Дягилева в императорском театре. Он был из тех счастливчиков, для которых «непреодолимый барьер, возвышавшийся между третьей дамой Империи и остальным миром», никогда не существовал. Она принимала его в своем салоне в Санкт-Петербурге, «где у кресел были оборки, у абажуров – оборки и у юбок фрейлин – тоже». При падении этого мира Мария Павловна выжила чудом. Ее дочь, трое сыновей – все были живы… И это для нее было важнее всего остального. Мария Павловна была из тех великодушных женщин, которые, хотя уже ничем не владели, умели наблюдать за чужим успехом без всякого озлобления.
Как только беседа с глазу на глаз была прервана, разговор пошел только о финансовых трудностях, с которыми в какой уж раз сражался Дягилев. Мясин работал над новой версией «Весны», которую Сергей хотел включить в свой спектакль начала сезона в Париже. Он не сомневался в успехе постановки, во всех отношениях верной духу Нижинского. «Весна», по его словам, стала балетом «надежным». Но ему были нужны деньги. Затраты, которых требовала реприза, были чрезмерны. Дягилев не обратил никакого внимания на брюнетку, сопровождавшую Мисю. Хотя видел ее почти каждый день, Дягилев даже не пытался запомнить ее имя. Но можно без труда представить, какого рода призраки явились перед Габриэль во время этой памятной встречи. Значит, это и была мать великого князя, чье имя молодые люди в Руайо произносили только шепотом, чтобы избавить бедную Жанну Лери от горьких воспоминаний! Значит, это и была мать Бориса, обрюхатившего подружку из Руайо, молодую статистку, дебютировавшую в «Водевиле», золотое сердечко в этой банде сорвиголов, Жанну Лери, которая отправилась с просьбой к Дорзиа, чтобы добиться для Габриэль первого заказа на шляпы. И Дягилев… Наконец-то она видела человека, которым Мися так восхищалась, чаровника… Надо же было случиться такому, что ее новые друзья собирались возобновить именно тот, единственный балет, который она видела. Скандал в 1913 году… Дамы в тюрбанах, красные от гнева, старая графиня де Пурталес в съехавшей набок диадеме, вопящая во всю мочь, крики, и безумная Кариа, с так странно подстриженными волосами, что на нее оборачивались, – все это ожило в памяти Габриэль. Почему случилось так, что именно об этом балете заговорили в Венеции?
Путешествие в Италию имело несколько последствий. Во-первых, друзья Габриэль, и прежде всего Мися, сочли, что она излечилась. Бой был забыт. Тому был неопровержимый знак: Габриэль больше не ограничивалась ролью зрительницы, она стала участвовать в общей жизни. Она пригласила Стравинского к себе. Он должен был поселиться в «Бель Респиро» с женой и четырьмя детьми. Разве это не было знаком? И потом, Габриэль больше не плакала. Глядя на женщин, которые не плачут, окружающие охотно верят в их выздоровление, не обращая внимания на то, о чем они умалчивают, на скрытые раны, готовые закровоточить при первом потрясении… Короче говоря, поскольку Габриэль вновь обрела силу скрывать свои чувства, окружающие решили, что она выздоровела, спутав безразличие со здоровьем. Она казалась веселой. Ее и поймали на слове.
Тем временем Дягилев, вернувшись в Париж и по-прежнему не находя средств для постановки «Весны», терял надежду. Именно тогда портье гостиницы объявил ему о визите одной дамы, имя которой было Дягилеву неизвестно. Он колебался. Она была некстати. Потом он смирился и вышел к ней. Едва взглянув на нее, Сергей Дягилев понял, что посетительница была ему удивительно знакома. Это была подруга Миси, это она, Габриэль Шанель, принесла ему деньги, необходимые для постановки «Весны». Она протянула Дягилеву чек, сумма которого превосходила все его ожидания, поставив только одно условие: чтобы он никогда не говорил о ее даре. Договорились, не правда ли? Никогда и никому.
Дягилев сказал. Сказал тому, кто в 1921 году стал его секретарем, – Борису Кохно.
Прошло полвека, пока о поступке Габриэль стало известно. Кохно[58]58
Молодой украинский поэт, которого Сергей Дягилев сделал своим секретарем. Ему принадлежат многочисленные либретто балетов. С 1925 года он играл ведущую роль в художественном руководстве труппой. Его исследования о балете пользуются авторитетом.
[Закрыть] в книге, посвященной Дягилеву, рассказал об этом эпизоде из ее жизни. Если бы не он, об этом, возможно, никогда бы не узнали.








