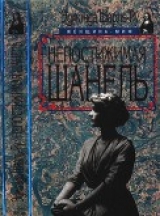
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
Если рассуждения Габриэль были примерно таковы, можно предположить, что она испытывала также некоторое злорадство от того, что за ней ухаживает человек, который двадцать пять лет назад воспевал ее старого недруга Пуаре. Ибо в конечном счете Ириб не ограничился тем, что «рассказал о платьях Пуаре». Он был также автором ярлыка, который красовался на всех туалетах, выходивших из ателье на улице Антен. Его графическая новизна и роза, сопровождавшая магическую надпись «Поль Пуаре, Париж», в свое время произвели сенсацию. Побьемся об заклад, что в завоевании Ириба для Габриэль было и удовлетворение профессионального честолюбия. Наконец, Габриэль, ревновавшая к женщинам и не терпевшая, чтобы кто-то одерживал больше побед, чем она – тем самым она бессознательно пыталась взвалить на них ответственность за собственные несчастья, – была довольна тем, что, заведя связь с Ирибом, сыграла со своими соперницами злую шутку, перехватив у них известного соблазнителя.
Ибо мало сказать, что он вел бурную жизнь. Ириб оценивал себя в зависимости от своих успехов у женщин. Каждая его связь, выставлявшаяся на всеобщее обозрение, становилась еще одним шагом на пути к известности. В период нужды ничто не могло его остановить. Предположим, у одной из его подружек было редкое жемчужное ожерелье, тогда, ссылаясь на то, что это отдавало «нуворишеством», Ириб советовал ей заменить несколько жемчужин шариками из оникса. В конце их романа одна нитка целиком становилась ониксовой.
Для начала он соблазнил, едва не женившись на ней, очаровательную актрису, преподнесшую ему в дар свое сердце и свою жизнь, – Джейн Дирис, звезду водевиля и немого кино.
Она прославилась в роли Мари Бонер, героини «Команды»[117]117
Фильм Мориса Лагрене, снятый «Дирис-Фильм». Его показ в Париже в 1921 году стал событием, на котором присутствовали Колетт, Габриэль Дорзиа, Полер, Спинелли, Маргерит Морено, короче, команда Колетт в полном составе.
[Закрыть], экранизированного романа Франсиса Карко. История маленькой работницы, сначала жиголетты, потом цветка предместий, влюбленной в хулигана, отправившегося в Африку и зачисленного в колониальные войска… Настоящий Карко. Фильм заканчивался тем, что Мари Бонер становится гетерой высокого полета, но сильнее, чем прежде, любит «своего парня». Пресса писала, что Джейн Дирис показала свою героиню жертвой судьбы и что роль подходила ей как нельзя лучше. Она играла Мари Бонер и в личной жизни.
Когда у Ириба бывали финансовые неприятности, Джейн позировала фотографам под именем Жанны Ириб. И когда «Комедиа» печатала портрет Джейн, «в элегантной горностаевой накидке», это была реклама мехов «Ревийон». А когда ее показывали в окне шикарного автомобиля, одолженного ради такого случая, с чужим шофером за рулем – «Госпожа Жанна Ириб в своем авто, оснащенном стеклами „Триплекс“», – тогда все это вместе: горностай, гордая посадка шофера, красота молодой женщины, высокая подножка автомобиля, служившая подставкой для великолепных аксессуаров – черной лакированной коробки для инструментов, запасного колеса белого цвета, укрепленного словно спасательный круг на борту траурного корабля, – все это своей роскошью служило рекламой Ирибу.
К сожалению, слишком быстро забывают, что середина 20-х годов тайно связана с черным цветом. Бархат диванов… Полутьма первых кабаре… Серебро постепенно заменяло позолоту в отделке интерьеров, а в жизни Ириба оникс занимал место жемчуга… Несчастная Жанна за опущенным стеклом гигантского, подобного танку автомобиля улыбалась отсутствующему Ирибу.
Если женщина хотела счастья, то делала неверный выбор, выходя за него замуж. Из-за чего Колетт называла его демоном? Из-за легкомыслия, с которым он мучил своих любовниц, и его упорного стремления доставить себе удовольствие? Будучи подругой Джейн Дирис и зная, что та тяжело больна, Колетт еще во время первых проявлений болезни, сведшей Джейн в могилу, предупреждала Франсиса Карко в следующих выражениях: «Джейн Дирис очень больна… Я с горечью чувствую свою бесполезность, глядя на это красивое тело, одержимое чем-то невидимым, активным и своенравным».
Джейн Дирис умерла в 1922 году, в то время как Ириба занимали другие увлечения: доллар и красивые американки. Одна из них, Мейбел Хоган, соблазнила его кругленьким состоянием. Он женился на ней в Сан-Франциско в 1919 году. Прибыв в Нью-Йорк, Ириб сделал ошеломляющее заявление, из которого следовало, что в небоскребах было что-то «вол-шеб-но-е» и что на сверкающих магистралях Бродвея он научился большему, нежели среди особняков на Вандомской площади. Затем последовало признание:
– Если быть откровенным, худший враг Соединенных Штатов – дурной вкус.
Репортер, приведший высказывания Ириба, уточнял, что они принадлежат самому известному иностранному рисовальщику. Он употребил слова иностранный карикатурист. Тогда, отбросив всякий стыд, Ириб счел момент подходящим, чтобы извлечь пользу из того, что до сих пор он считал нужным скрывать. Разве он не был теперь достаточно знаменит, чтобы покичиться своим происхождением? Он утверждал, что все самые могущественные страны в определенный момент их истории были обязаны своей известностью баскам. Начиная с Соединенных Штатов… Разве Христофор Колумб не был баском? А Ной? В общем, Ириб проповедовал истины, восходившие еще к временам потопа.
Журналист добросовестно изложил эту новую и оригинальную точку зрения. Но позволил себе несколько оговорок относительно склонностей этого за-все-берущегося-в-искусстве, упрекнув Ириба в том, что тот ограничивает свое творчество областью роскоши. Критика, которую Ириб отвел одним движением руки.
– Вкус всегда идет сверху, – заявил он, – никогда снизу. Лакированный комод изготовить труднее, чем сделать кухонный стол.
После чего он устроился в очаровательном коттедже с молодой женой, усиленно посещал Голливуд и, как все, увлекся кино. Это означало погружение в волшебную сказку. Он познакомился с Сесилем Б. Де Миллем. Стиль Ириба, его компетентность во многих областях – рисунке, архитектуре, истории костюма, мебели – не могли не очаровать Де Милля. Привлекательны были даже недостатки Ириба… Такие же, как у Де Милля.
Он начал с того, что поручил молодому французу подготовительную работу к разным фильмам, и в частности декорации и костюмы к «Man Slaughter», постановщиком которого он был. Литрис Джой[118]118
Литрис Джой дебютировала на экране совсем ребенком, кино тогда только начиналось. Компания, ее ангажировавшая, разорилась, и она работала в торговле. Заново открыл ее Сэмюел Голдвин, а Де Милль сделал из нее звезду.
[Закрыть] в костюмах Ириба произвела такую сенсацию, что он сразу же был произведен в художественного директора, и под его властью оказались художники и декораторы, причем некоторые из них работали с Де Миллем с 1919 года. Ириб в отличие от Де Милля не обладал талантом быть невыносимым, но при этом не терять преданности сотрудников.
Де Милля обожали. Тогда как Ириба… Его перебранки с Митчеллом Лейзеном, крики, обиды и ссоры вошли в легенду.
В 1923 году Ириб – художник костюмов и декораций в «Десяти заповедях», где снова главную роль играла Литрис Джой. Но Митчелл Лейзен, чтобы избежать подчинения Ирибу, отказался сотрудничать в гигантском фильме.
Египет Ириба был Египтом 20-х годов, лакированным, сверкающим золотом, со сфинксом более внушительным, чем в Гизе, и с огромными святилищами, где были собраны все боги – сидящие, стоящие, с головой собаки или барана… Бесчисленные божества, толпы статистов – все это свидетельствовало о невероятном богатстве фантазии.
В 1924 году последовало новое продвижение, когда внезапно, с благословения Де Милля, Ириб поставил «Changing husbands». Только Литрис Джой избежала ударов критики. «Нью-Йорк таймс» назвала фильм абсурдным.
Тогда Де Милль сразу же предпринял попытку вернуть Митчелла Лейзена.
Режиссер использовал всевозможные аргументы: он только что расстался с «Парамаунт»; не время отказывать ему в помощи, тем более что на сей раз постановщиком будет он сам, а не Ириб. К тому же гвоздем фильма должна быть железнодорожная катастрофа. Поезд должен был развалиться за несколько секунд («The Road to yesterday»). Кто, кроме Лейзена, способен сделать подобное?
Лейзен позволил разжалобить себя. Но катастрофа едва не переросла размеры экрана, когда разразился бой между ним и Ирибом. В конце съемок они перестали разговаривать друг с другом.
Когда Сесиль Б. Де Милль начинал работу над «Царем царей», его команда оставалась неизменной: Лейзен по-прежнему был художником по костюмам, Ириб по-прежнему художественным директором. Это было сделано не по недомыслию. Яростные противоречия среди членов съемочной группы в чем-то забавляли Де Милля.
В остальном он предпринял все меры предосторожности, чтобы ничто не бросало тень на репутацию его звезд. Христос по контракту обязывался нигде не показываться с сигаретой. Он также дал слово не посещать ночные кабаре и, самое главное, ни под каким предлогом не должен был разводиться до выхода фильма на экраны. Только тогда публика могла бы поверить в созданный им образ.
Драма разразилась у подножия Голгофы, в тот самый момент, когда Де Милль увидел, что Ириб забыл приготовить грозу и что сцена распятия пущена на самотек. Как Гарри Уорнер будет держаться на кресте? Будут ли у него кровоточить руки? Ничего не было предусмотрено.
Приказом Де Милля экзекуция Ириба последовала незамедлительно. Лейзен согласился заменить соперника при одном условии: никогда больше не слышать его имени.
В эпоху, когда «Царь царей», чтобы выйти на экран, должен был получить одобрение религиозного трибунала, состоявшего из католического священника, раввина, представителя православной церкви и буддистского монаха, Поль Ириб покинул Голливуд без сожалений. Он возвратился в Париж, где Мейбел подарила ему на улице Фобур-Сент-Оноре магазин, на фасаде которого имя ее мужа сверкало золотыми буквами на лакированном фоне. Ириб вернулся к своей первой любви – декоративному искусству.
К созданию мебели, тканей, ковров, драгоценностей добавилось теперь украшение интерьера. Он соглашался работать только для личностей известных. Так, Спинелли, гостиную и прихожую которой оформило ателье «Мартина»[119]119
Декораторская фирма, созданная в 1912 году Полем Пуаре. Она находилась в доме 83 по улице Фобур-Сент-Оноре.
[Закрыть], пригласила его отделать спальню. Быть декоратором той, кого Колетт и широкая публика называли фамильярно «Спи»! Можно ли было представить себе клиентку, способную лучше понять его? «Авантюрность, склонность к риску, когда декоратор сталкивает между собой два-три тона, смешение которых сперва поражает, потом пленяет, аристократическая свобода выбора… встретили в Спинелли идеальную сообщницу. Там, где я судила лишь как любитель цвета и арабески, она видела цель и пользу украшения, бесспорную необходимость роскоши»[120]120
Colette. Prisons et Paradis. Paris, 1949.
[Закрыть].
Ириб нашел в Спинелли клиентку, о которой можно было только мечтать. Несомненно, что в ее комнате он занимался не только убранством интерьера. Ибо, едва спальня была закончена и «испробована», он получил новый заказ – на оформление столовой. Дело в том, что Спи, певица, прошедшая суровую школу кафешантана, Спи, «с прелестными ножками и плечами», Спи «в своей несравненной спинеллиевской форме»[121]121
Там же.
[Закрыть], да что там! – Спи не отличалась добродетелью.
Она обладала редкой привилегией: едва увидев ее, простой люд, будь то на галерке в «Казино де Монмартр» или в проходе в «Эропеен», присваивал себе право тайком говорить ей «ты». Между Спинелли и ее зрителями возникала немедленная близость. Одновременно она довольно открыто пренебрегала приличиями, так что определенная пресса с удовольствием смаковала ее похождения. Стоило после ее встречи с одним аргентинцем родиться в Басконии очаровательному младенцу – «Три па танго, опаснейшего танца!» – заявила она испанской ежедневной газете, – как тут же набежали хроникеры. В каждом интервью было тщательно описано то, что она называла своим домом: «Это похоже одновременно на индусский храм, греческий дворец, персидский альков и ложу в кабаре. После того как вы пересекли прихожую, охраняемую гигантским Буддой из зеленой бронзы, вы попадаете в атриум с золотым мозаичным полом; где в круглом бассейне плавают две золотые рыбки, привезенные из Китая. Затем три мраморные ступени ведут в салон с хрустальным потолком… Там, сидя в кресле из лакированного дерева, поддерживаемого двумя драконами, изрыгающими пламя, Спинелли расскажет нам о своих впечатлениях молодой мамы…»[122]122
«Спинелли-мама», статья в «Паризьен».
[Закрыть] Комната, отделанная Ирибом, была под стать всей остальной квартире. Он нарисовал для нее медную кровать, ножки которой образовывали как бы золотой росчерк. Стены бледно-зеленого цвета, низкий столик китайского лака – все это была бесспорная удача. Но главное было в том, что гигантская кровать с тонким японским матрасом, а также ступень, на которую она была поставлена, вызывали пересуды.
Собирался ли Ириб довольствоваться своими успехами на декоративном поприще? Разумеется, нет. Он стал фотографом, испытывал новые методы рекламы, работал на стыке типографии и фотографии, делал превосходные фотомонтажи и в Нью-Йорке, в 1931 году, занял второе место на конкурсе по рекламе, собравшем пятьдесят европейских фотографов восьми национальностей. Ириб обошел на несколько голов Хойнингена-Юина, оставив далеко позади себя лучших в Европе профессионалов. Барон Мейер и Мэн Рей удостоились лишь похвальных отзывов.
То он зарабатывал огромные суммы денег и покупал себе «вуазен» с серебряными фонарями и белыми подушками, потом парусник «Майская красавица», потом дом в Сен-Тропезе. Через некоторое время наступало безденежье, и он продавал авто, яхту, а потом и дом. Тогда Мейбел становилась его агентом и добывала для него контракты. Так она получила один заказ на драгоценности у Картье, а другой… у Шанель.
Мейбел смирилась с шалостями Ириба, смирилась с ожиданием. Ей было довольно телеграммы: «Я не могу вернуться, но я люблю тебя», чтобы не замечать его отсутствия. В чьих объятиях он спал? Мейбел считала, что это было типично французское поведение.
Но она смирялась все с большим трудом и однажды бросила его.
Это случилось за несколько месяцев до июля 1933 года, когда Колетт сравнила Ириба с демоном.
Лучше узнав его жизнь, легче понять это сравнение.
Дело в том, что Колетт с трудом прощала ему отсутствие качеств, свойственных Габриэль. И, в частности, одно из них: «К счастью, к ней не пристали заразительный блеск золота, то нескромное сияние, которое источают существа слабые и осыпанные благами», – читаем мы в великолепном очерке, посвященном Шанель.
Ириб не устоял перед заразительным блеском, и антипатия Колетт не имела других причин. Пренебрегающий богатствами, ведущий жизнь неустроенную, он бы ее позабавил. Подпав под власть денег, он стал для нее демоном.
II
Конец предместья
Что случилось? На первом этаже особняка Пийе-Виллей появились странные восковые фигуры. Отысканные на задах парижских магазинов, где они дремали с начала века, они были необычны, и возникал вопрос, какого черта Габриэль собиралась с ними делать. Это были не одежные манекены. Только бюсты, какие раньше можно было видеть в витринах парикмахерских. Но без шиньонов… Восковые бюсты, с глазами в ресницах, идеально накрашенные, с короткой прической, и хотя у них не было рук, они казались живыми. Если бы не выщипанные по моде тридцатых годов брови, короткие волосы и ярко накрашенные губы, то по их выражению можно было подумать, что время вернулось на пятьдесят лет назад. Забавно все это… Подобным предметам нечего было делать на улице Камбон, где мода всегда отрицала всякого рода фантазии.
Платья Шанель более строгих, более четких, чем когда-либо, линий представляли молодые женщины-манекенщицы с бесстрастными лицами. Идея, преобразившая их облик в прошлом сезоне, продолжала подчинять себе силуэт – подкладные плечи. Вот уже почти два года, как самые влиятельные хроникеры повторяли, что широкие плечи отличают элегантную женщину. «Если у вас соответствующий тип, не колеблясь берите новый стиль на вооружение и в обычное время носите платья по-военному строгого покроя…» – писал «Вог» в октябре 1931 года.
Тогда что же означало появление манекенов с любезными улыбками, гибкими шеями, склоненными к плечу подбородками? И почему этих змеевидных девиц поставили по-старинному на подставки? Но в конце концов, Габриэль была у себя дома и могла делать, что хотела.
Жозеф получил приказ держать двери во двор закрытыми и никого не впускать. Тем не менее по кварталу пронесся ветерок любопытства, когда стало известно, что Габриэль приняла у себя главного комиссара полиции, что они вместе обследовали запоры в доме и что была установлена система сигнализации, целая сеть звонков, так что первый этаж особняка Пийе-Виллей был напрямую связан с полицейским участком квартала. Как же можно было не предупредить об этом? Однажды ночью, когда какой-то гость нечаянно наступил на одну из ловушек, во двор высыпал целый фургон полицейских, сильно переполошив консьержку. В верхних этажах погашенные было огни зажглись снова. В окнах появились раздраженные лица. Вся эта затея крайне не нравилась. Что еще придумала эта чертова портниха? Нельзя было спать спокойно.
7 ноября 1932 года была открыта выставка, которую никогда еще не видели в частном доме. Представлены были одни только драгоценности, из которых ни одна не продавалась. Все они были созданы Шанель. Было странно, что женщина, не будучи ювелиром, вздумала обновить искусство украшений и что именно к ней, такой поборнице бижутерии, которую она продавала с большим размахом, обратилась Международная ювелирная лига. Наконец, множество раз утверждая, что, за исключением жемчуга, носить можно только цветные украшения, Габриэль тем не менее согласилась использовать белизну одних лишь бриллиантов. Она и бриллианты? Можно понять удивление ее сотрудников. Любая женщина, какое бы положение она ни занимала, знала, что искусственный жемчуг – последний крик моды. Его носили все, вплоть до содержанок, вплоть до Симоны из «Орельена» в оранжево-синем цвете «Люлли»… Есть ли у меня перловка? Еще бы! В этом сезоне это самый шик… Даже те, у кого есть настоящие жемчуга, заменили их метровыми нитками… да! А та, что заставила всех носить драгоценности поддельные, теперь занялась настоящими? И что это она затеяла, требуя, чтобы за вход к ней платили? Правда, все средства, вырученные от входных билетов, должны были пойти благотворительному Обществу вскармливания материнской грудью под председательством принцессы де Пуа и Обществу помощи среднему классу, возглавлявшемуся Морисом Донне, членом Французской академии. Шанель, дама-просительница, Шанель, дама-благотворительница… И какая благотворительность! Умереть со смеха. Идея благотворительности до сих пор была ей чужда. И вот она встала в ряды милосердствующих представителей правящего класса. Что случилось? Ни у кого не возникло сомнений. Атмосфера изменилась, в жизни Шанель появилось что-то новое.
Украшенные бриллиантами бюсты бесконечно множились в ширмах зеркал. Очень низко установленный свет бросал на камни странные блики. Обновление форм было бесспорным. Браслеты походили на широкие манжеты. Их можно было видоизменять, делить и в любой момент из одной драгоценности сделать четыре. Колье больше не облегали шею, они рассыпались на плечах звездным дождем. Тиар не было, тонкие полумесяцы на невидимых обручах крепились в волосах. Броши тоже отсутствовали, на длинных цепочках, словно камешки на веревке, были подвешены белые солнца. Наконец, было украшение и в барочном стиле, своеобразная фероньерка, ею любовались, ни минуты не думая, что ее можно носить. Нечто вроде фараоновой челки – челки, которая через десять лет получит название «челки Шанель», – только сделана она была не из волос, а из бриллиантов одинаковой величины, сияющей занавесочкой спускавшихся до самых бровей.
Можно было бы многое сказать о смысле этой драгоценности, уже не имевшей ничего общего с модой. Что делало здесь это химерическое украшение? Родилось ли оно из парадоксального желания вернуть длинным волосам ценность в эпоху, когда их только обрезали, приглаживали, сводили на нет, чтобы получилась, по словам Колетт, «головка круглая, коротко стриженная, гладкая, словно эбеновое яблоко…»? Фероньерка была словно признание, словно сожаление, что Шанель, лишив женщину волос, лишила ее пола. Ведь волосы – это сама женщина в ее основополагающем различии, не правда ли? Но могло быть и так, что эта драгоценность была всего лишь своеобразным скальпом, брошенным к ногам победителя – Ириба, человека-бриллианта.
Как бы там ни было, украшение, одиноко красовавшееся в витрине под защитой охранников, выставлявших напоказ револьверы, стало гвоздем выставки.
Выставка привлекла толпы французских и иностранных ювелиров. Открыта она была только для профессионалов. Но каково бы ни было положение друзей или непрофессиональных посетителей, для которых Габриэль сделала исключение, будь то Этьенн де Бомон или Фулько делла Вердура (один – французский граф, другой – итальянский герцог, рисовавшие для Шанель бижутерию)[123]123
Сотрудничество с представителями цвета парижского общества при создании украшений было одной из целей Шанель. Таким образом ей удавалось, с помощью посредников, вдохновляться редчайшими драгоценностями, которые их владельцы чаще всего не носили, а держали взаперти в сейфах. «Все эти аристократишки гнушались мной, но они будут у моих ног», – говорила она мастерице, которой было поручено изготовление украшений.
[Закрыть], будь то законодатель вкусов Шарль де Ноай или продавщицы из модных магазинов, будь то верный Жозеф или его дочь, которой было тогда двадцать лет, все свидетели сохранили о выставке впечатления смешанные. Конечно, это было красиво и порою фантасмагорично, тем не менее, по необъяснимым причинам, что-то в обстановке шокировало. Была в ней какая-то голливудская нотка. И это «слишком» шло от Ириба.
До сих пор их связь, длившаяся больше года, не наделала шума. О ней едва ли догадывались. В силу тысячи причин – главная состояла в том, что его жена ничего не знала, – Ириб держался скромно. Все поняли только Колетт и Морис Гудекет. И то… По необходимости. Убежище, где тайно встречались любовники, Габриэль купила именно у них. Усадьба, находившаяся на высотах Монфора, была окружена деревьями, на которых было полно гнезд. Колетт развесила их повсюду, и этим сразу воспользовались птицы. Их было множество. «Жербьер» – так назывался дом, который Морис Гудекет, «задушенный кризисом», вынужден был продать. Последствия депрессии начинали проявляться и во Франции. Но они, казалось, не затронули Габриэль, которая зимой 1931 года одна приехала в Монфор-л’Амори, чтобы купить «Жербьер». Было холодно. Колетт осталась у огня, и дело решилось между Гудекетом и Габриэль во время прогулки по саду. Колетт не знала мотивов этих переговоров. И когда Габриэль вернулась, она посторонилась, чтобы пропустить гостью.
– Не надо, – сказала Габриэль. – Это я должна уступить вам дорогу… ибо теперь я у себя дома.
Так она сообщила Колетт, что «Жербьер» той больше не принадлежит.
Габриэль менялась. Это было замечено неоднократно. Например, когда она делала прессе заявления, звучавшие в необычном ура-патриотическом тоне… Так, если ей верить, единственной целью выставки драгоценностей было познакомить публику с французскими мастерами-ремесленниками, которых она считала «лучшими в мире». Никоим образом она не хотела составить конкуренцию ювелирам, упаси Бог! Ее интересовали только ремесленники, которых «безработица делает свободными, лишая их радости», и только ювелирное искусство, «искусство очень французское». В самом деле, роскошь умирала, безработица наступала. Что же противопоставить этому, как не бриллианты?
Она пользовалась любым предлогом, чтобы приписать роскоши спасительную роль. Было ясно, что она заговорила языком Ириба.
В период, когда состоялась выставка, ее связь стала носить официальный характер. Он переселился к ней в Предместье. Его открытое присутствие рядом с ней стирало из ее памяти следы прошлых увлечений, следы прежних связей, которые приходилось скрывать.
* * *
В 1933 году, после двадцати трех лет отсутствия, в парижских киосках появился призрак – «Темуен». Поль Ириб был одновременно его директором, автором передовиц и главным иллюстратором. Его рисунки нисколько не потеряли в силе. Их отличали все та же язвительность, безжалостное использование черного на обширном пространстве, черный цвет, порождавший силу, красоту, выразительный черный, обреченный на постоянное crescendo. Никаких элементов «декоративного», почти никаких уступок «элегантности», хотя в плане графическом «Темуен» не привнес ничего нового. Но потом все начинало портиться, даже мощь штриха, когда Ириб вводил в свои рисунки два цвета, всегда одинаковых. Выделяясь на белом фоне, они неизбежно привносили патриотическую нотку. Это были красный и синий цвета флага…
В статьях слово «Франция» повторялось в каждой строке. Это была неизменная тема, главный тезис, единственный лозунг, восторженный до абсурда. Чтобы завоевать подписчиков, использовалась только одна формула: «„Темуен“ говорит по-французски. Подписывайтесь». В каждом номере на целую страницу был напечатан сине-бело-красный цветок со следующей подписью: «Нет промышленности, производящей предметы роскоши, есть только французская промышленность». Рекламное объявление? Это были потерянные деньги. Сознавала ли это Габриэль? Она одна финансировала эту публикацию, и «Темуен» издавался одной из фирм Шанель.
Идея сама по себе была соблазнительна. Габриэль считала, что составляет счастье Ириба и одновременно заручается содействием артиста, который, сумев соединить интерес к политике с коммерческой жилкой, составил эпоху в истории рекламы. Шанель и как влюбленная женщина, и как глава фирмы могла найти выгоду в подобной сделке.
Но если несколькими годами раньше Ириб сумел проявить новаторский подход, согласившись поставить свой талант на службу крупной фирме, торговавшей винами[124]124
В 1930 году фирма «Николя» заказала Ирибу альбом, который стал верхом невольного чудачества. Его суть? Махровый шовинизм, поставленный на службу винам «Николя». Ириб восхвалял их качество только на последней странице, предварительно изничтожив все крепкие напитки других стран. Для этого он использовал такое решение: отождествить конкурирующую продукцию со страной ее производства. Убийца в русском мундире? Он попал на страницы альбома, чтобы излечить французского потребителя от всякого поползновения выпить водки. Подавать рейнские вина? В ответ Ириб показал заводы Рура… Любая покупка у Германии могла только ускорить милитаризацию Рейнской области! Попробовать виски? Это значило играть на руку британскому империализму. Американские напитки? Они будут поощрять манию величия Соединенных Штатов. Будем пить только французское!
[Закрыть], с «Темуеном» дело обстояло иначе. Шутки уступили место самому зловещему шовинизму. Ириб был одновременно националистом и реакционером, выступал против парламента. Он был вроде перевозбужденных буржуа того времени. Но отчего же статьи его были так дурны? Казалось, его художественные взгляды диктуются смутьянами, ратовавшими во Франции за возвращение к здоровым формам искусства и отличавшимися шовинистической самовлюбленностью, которая сделала бы честь фашистской Италии и нацистской Германии. Ириб стал разоблачать связь искусства и «куба» – под этим он понимал современное искусство – и выразил пожелание, чтобы человека оторвали от «машины», ненавистного объекта, повинного во всех бедах человечества. «Неужели мы принесем цветок в жертву кубу и машине?» или «Царство машин – это атака европейского мировосприятия на французское, то есть атака жесткого, холодного, гигиенического на грацию, женственность, роскошь». Эти цитаты дают достаточное представление о его стиле. Если к этому добавить еще одну фразу: «В то время, когда все флаги пытаются быть одноцветными, а мнения – единодушными, хорошо любить три цвета», то можно понять меру его ксенофобии. К внутренним врагам – они звались по необходимости «Самюэль» или «Леви», к иностранцам, Леону Блюму и его «жидо-масонской мафии», к «шпиону Торезу и его красному сброду» – прибавились враги внешние: СССР и его варварские орды, коварный Альбион и непонятно почему Америка. Если он и разоблачал Гитлера, если и сожалел о захвате Австрии Германией, то все же слишком восхищался порядком и силой, чтобы впрямую нападать на рейх.
Хотя и великолепно иллюстрированный, «Темуен» был всего лишь бесполезным отражением прессы тех лет, по крайней мере так называемой патриотической прессы, которая поощряла действия бывших фронтовиков и молодых сторонников Лиги, францистов Марселя Бюкара, «огненных крестов» полковника де Ла Рока и штурмовиков-кагуляров. «Франция французам!» Лозунг Ириба, лишенный своего рекламного содержания и использованный для других целей, был из тех, что послужили предлогом кровавых беспорядков 6 февраля.
Конечно, «Темуен» распространялся в довольно узком кругу, и не следует преувеличивать его значение. Мы бы и не стали на нем останавливаться, если бы он не знаменовал в жизни Габриэль переход от политического безразличия к взглядам, возникшим под влиянием Ириба. И это было бы еще ничего, если бы он не замкнул ее в этот образ. Республика? Это была Габриэль. Чтобы символизировать страдания Франции, это ее Ириб изображал в облике распятой Марианны в неизменном фригийском колпаке, испускающей дух. Она была и трупом с обнаженной грудью, несчастной жертвой, которую закапывал могильщик Даладье. Наконец, она была невинной Францией, представшей перед зубоскалящим трибуналом. Кто же были ее судьи? Рузвельт, Чемберлен, Гитлер, Муссолини. И смотрите-ка! Все объединились, ополчившись на величие обездоленной Франции, и все были в ответе за угрожавшие ей беспорядки.
С политической точки зрения рисунки Ириба не имели никакого смысла. Исторически они являются отражением определенного мировоззрения. Мировоззрения того класса, который, испытывая угрозу своему праву распоряжаться собственным имуществом, отождествлял свое возможное исчезновение с исчезновением господства Франции. Выставленное в киосках, разложенное на столах, прекрасно узнаваемое, лицо Габриэль призвано было прославлять ценности, которым угрожала опасность. Гордилась ли она тем, что он выбрал именно ее? Была ли она этим тронута? Из двух гипотез последняя более вероятна. Ни один мужчина до Ириба не афишировал ее так подчеркнуто.
Поэтому она постаралась сделать для него то, что не делала ни для кого другого: она решила привлечь его к своей профессиональной деятельности, разделить с ним власть, к которой до сих пор относилась так ревниво. В общем, она была счастлива, что больше ей ничего не приходится скрывать.
В то время как начались ее распри с фирмой «Духи Шанель» и любой предлог был для нее хорош, чтобы возбуждать против своих компаньонов процесс за процессом, именно Ириба она послала председательствовать вместо себя на генеральной ассамблее, хотя он не имел на это никакого права. Она чувствовала себя потерпевшей стороной. Ириб становился ее доверенным лицом, рыцарем, которому было поручено защитить ее.
Это было что-то совершенно новое.
Все заметили, что она полагалась на мужчину.
Это подтверждало ходившие слухи. И Колетт, все в том же 1933 году, вновь откликнулась на новость: «…мне только что рассказали, что Ириб женится на Шанель. Тебе не страшно – за Шанель? Этот человек настоящий демон».
* * *
Беспорядки докатились до порога дома Габриэль. 6 февраля на площадь Согласия выплеснулось 40 тысяч демонстрантов. Лучший вид на происходящее открывался как раз с того места, где пала первая жертва – Корантина Гурлан, тридцати трех лет, горничная в гостинице «Крийон». С балкона этого красивого здания, под прикрытием колоннады Габриэля, можно было наблюдать за атаками конных гвардейцев, преграждавших то проход к Бурбонскому дворцу, то к предместью Сент-Оноре, видны были вооруженные люди, которые, забравшись на деревья, защищали демонстрантов. Бывшие фронтовики с высот террас Тюильри забрасывали булыжниками силы порядка, в то время как другие пытались поджечь министерство морского флота. У подножья обелиска был виден горящий автобус, конные полицейские наносили сабельные удары по молодым людям в сапогах и беретах, а издали, с Елисейских полей, спускались господа, на груди которых позвякивали медали, они распевали «Марсельезу» и поигрывали тростями. Это были не прогулочные трости. Бритвенное лезвие, закрепленное на их конце, позволяло подрезать лошадям суставы.








