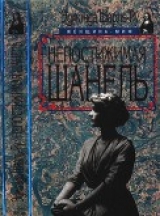
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
Перемены произошли и в составе работниц.
Габриэль стала брать на работу вышивальщиц.
Новость вызвала немалое удивление. Вышивка? У Шанель? Какая муха ее укусила? Неужели она собиралась изменить своим строгим платьям, так похожим друг на друга, что они вдохновили Пуаре на знаменитую колкость: «Что изобрела Шанель? Убожество роскоши».
Действительно, Габриэль решила обогатить свою коллекцию несколькими вышитыми моделями. У нее возникла одна идея…
Ей захотелось пофантазировать на тему рубашки, которую носили, подпоясавшись, русские мужики, захотелось интерпретировать ее по-своему, почему бы и нет? Облегающая рубашка из тонкой шерсти с вышитыми воротником и манжетами, которую будут носить с прямой юбкой, – это была одежда, вдохновленная Россией, но принимавшая сугубо парижскую форму. Габриэль решила, что тем самым даст женщинам новые возможности для обольщения. Она не ошибалась. Прошлое ее любовников всегда было для нее источником вдохновения, и блейзеры, которые носил когда-то Кейпел, осмысленные по-новому и представленные в довильской витрине на улице Гонто-Бирон, определили ее первый успех. Позаимствованная из гардероба Дмитрия рубашка была так замечательно принята, что пришлось создать ателье вышивки. Руководство им было поручено великой княгине Марии, которая после развода со своим шведом вернулась в Россию. Изгнанная революцией, она нашла убежище во Франции у единственного человека, которого любила, – у брата Дмитрия.
Так в 1921 году вилла «Бель Респиро» стала местом встречи иностранцев, которые у себя на родине никогда бы не оказались вместе под одной крышей. Можно поражаться случаю, сведшему вместе и связавшему тесной дружбой правнучку кабатчика из Севенн, сына баритона императорских театров из Санкт-Петербурга, приехавшего на Запад, чтобы реформировать музыку своего времени, и старорежимного русского, отпрыска царской фамилии, ставшего скитальцем и лишившегося родины, как и многие другие. Чего Дмитрий стоил сам по себе? С трудом можно себе представить, что сталось бы в других обстоятельствах с полковником-ребенком, затем молодым заговорщиком, верившим, что с помощью убийства Распутина он избавит от демона императорскую семью. Впоследствии судьба его была столь бесцветна, что о нем нечего сказать, кроме того, что он был красив до самой смерти в 1942 году и до самой смерти сохранял дружбу к Габриэль. Более того, минуты счастья, проведенные на вилле в Гарше, следствием которых стало мимолетное влияние, оказанное Дмитрием на парижскую моду, оказываются главными в его биографии. То, что Россия степей, Россия бояр, к всеобщему удивлению, вдруг возникла в салонах Габриэль широкими пальто на меху, темными переливами расшитых платьев, может показаться ничтожным поводом для гордости. Но эта деталь будет иметь для нас иное значение, если мы увидим в ней прощание Дмитрия со своим прошлым. Эти платья с вышивкой, которыми восторгались, эти юбки до полу, колышущиеся и словно раздуваемые ветром, помогали ему втайне обрести Россию, которую он потерял навсегда.
V
Гении в жизни Габриэль
Расставанию Габриэль с Дмитрием сопутствовал отъезд из «Бель Респиро». Все произошло без драм. В эпоху, когда у князей ничего не осталось, было делом обычным, чтобы они предлагали свое имя и титул какой-нибудь молодой женщине, обладавшей всем, кроме знатного происхождения. Дмитрий не был исключением. В Биаррице он женился на богатой американке Одри Эмери.
Причины, заставившие Габриэль покинуть Гарш, были не сентиментального порядка. Смерть Мари, жены верного Жозефа, сыграла в ее решении куда большую роль. Осложнения после испанки лишили дом его заботливой и всеми уважаемой правительницы. Габриэль решила приблизиться к месту своей работы. Кроме того, дом в Гарше становился непригоден для целей, которые она преследовала. Он был слишком мал, слишком отдален.
Габриэль переехала в Париж. Поразительный взлет фирмы Шанель давал ей для этого необходимые средства.
После тихих аллей пригорода и воскресных любезностей «Бель Респиро» – строгая атмосфера предместья Сент-Оноре, размеренность его фасадов, тишина садов, полное интриг прошлое и особняк: жилище графов Пийе-Виль[68]68
Этот особняк, возведенный в 1719 году Лассюрансом для герцогини Роган-Монбазон, в свое время находился между особняком, построенным Габриэлем для Друэна, камердинера Людовика XIV, и особняком маркиза и маркизы де Фекьер. Маркиза стала любовницей Друэна, когда была всего лишь мадемуазель Миньяр, дочкой художника.
[Закрыть]. Габриэль заняла в нем лучшую квартиру в первом этаже, к которой очень быстро добавился и второй этаж. Высокие потолки, анфилада огромных комнат, глядевших в сад, который тянулся до авеню Габриэля. Все тот же Жозеф, ставший своего рода доверенным лицом, нанял повара, лакея, кухарку. Здесь, в доме № 29, начиналась новая жизнь.
Внутреннее убранство гостиных в духе классицизма немедленно претерпело резкие изменения. Габриэль попыталась что-то сделать с деревянной обшивкой стен, чьи зеленоватые тона и позолоту она возненавидела сразу же, как только переехала. Но ей было запрещено перестраивать что-либо. Приходилось заниматься маскировкой. Она прибегла к помощи Серта и Миси. Да и как могло быть иначе?
Что знала Габриэль о людях, с которыми ей предстояло общаться, о среде, где торжествовал доведенный до крайности эстетизм? Ничего. Как ничего не знала она и о переменчивой в своих вкусах буржуазии, пытавшейся порвать с тем, что она всеми силами внедряла пятнадцать лет назад, – со стилем модерн. Если бы Габриэль сказали, что пора ее расцвета пришлась на стык двух эпох, что бы она в этом поняла? Прошлое рушилось целыми пластами. Но как она могла об этом догадаться, она, у которой не было прошлого?
Когда Шанель заняла свое место на большом празднике парижской жизни, разрыв уже совершился. Архитектура, мебель, ткани, цвета, мода – все находилось на грани перемен. Расцвет декоративного искусства в 1925 году даже в глазах самых несведущих придаст официальный характер творческим поискам архитекторов и художников, которым Европа будет обязана новым стилем жизни. Но все это было еще впереди. За исключением нескольких избранных и знатоков, лишь очень немногие парижане понимали ценность Ле Корбюзье, Макинтоша[69]69
Чарльз Ренни Макинтош (1868–1928) – шотландский архитектор, декоратор, художник, плакатист.
[Закрыть], Климта[70]70
Густав Климт (1862–1918) – венский художник, оказавший большое влияние на развитие европейского декоративного искусства.
[Закрыть] или Ван де Вельде[71]71
Анри Ван де Вельде (1862–1957) – бельгийский архитектор и полемист.
[Закрыть], еще меньше было тех, кто покупал их работы. Во Франции царил основательный хаос линий и форм, когда инстинкт Габриэль привел ее к тому, что в ее окружении было наиболее устоявшимся, – к барочности Сертов. С их помощью она приобщилась к этому стилю и открыла для себя – в тридцать семь лет – компоненты интерьера, который стал для нее своим и который она обогатила, постепенно вводя в него привычные для себя предметы.
В доме Габриэль было столько же золота и хрусталя, как и у Миси, но с включением черных нот. Зато не было ни мрамора, ни камня, который так любили цари, что каждому главе государства, бывавшему в России, непременно дарили часы из малахита. Этой русской мании Мися тоже отдала дань – у нее в столовой возвышался огромный стол вызывающего зеленого цвета.
Первым ценным предметом мебели, появившимся у Габриэль, было пианино. Едва его привезли, как на нем тут же стали играть – Стравинский, Дягилев, Мися, пианист из «Русских балетов»… Посыпались жалобы от соседей. Граф Пийе-Виль, живший на третьем этаже, считал, что шум стоял невыносимый. Хуже того: однажды вечером, довольно поздно, в особняк явились испанские певцы с гитарами. Негодованию графа не было предела. Кабацкая музыка… К тому же видели, как к Габриэль входили типы с разбойничьими рожами. Это были артисты в сопровождении карлицы, разодетой самым экстравагантным образом, и безногого калеки, который, сидя в своем ящике на колесах, разыгрывал пародию на корриду прямо посредине главного двора.
Но на первом этаже не обратили никакого внимания на жалобы этажа благородного. Стравинский и Дягилев считали этих танцоров настоящими артистами, они вместе разыскивали их в Испании для «Куадро Фламенко»[72]72
«Куадро Фламенко» – танцевальная андалузская сюита, исполнявшаяся исключительно народными танцорами и представленная в рамках «Русских балетов» 17 мая 1921 года в театре «Гэте-Лирик» в Париже. Стравинский сопровождал Дягилева в Севилью и выбирал музыкантов, тогда как Дягилев занимался отбором танцоров. Среди них были карлица Габриэлита дель Гарротин, замечательная танцовщица, и безногий калека-побирушка, совершившие путешествие в Париж.
[Закрыть]. Пикассо, писавший декорации для этого небольшого танцевального концерта, привез испанцев в предместье Сент-Оноре. Возбужденный, забавляясь их присутствием в Париже, он избрал в качестве постановочной идеи «театр в театре» вместо того, чтобы показать своих соотечественников в декорациях, напоминающих народные кабаре, где они имели обыкновение выступать. Пикассо воссоздал на сцене старый театр XIX века, с черным задником, перегруженным золотом, и двойным рядом лож, затянутых красным. В каждой ложе сидели пародийные персонажи, нарисованные в тромплее, респектабельные зрители в цилиндрах в сопровождении красивых толстых дам. Счастливая пора для Пикассо! Его хорошее настроение прорывалось сквозь это ироническое изображение родной страны. Любопытный и короткий период его жизни, когда, порвав с богемой Монмартра, он посещал богатые кварталы и с невозмутимой серьезностью – серьезностью испанца – разыгрывал роль пробившегося художника. Он принимал приглашения на завтраки и обеды в городе, дававшиеся в его честь виконтом Шарлем де Ноаем или графом Этьенном де Бомоном. По этому случаю он разодевался соответствующим образом: костюм по последней моде, «бабочка», и несмотря на то, что его старые друзья недоуменно пожимали плечами, на жилете у него красовалась цепочка от часов. Эта новая фаза его жизни была столь же временной, как и его прежние квартиры. Но Пикассо нравилось изображать дело так, будто его примирение со светом окончательно, и иногда ему удавалось убедить в этом даже самого себя. Неужто он дойдет до того, чтобы принимать официальные почести? Об этом начинали поговаривать. Хуан Грис с отвращением писал своему другу Канвайлеру: «Пикассо всегда создает замечательные вещи, когда у него есть время… Между русским балетом и светским портретом».
Пикассо подружился с Габриэль во время работы над «Куадро Фламенко». Подружился настолько, что порою даже жил у нее. Правда, недолго и лишь тогда, когда чудовищный беспорядок, царивший в «Русских балетах», где импровизация и изменения, вносимые в последнюю минуту, были правилом, задерживал его в Париже. Ужас перед одиночеством – доминирующая черта его характера – приводил к тому, что больше всего он боялся провести ночь один в своей квартире на улице Ла-Боэси и оказаться в пустой спальне с двумя медными кроватями, в пустой гостиной с тяжелым канапе эпохи Луи-Филиппа, перед безмолвным пианино с неизбежной парой канделябров – обычное убранство дома человека остепенившегося и женатого на Ольге Хохловой, балерине Дягилева и офицерской дочке[73]73
Гражданский брак Пабло Пикассо с Ольгой Хохловой был зарегистрирован 12 июля 1918 года в мэрии 7-го округа. Состоялось также венчание, прошедшее со всей пышностью в русской православной церкви на улице Дарю. Свидетелями молодоженов были Макс Жакоб, Жан Кокто, Дягилев и Гийом Аполлинер, державшие традиционные венцы над головами жениха и невесты.
[Закрыть]. В то лето он устроил Ольгу в Фонтенбло, где она приходила в себя после рождения их первого сына, и Пикассо без устали запечатлевал любые их позы, датируя каждый из эскизов и ставя даже час, когда они были сделаны. «19–11-1921, в полдень», – читаем мы на рисунке, где изображен Паоло в возрасте двух недель. Этот восторженный отец, когда ему хотелось, жил у Габриэль.
У Миси там тоже была своя комната, но в силу менее ясных причин.
Случалось, что Жозеф, внезапно разбуженный, находил в доме гостей, собравшихся в официантской. Толпа спорящих или голодных? «Русские балеты» переживали пору перемен, Дягилев решил отказаться от традиционной России как источника вдохновения и обратился к артистам, по большей части иностранным, но ставшим гордостью французской живописи и музыки.
Короче говоря, до того как мебель – ее выбором руководил Серт – заняла свое место в доме, стиль которого во многом составил определенную эпоху, поставленное в пустой комнате пианино было единственной связью между Габриэль и художниками и музыкантами, вращавшимися вокруг Дягилева. Затем последовали предметы, в которых проявился подлинный характер обитательницы дома, постаравшейся оставить место мечте.
Первыми появились лакированные ширмы из Короманделя.
Расставленные вокруг пианино, ширмы образовали своего рода альков, выглядевший вполне театрально, и закрыли двери, через которые можно было войти, выйти и пройти в соседние комнаты, не будучи увиденным. Жозеф накрывал стол в библиотеке, стараясь казаться незаметным и не мешать артистам, которых он недолюбливал, считая, что все они прихлебатели, рвачи и «оригиналы».
Таким образом, благодаря ширмам, которые то казались высокими потрескавшимися стенами, то из-за проделанных в них отверстий, пропускавших свет, напоминали деревянные решетки на окнах арабских домов, которые позволяют наблюдать и не быть увиденным, главные особенности шанелевского интерьера определились уже в 1921 году. Ее часто спрашивали о том, что предопределило ее выбор – каждый журналист, столкнувшись с загадкой подобного рода, неутомимо пытался найти к ней ключ, – но никогда Габриэль не говорила о чьем-либо влиянии. Да и разве можно было вырвать у нее истину? Разве могла она признаться, что окружавшая ее повседневная обстановка была создана по рецептам, заимствованным у Сертов? Страстность отрицаний выдавала ее с головой. «Чего вы добиваетесь?» – кричала она. После восьмидесяти, когда страсть к обману развилась у нее до бреда, она хладнокровно заявляла одной из своих самых верных горничных: «Я люблю китайские ширмы с восемнадцати лет…», – ожидая, что подобное утверждение будет принято за чистую монету.
* * *
Именно в этом доме завязалось то, что стало для Габриэль последним шансом уходящей молодости: здесь, в особняке, какой можно увидеть только в Париже, укрытом тенистой листвой огромных деревьев, стоявших, казалось, в вечном покое, ее любил поэт, Пьер Реверди.
Несомненно, что мысль о замужестве занимала сознание Габриэль довольно прочно. Несомненно также и то, что Реверди глубоко любил ее. Подарить поэту достаток? Сделать этого беспокойного счастливым? Безнадежно. Могла ли Габриэль подозревать о существовании человека, еще не известного никому, и в том числе самому поэту, о существовании нового Реверди, опьяненного абсолютом и стремящегося к одиночеству, словно мученик к костру? Она ничего об этом не знала, как не знала и о мрачной радости, толкавшей его к бегству: «Бежать в никуда, в сущности, вот что нам нужно… Есть неизъяснимое наслаждение в бегстве»[74]74
Pierre Reverdy. Le Livre de mon bord. Paris, 1948.
[Закрыть]. Эти слова позволяют понять, что Габриэль отважно взялась играть заранее проигранную партию.
Провинциал, переселенец… «Одновременно угрюмый и солнечный»[75]75
Andre Masson. Rememoration. Mercure de France, № 1181.
[Закрыть]. Черные волосы цвета вороного крыла, как у цыган, смуглое лицо, звонкий голос – Реверди вносил в беседу ту же сумасшедшинку, что и Габриэль. Разговор был одним из удовольствий, которого они оба не могли лишить себя. Невысокого роста, не отличавшийся стройностью, Реверди не обладал даром обольщения в том смысле, как обычно понимается это слово. Он был привлекателен по-другому. В нем поражало странное умение все преображать. И еще глубина взгляда. Прежде всего притягивало именно это – черный цвет глаз Реверди.
Он был внуком ремесленника и сыном винодела, этого было более чем достаточно, чтобы Габриэль поддалась соблазну установить связь между прошлым и настоящим. Все в Реверди – манера разговора, цвет лица, волосы – напоминало Шанель детство. Ее братьев, искателя приключений Альфонса, часто проезжавшего через Париж, и Люсьена, милого Люсьена, которому она только что пожаловала столь же щедрое содержание, как и Альфонсу, отличала та же словоохотливость, которая встречается у любого крестьянина родом с Юга. И как они, Реверди испытывал особую радость, когда работал руками. Если добавить, что он хранил в себе мучительное воспоминание о винограднике у подножия Черной горы, о розовой земле, словно отрезанной от мира и испещренной зимой серыми, а летом зелеными бороздками, если вспомнить, какое горе пережил он, когда примерно в 1907 году господин Реверди-отец из-за кризиса в виноделии вынужден был расстаться с виноградником, составлявшим все его состояние, тогда перед нашим мысленным взором возникнет вдруг папаша Шанель, всю жизнь мечтавший о винограднике, но так никогда его и не имевший.
Габриэль наконец жила с человеком, в душе которого земля и связанные с ней драмы оставили такой же отпечаток, как у ее родных. Кризис сбыта вина, вырвав Реверди из привычной семейной обстановки, сделал из Пьера сначала городского мальчишку, которому не удавалось освободиться от воспоминаний о том, что он потерял, потом ученика коллежа в Нарбонне, отчаявшегося затворника, жившего в интернате. Отвращение к интернату на всю жизнь оставило в нем отметину, сделанную словно раскаленным железом. Стоило только Габриэль признаться ему в Обазине или Мулене, как легко было бы им разговаривать…
Реверди с гордостью говорил о мастерах-ремесленниках, от которых он происходил, о своем деде, резчике по дереву, своих дядях, церковных скульпторах, – но ведь и Габриэль считала свою профессию ремеслом. А когда он рассказывал об отце… Человек свободомыслящий, социалист, господин Реверди воспитал своих детей вне всякой религии. «Я только тень отца, – говорил его сын. – Никогда я не встречал ум более гибкий, более широкий, в соединении с характером вспыльчивым и великодушным, всегда ломавшим рамки… Он был моим образцом», – к этому Габриэль тоже была особенно чувствительна. Ломать рамки – начиная с Виши и кончая Парижем, она только это и делала. Жизнь ни разу еще не сводила ее с человеком, который так мог понять ее.
Позже, много позже, когда пришло время одиночества, озлобления и лжи, брошенной в лицо собеседникам, словно яростный бунт против истины, только имя Реверди казалось ей достойным того, чтобы быть соединенным с ее именем.
После Боя – он… Кроме них – ничего и никого.
До последних дней жизни Шанель больше всего любила сравнивать Реверди, нищего и безвестного, с теми поэтами его поколения, чья слава или богатство воспринимались ею как чудовищное надувательство. Кем все они были? Кем был Кокто?
«Рифмоплет, – говорила она, и голос ее прерывался от гнева, – фразер, ничтожество. Реверди был настоящим поэтом, то есть ясновидцем». Горе тому, кто пытался с ней спорить. Некоторые имена выводили ее из себя. Например, Валери… Как она его только не обзывала: «Тип, который позволяет, чтобы его осыпали почестями, какой позор! Чего только не нахватал! Увешан наградами, словно рождественская елка. Теперь уж он попал и на фронтон дворца Шайо. Государство издевается над нами. На Трокадеро, подумать только! Фразы-то пустые, никудышные. Какой вздор!» То, что Валери выпала подобная честь и его слова написаны на общественном здании, находящемся к тому же на ее Трокадеро, казалось ей невыносимым. «Подите к черту! Говорю вам, это скандал!» Она злилась так, что у нее садился голос, она так дергала свое колье, что едва не разрывала его. Она кричала, что пора восстановить истину. Это было в 1950 году. Она так никогда и не утихомирилась. Через двадцать лет она взялась за президента Республики. Надо, говорила она, убедить его в том, что он ничего не смыслит в поэзии. Антология[76]76
Georges Pompidou. Anthologie de la poésie française. Paris, 1968.
[Закрыть], изданная им, была бессмысленна, ибо в ней не оказалось Реверди. Она повторяла: «Совершенно бессмысленна, вы слышите меня? Совершенно. На что рассчитывал Помпиду? На Академию? В любом случае, кто это будет читать? Работа школьника». Как было остановить ее? В конце концов, ей позволяли предаваться гневу.
У нее было полное собрание сочинений Пьера Реверди в оригинальных изданиях и почти все его рукописи. Среди прочих сокровищ – экземпляр «Пеньковых галстуков» выпуска 1922 года. У Шанель был экземпляр номер 9, переплетенный Шредером, на каждой странице которого была оригинальная акварель, сделанная одним движением кисти, таким непосредственным и точным, что, когда вы листали книгу, у вас возникало ощущение, что перед вами шедевр. Становилось невозможно увидеть Реверди иначе, чем это сделал Пикассо. Ибо именно он как-то вечером, забавляясь, проиллюстрировал этот уникальный экземпляр. «Я сделал иллюстрации к этой книжке для Пьера Реверди от всего сердца», – гласит дарственная надпись Пикассо. Предмет бесценный, который Шанель порою держала в сейфе взаперти, но чаще всего он валялся у нее под рукой. Когда ей говорили: «Когда-нибудь у вас его украдут», она отвечала: «Это совершенно очевидно. Прекрасные вещи созданы для того, чтобы переходить из рук в руки». И когда она позволяла какому-нибудь любителю провести день среди ее книг, он приходил в замешательство… В каждом произведении Реверди, в каждой рукописи – слова любви, нежности, повторявшиеся из года в год, с 1921 по 1960-й, год его смерти. На «Небесных обломках»: «Моей великой и дорогой Коко от всего сердца и до последнего его биения», 1924-й. На рукописи «Человеческой кожи»: «Вы не знаете, дорогая Коко, что тень – самая дорогая оправа для света. И в этой тени я никогда не переставал питать к вам самую нежную дружбу», 1926-й. На «Источниках ветра»: «Дорогая и восхитительная Коко, поскольку вы дарите мне радость, полюбив некоторые из этих поэм, я оставляю вам эту книгу и хотел бы, чтобы она стала для вас мягким и неярким светом лампы у изголовья», 1947-й.
На полках библиотеки Шанель великолепно переплетенные сочинения Реверди воспринимались как исповедь, перемежающаяся грозами и затишьем, растянувшаяся на годы. Вдруг в дарственных надписях проглядывала история двух влюбленных, становившаяся ясной для тех, кто умел читать. На сей раз Габриэль ничего не скрывала. Она сотрудничала, она предвосхищала вопросы. Не случайно рядом с произведениями Реверди стоял на полках экземпляр книги Поля Морана «Запасы нежности», которую он послал им обоим в 1921 году, соединив в дарственной надписи их имена, что позволяет датировать их связь безошибочно.
О своем романе Габриэль говорила мало. Она не любила, когда выспрашивали, каким было ее чувство к нему. Но о нем… Она всегда с поразительным волнением рассказывала о том, как юношей Реверди оказался замешан в бунт. Дни Нарбонны… Восстание виноделов. Она рассказывала о Юге, жившем в нищете. Откуда брался в ней этот пыл? Она рассказывала о крестьянах, сотнями стекавшихся из разных мест, порою проходивших пешком по двести километров, чтобы принять участие в марше гнева. Она повторяла: «Двести километров, вы слышите, двести…» Она рассказывала о том, что один только красный флаг Лангедока развевался над мэрией Нарбонны, а трехцветный был снят, о том, что площади были запружены народом, что поперек улиц были протянуты веревки, чтобы помешать доступу кавалерийских эскадронов. Внезапно шестнадцатилетний Реверди оказывался свидетелем кровавой расправы. Тогда широкими движениями рук Габриэль изображала звон колоколов. Набат объявлял участникам марша голода о прибытии войск. Гусары из Тараскона, кирасиры из Лиона, жандармы и пехотинцы в боевой форме прибывали под шиканье и свист толпы. Ах, эта Шанель… Когда что-нибудь воодушевляло ее, какой непохожей на себя она могла быть. Следовало бы задуматься, почему она так горячилась, рассказывая о мятеже, самый принцип которого был противоположен ее убеждениям. Но она упорствовала. Необъяснимая перемена. Внезапно она отказывалась принимать порядок власть имущих. Она рассказывала, как виноделы плевали военным в лицо, в кафе их отказывались обслуживать, а в гостиницах – предоставлять номера. Факты, бесспорно, подлинные, но она передавала их с такой страстью, что казалось, будто она утоляет личную месть. На кого она нападала внутри самой себя? На красивых господ в красных штанах, на офицеров из «Ротонды», на посетителей Сувиньи? Когда дело подходило к развязке, и на глазах лицеиста Реверди солдаты стреляли, и были десятки раненых, и была убита девушка, сомнений не оставалось: симпатии Габриэль на стороне виноделов, и казалось, что она заодно с бунтовщиками. В тот момент, когда очередь, пущенная по закрытым ставням, убивала кабатчика, ярость Шанель не знала предела. «Кабатчик, – повторяла она, – какой абсурд…» Что-то обжигало ее. Давние истории обретали плоть. Было слышно, как она бормочет: «Эти мерзавцы…» Далее следовали какая-то невнятица и рассуждения о том, что люди имеют право закрывать свою торговлю, когда им вздумается. Безусловно, она намекала на какие-то другие события. Но всегда именно история ни в чем не повинного кабатчика, запретившего солдатам войти в свое заведение, и пролитая за ставнями кровь делали Шанель другой. Само это слово, кабатчик, господствовало над всем остальным, заставляя ее хотя бы однажды признать жестокие страдания человека. И ее больше не удавалось отвлечь от драмы, поведанной ей Реверди.
Наступала ночь…
Военные, разместившиеся по углам улиц, не были отъявленными негодяями, но они не понимали женщин, одетых в черное, отмечавших камешками или полевыми цветами залитые кровью булыжники мостовых. Крестьянки, крестьяне… Приходилось следить за ними, не то потом они прятались по темным углам, с куском мела в руке. Они писали на мостовых: «Смерть Клемансо!» Именно его, тогдашнего министра внутренних дел и приятеля Боя, виноделы Нарбонны считали виновником устроенного побоища.
* * *
Реверди познакомился с Габриэль через некоторое время после гибели Боя. Произошло это у Миси, куда он иногда захаживал, хотя не был ни меломаном, ни любителем балета. Его интересовали только художники, только общество поэтов и писателей, при условии, однако, что они не были людьми светскими. Ибо по отношению к последним он не скрывал своего презрения. В общем, в гостях он бывал редко. Ему некогда было терять время в салонах.
За одним, впрочем, исключением – салона Миси, к которой он питал чувство признательности.
С Мисей он познакомился в 1917 году, когда основал журнал «Нор-Сюд». Через «Нор-Сюд» Реверди, по словам Мишеля Лериса, оказал столь же «революционное влияние на поэтическое чувство нашего века, как и его друзья, художники-кубисты». Журнал находился под эгидой Аполлинера и стал благодаря манифестам Реверди, иллюстрациям Хуана Гриса, Леже, Брака и Дерена передовым органом новой поэзии в глазах молодежи того времени.
Хотя Реверди был освобожден от военной службы и был стойким антимилитаристом, он завербовался добровольцем, едва объявили войну. В 1916 году он был комиссован. «Нор-Сюд» в его понимании должен был объединить всех, кто придерживался современного направления в искусстве, независимо от национальности. Послужить связью между художниками и поэтами, еще находившимися на фронте? Журнал, который будут читать в грязи окопов…
«Нор-Сюд» был его войной, единственной, которая его интересовала, войной, помогавшей определить перспективы развития поэзии, порывавшей с прошлым. Это была неожиданная помощь со стороны Хальворсена, шведского друга, давшего Реверди возможность высказаться. «Нор-Сюд» был его надеждой и, возможно, его победой.
Поразительное предприятие, если подумать, с какой нищетой поэту приходилось бороться.
Вернувшись к гражданской жизни, Реверди вновь оказался в своём временном жилище на самом верху Монмартра в странном саду в серых тонах. Дом № 12 по улице Корто, ветхое строение, столь же знаменитое, как Бато-Лавуар. Другие жильцы? Сюзанна Валадон и Утрилло, Альмерейда и несколько анархистов, которые, несмотря на то что всю жизнь заявляли о своем отказе носить оружие, позволили себя мобилизовать. Дело приняло удивительный оборот, когда один из них, гравер Морис Делькур, проявил героизм и умер кавалером ордена Почетного легиона, к отчаянию толстухи Ненетты, его подружки, которая ничего не могла понять в этой трагической перемене. Из своей комнаты Реверди слышал, как она кричала: «Зачем его туда понесло, моего мужика?» На войне погиб тот, для кого все солдаты всегда были убийцами свободы. Ненетту старались утешить.
В доме стало много пустых квартир, но консьерж по-прежнему был на месте.
Реверди без всякого удовольствия вновь встретился с этим грозным стражем, чьи сыновья, «настоящие бандиты», сеяли в квартале ужас. Поэта вновь ждали холод, туманы, ужасающая нищета ателье, тихие улицы, все, что он любил на Монмартре и что ненавидел. Разухабистая, косматая, вечно предъявляющая требования богема, кутежи, аккордеон – все это внушало ему такое отвращение, что он усвоил совершенно иной стиль. Подобно Дерену, одевавшемуся «с английским шиком», подобно Браку, носившему котелок и старавшемуся походить на букмекера, Реверди, чьи фантазии в области одежды ограничивались маленькой каскеткой, наподобие тех, что носят помощники конюхов, обозначил свое презрение к художественному беспорядку коротко стриженными волосами, тщательно завязанным галстуком и двубортным пиджаком, с которым никогда не расставался. Кстати, именно таким он изображен на рисунках, сделанных в 1918 и 1921 годах Хуаном Грисом и Пикассо.
Любитель предрассветных прогулок, он вновь обрел Холм, его крутые склоны, его лестницы, словно подвешенные к небу. Он медленно поднимался по ним на заре, в тот час, когда фиакры развозили последних гуляк, а тележки, нагруженные овощами, тянулись вверх с Центрального рынка. Приходилось снова браться за работу, которой он занимался до войны и которая одна только приносила ему заработок. Он был типографским корректором, работая в газетах, выходящих по утрам и делающихся ночью, устраиваясь то в одно, то в другое место, в маленькие мастерские, прятавшиеся в глубине темных дворов. Так продолжалось до 1921 года, когда по необходимости он согласился на постоянную работу в «Энтрансижан». И наконец, жена. Ее он тоже обрел заново. Она ждала его, терпеливо и преданно, в их ледяном жилище. Потому что дело обстояло так: они жили вдвоем на то, что он зарабатывал, вдвоем обогревались, вдвоем одевались. Он был вынужден сам выпускать свои книги, начиная с текста, который он печатал, отдаваясь этой работе с маниакальной тщательностью внука ремесленника, и кончая брошюровкой, которой занималась жена в качестве опытной портнихи, и случалось чудо, когда у одной из этих книжиц, отпечатанных в ста экземплярах, находилось больше тридцати читателей.
Та, что делила с ним тяготы жизни, была связана с воспоминанием о первых месяцах его жизни на Монмартре, когда Реверди только что приехал в Париж и город казался ему наказанием. Какого же южанина не разочаровывал Париж? Взять хотя бы Пикассо… «Я никогда не знала иностранца, менее пригодного для жизни в Париже», – говорила Фернанда Оливье. Но, будь они каталонцами или итальянцами, обратно они не уезжали. Реверди сблизился вначале именно с итальянцем. Это был художник с горящим, странным взглядом, юноша очень цельный в своих суждениях, что должно было понравиться поэту. Итальянец жил на Монпарнасе, но его часто видели на Монмартре. Он заходил к Реверди либо в поисках Утрилло, которого приводил обратно в состоянии такого опьянения, что от шума вздрагивал весь квартал, либо разыскивая свою любовницу Беатрису Гардинге, которую чаще всего находил у Макса Жакоба. Та приходила в ужас от того, что ей снова придется переносить приступы буйства любовника. Его звали Моди. Это был Модильяни, сын социалиста, как и Реверди. Итальянцы, мастерская которых находилась в нескольких метрах от Бато-Лавуара, часто принимали их. Братья Коминетти…








