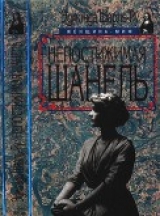
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
Другая на ее месте, обнаружив немцев в «Ритце», решила бы переехать. Габриэль не сделала ничего подобного и потребовала от директора, чтобы он ее выслушал. Он ее «выставил»? Она соглашалась сменить комнату, но не адрес. Ибо прекрасные апартаменты, окна которых выходили на Вандомскую площадь, просторная комната, где она восстановила убранство Предместья времен ее связи с Ирибом, – все это было занято в первые же часы после реквизиции. Куда пойти? Сменить квартал значило удалиться от магазина, потерять контроль над своим заработком, она не могла на это решиться. Да, другая бы на ее месте почувствовала себя безумно униженной как директором гостиницы, так и немцами, проще говоря, почувствовала бы себя изгнанной. Такого рода соображения Габриэль не принимала в расчет. В чем была ее сила? Позаботиться о том, что могло ей пригодиться. А ей нужно было так немного. Ни крыша, ни стены, никакое убранство никогда не казались ей окончательными, и главный страх буржуазии, что «посягнут на ее мебель», был ей чужд. Лишь бы ничто не угрожало ее деньгам, ее кубышке. Она опасалась только одного – остаться на мели. А все остальное? Пустяки! Ее вещи перенесли в другое место? Замечательно… Наконец-то коромандельские ширмы найдут себе настоящее применение. Ведь они были задуманы как раз для того, чтобы их без конца складывали и раскрывали. Она развернет их в нескольких шагах от «Ритца», прямо над своим магазином, как раскидывают палатку, и там устроит гостиную по своему вкусу. Такое поведение диктовали ей ее детство и годы, прожитые в постоянном кочевье. «Ритц» предложил ей маленькую комнатушку, выходящую на улицу Камбон? Она знавала и худшее, большего ей не надо. Этого было достаточно, чтобы выспаться в тепле. Могла ли она догадываться, что этого окажется достаточно и чтобы умереть? Ибо именно в этой скромной комнате она закончит свою долгую жизнь.
Как бы там ни было, у нее не было выбора.
Тому, кто советовал ей поселиться в другом месте, и в частности Мисе, удивлявшейся, что она довольствуется такой заурядной обстановкой, Габриэль возражала: «К чему переезжать? Рано или поздно все гостиницы будут заняты. Уж лучше остаться здесь. Комната маленькая? Она будет мне дешевле стоить…» Все то же стремление сэкономить и старинная способность жить просто, которую она обрела вновь без всякого труда. Когда один друг, встреченный ею в Виши, спросил, почему она так торопится скорее вернуться в Париж, она сослалась на цену горючего: «Ждать? Чтобы обратный путь обошелся безумно дорого? Да вы что! Если так пойдет и дальше, горючее будет так же драгоценно, как духи…» «Шанель № 5»! Ее единственная мерка, ее золотой эталон. Тем не менее она была богата. Но для нее не существовало ни глупых предосторожностей, ни мелких прибылей, и потому все у нее шло в ход, как у крестьянок, которые во времена поражений или нашествий ничего не выбрасывали, копили, хранили хлеб и старые кости из месяца в месяц. Габриэль решительно была из этой же породы и, осмелимся сказать, отличалась скупостью.
* * *
Шпатц и Габриэль… Узнать бы, когда, где и как они познакомились… Надо ли ей верить, когда она утверждала, что они были «старые друзья»? Тем самым она давала понять, что они встретились еще до войны… Здесь это случилось или там, в том году или другом, позволит ли это нам лучше понять тайную историю их любви, ее особый свет, ее сладость, ее неистовство, ее правду и ее ложь? Знала ли она его до поражения или, напротив, впервые увидела в тот день, когда пришла просить за сына Жюлии, – что это меняет?
Фон Д. был теперь в достаточной мере лишен амбиций, чтобы заставить своих шефов позабыть о себе, но достаточно полезен, чтобы его присутствие в Париже не ставилось под сомнение. Тонкая игра, хитроумные маневры, целью которых было остаться во Франции, – других забот у него не было. Он опасался только одного: как бы его не почтили какой-нибудь специальной миссией, из тех, что потребовала бы его присутствия в берлинском осином гнезде со всем сопутствующим этому риском. Хуже всего было попасть в лапы тамошней камарилье, и сделать было ничего нельзя. Так можно было оказаться завербованным друзьями Канариса против Гейдриха, получить задание, якобы согласованное с Гитлером, а затем обнаружить, что вы действуете против него или устраиваете подвох, чтобы расстроить планы генерального штаба вермахта, тогда как вы считали, что подчиняетесь ему. Словом, вы становились пленником противоречий, ненависти, махинаций, звериной ревности, а затем и жертвой тайных хозяев третьего рейха. Этого фон Д. боялся больше всего на свете, этого он хотел избежать. Потому он шел даже на то, чтобы близкие товарищи обвиняли его в безразличии и апатии, и те не упускали случая намекнуть на это. В тех же грехах станет упрекать его и Габриэль. Но не сразу. Ибо поначалу ей безумно нравился фон Д., такой сдержанный, всегда в гражданском и охотно говорящий по-английски.
Желание жить, скрываясь, деля на двоих счастье и физическое удовлетворение, о котором фон Д. говорил так часто, что это признают даже самые ревнивые из его прежних любовниц, объясняет господствовавшую вокруг любовников атмосферу таинственности. Шпатц и Габриэль были невидимы, потому что счастливы, счастливы в течение трех лет, в мире, где накапливались ужасы, счастливы, тогда как Мися медленно слепла, делая вид, что ничего не происходит. («У меня дома она угадывает дверные ручки, – замечала Колетт. – Ее благородное кокетство трогает нас больше, чем жалоба…») Счастливы в то время, как в Давосе, в 1942 году, умирал в одиночестве от туберкулеза спутник «Бель Респиро» и солнечных дней в Аркашоне великий князь Дмитрий Павлович, счастливы в то время, как в Сен-Бенуа-сюр-Луар начиналось мученичество Макса Жакоба – как его забыть? Они были счастливы, эти двое, счастливы, и надо ли порицать их за это?
Бедный, бедный Макс, пытавшийся за шутками скрыть свои муки. Макс, которого заставили носить желтую звезду, и он носил ее на своем поношенном пальто и так, заклейменный позором, каждое утро пересекал деревню, направляясь в базилику, чтобы отслужить первую мессу. Бедный, бедный Макс…
Все это происходило в то время, пока двое других в своем безумии… Их одиночество не прерывалось ничем, они никуда не ходили, каждодневные свидания в одной и той же, поспешно восстановленной обстановке. Габриэль захотелось иметь пианино, на котором она могла бы упражняться. Теперь у нее было время. А Шпатц любил музыку. В его профессии это производило впечатление. Ни для кого не было секретом, что поначалу Гейдрих сделал карьеру благодаря своим способностям скрипача. Он наигрывал Канарису его любимые квартеты, и между ними установилось определенное доверие. До тех пор, пока соперничество не стало сильнее, чем их любовь к Моцарту или Гайдну. Но тем не менее вначале… Удар смычка, право слово, мастерский. И Габриэль снова занялась музыкой. Она вспомнила, чему ее научили дамы-канонессы, все это вперемешку с репертуаром «Муленской лиры», когда-то подслушанным тайком. Вспомнила и несколько советов тапера из «Альказара», вспомнила, наконец, и концерты, услышанные на террасе Большого казино в Виши. Все те же «Госпожа эрцгерцогиня» и «Фингалова пещера»… Габриэль с непринужденностью вернулась к репертуару оперетты и оперы.
Иногда она пела, и фон Д. слушал. Любовь этой женщины превратила его в восточного мужчину, который больше не выходил из дома и нигде не показывался, ни в роскошных ресторанах, где благодаря взносу в «Национальную помощь» можно было съесть все, что угодно, ни в «Каррере», модном ночном кабаре, ни в бистро, будь то «Серебряный овен» или «Золотой телец». Шпатц не участвовал и в потрясающих проказах, в которых проявлялась «очень полезная легкость национального характера», его не трогали великая грусть и уныние униженного народа. Его не было видно нигде и никогда.
Габриэль и Шпатц жили над магазином, где теснились толпы покупателей в военной форме. Когда «Шанель № 5» не хватало, эти странные туристы довольствовались тем, что крали с витрин поддельные флаконы, помеченные двумя переплетенными буквами «С». Что-нибудь увезти с собой. Память об оккупации, товар из Парижа, как говорится.
II
Черный запах авантюры
Что думать о жизни, в которой все расписано заранее? Габриэль не могла удовлетвориться одной только музыкой и серыми буднями любовной связи, скованной запретами военного времени. Фон Д., напротив, очутившись благодаря ей в атмосфере, где все приобретало колдовской характер, наслаждался. Он был лишен воображения.
То, что инициатива перемен исходила от Габриэль, более чем вероятно. Она всегда испытывала потребность что-то делать. Испытать судьбу? Это было для нее удовольствием.
В течение некоторого времени она была поглощена распрями с фирмой «Духи Шанель». Ее духи… Уже пятнадцать лет, как она уступила братьям Вертаймер право производить и продавать их, так и не смирившись с мыслью о том, что этот контракт был окончательным. Самые знаменитые адвокаты напрасно представляли ей доказательства лояльности ее компаньонов, они могли делать и говорить что угодно, – оставшись наедине с собой, она вновь возвращалась к своим сомнениям. Дело было ясное! Ее надули! Это стало ее навязчивой идеей.
Когда оккупационные законы предоставили ей возможность разорвать это сотрудничество, она решила, что такой великолепный случай упускать нельзя. Отнять свои духи у братьев Вертаймер? Одно из постановлений оккупантов гласило, что на фирмы, чьи управляющие вынуждены были покинуть страну, назначалось новое руководство. Габриэль решила, что здесь-то и был ее шанс. Попытать счастья, хотя бы и совершив подлый поступок. Теперь пришел ее черед, и она покажет клану Вертаймеров, которые ее эксплуатировали и обирали, где раки зимуют. Она была арийкой, она, а не они. Она находилась во Франции, они – в Соединенных Штатах. Эмигранты… Евреи. В общем, в глазах оккупационных властей существовала только она.
Она мечтала навязать им управляющего по своему выбору. Против представителей еврейской фирмы выступала женщина, готовая на все и заручившаяся поддержкой немцев. В той Франции казалось невозможным, чтобы она проиграла. Смешно сказать, но именно это и произошло. В лагере ее противников были тонкие игроки. Шанель полагала, что она одна может рассчитывать на определенную поддержку. Какая наивность! Разве она не знала, что в Париже есть французы, готовые выступить посредниками, чтобы сохранить собственность евреев, и что есть, как и повсюду, немцы, готовые продаться? В тогдашней смутной обстановке достаточно было действовать быстро и не ошибаться.
Прежде всего нужен был ариец.
Надо было найти такого, кому можно было бы продать фирму почти за гроши. Его нашли в лице промышленника, занимавшегося строительством самолетов: Амьо.
Затем потребовался немец.
Он должен был засвидетельствовать законность предыдущей операции. Подложный перевод фирмы на другое имя, документы, помеченные более ранним числом, – всю эту махинацию надо было сделать правдоподобной и безупречной. Немец? Вопрос упирался только в деньги. Немца тоже нашли… Заплатив, правда, дорого. Таким образом, фирма «Духи Шанель» смогла доказать, что она уже не принадлежала братьям Вертаймер. Что тут скажешь. Дело было сделано.
Но это было еще не все. Предстояло провести в правление представителя нового владельца, человека, способного дать отпор возможному кандидату Габриэль.
Его, по некоей утонченной жестокости, нашли в кругу, который Габриэль знала прекрасно. Она проиграла своим постоянным противникам, и вдобавок ко всему под ироническим взором человека, призванного изобличить ее, светского человека, принадлежащего к тому миру, о котором она никогда не могла вспоминать без горечи. Он был из муленской «банды». Она столкнулась со свидетелем своего прошлого: председатель, которого ей навязали, был братом «обожаемого» Адриенны. Что можно было ответить? Она проиграла. Но это ни в коей мере не означало, что она отступилась.
Тем не менее, приехав после войны во Францию – отметим этот факт, чтобы больше к нему не возвращаться, – и вернув себе контроль над своим имуществом, Пьер Вертаймер решил, что великодушие – единственно возможный для него реванш. Но не будем делать из него святого. Где в делах кончается великодушие, где начинается цинизм? Пьер Вертаймер мог бы обвинить, обличить Шанель, преимущество было бы на его стороне. Но он от этого воздержался. При живой Габриэль чем была бы фирма «Шанель» без нее? Если бы Габриэль была замарана и опозорена, чем стала бы фирма «Шанель» с ней? Он, несомненно, рассуждал подобным образом.
Как бы там ни было, связи между ними завязались вновь, и война вспыхнула с новой силой. Но лучше, в тысячу раз лучше, чем ничего. Ибо для людей их сорта военные действия, противоречивые заявления, законники, занятые бесконечными нападками на противника, придавали жизни смысл. Это была роскошь, которую они себе позволяли.
Они устраивали друг другу гадости. Ловушки, засады, хитрости, всевозможные махинации – список велик. Новые духи, тайком пущенные Шанель в продажу и тут же, по его распоряжению, изъятые с рынка… Образцы, секретно ввезенные в Соединенные Штаты, и наложение на них ареста на таможне по приказу Вертаймера… Ее угроза выпустить улучшенный вариант «Шанель № 5», чтобы дискредитировать прежнюю марку, успех которой принес ему состояние… Подобный макиавеллизм, пускавшийся в ход с обеих сторон, изумлял самих сражающихся. Больше всех был удивлен Вертаймер. После стольких лет увидеть Габриэль, эту тигрицу, своего заклятого врага, по-прежнему во всеоружии… Только она осмеливалась бросить ему вызов. Такое упорство стоило того, чтобы он нанял лучших адвокатов.
В том, что привязывало господина Вертаймера к Габриэль, помимо соблазна наживы, было и восхищение, в котором он не признавался.
И сожаление: о том, что между ними не было никаких отношений, только противоположность интересов. Никогда речь не заходила ни о чем другом. А он так бы хотел добиться того, что она ему не давала: поддержки, одобрения… Какие бы успехи он ни одерживал, никогда ни слова с ее стороны. Даже в тот день, когда лошадь из конюшни Вертаймеров выиграла дерби в Эпсоме. Слово, одно только слово сделало бы его таким счастливым! Если признаться, он любил ее. То есть почти… Ибо никому, кроме Габриэль, не удавалось так оживить в его памяти воспоминания о прошлом. Никому. Дело в том, что Пьер Вертаймер был из породы таких содержателей, каких больше не существовало. Отсюда очарование, которым Габриэль обладала в его глазах. Мог ли он относиться к ней иначе, чем как к незаконной?
Наконец наступил день, когда, добившись некоторых гарантий, Габриэль приняла предложение о перемирии. Это было в 1947 году. В рядах ее противников попытались еще похитрить. Но просто так… По привычке… В конце концов Пьер Вертаймер капитулировал. Он согласился, помимо всего остального, выплачивать Габриэль два процента с продаж ее духов во всем мире, то есть около миллиона долларов в год. Тогда она уступила.
Ей исполнилось шестьдесят пять лет.
Пришло время сложить оружие.
Но поскольку ее старый враг был на несколько лет моложе – что она считала недопустимым, – в тот момент, когда составлялись контракты, Габриэль сумела фальсифицировать потребованное у нее свидетельство о рождении.
Она стала женщиной с колоссальными доходами. И к тому же «помолодела» на десять лет.
* * *
Но вернемся во времена оккупации и к делу с духами, когда противникам Габриэль удалось расширить круг союзников и заполучить в свои ряды одного из красавцев муленской «банды», которых она хотела бы никогда больше не видеть.
Поражение ожесточило ее. Это был непереносимый груз. Можно ли представить, чтобы Габриэль смирилась с неудачей? Как только оказалось невозможным забрать в свои руки духи, ею овладело другое неистовое желание. Чем оно диктовалось? Амбициями? Самомнением? Может, ее действиям больше подходит другое объяснение: жажда завоеваний, желание заставить признать себя, стремление поразить… Ее друзья-немцы усматривали в ее поведении полное бескорыстие и самопожертвование. Были даже те, кто заявлял, что в «ее венах есть капля крови Жанны д’Арк!» (письмо Теодора Момма автору). Жанна или нет… Во всяком случае, безумный проект привел Габриэль в круги куда более компрометирующие, чем ее предыдущая авантюра, и куда более опасные: в официальный или полуофициальный мир разведки и войны.
После Конференции в Касабланке в январе 1943 года сомнений больше не оставалось. Рузвельт и Черчилль огласили свое решение. От Германии будут требовать безоговорочной капитуляции, и мир может быть достигнут только на этих условиях. Сколько волнений вызвало это заявление… Удовлетворение тех, кто на оккупированных территориях, в подполье, продолжал борьбу и не мыслил себе устройства будущего и достойного завершения войны в каких-либо иных формах. Жестокое разочарование других. Ибо раздались и иные голоса, к чему отрицать? Раздались голоса, отвергавшие такой исход, твердившие, что и так уже пролилось достаточно крови. Были такие люди во Франции, были они и в Англии, правда, там они не пользовались влиянием… Политики из окружения лорда Рансимана, но от них нельзя было ждать другого. Были аристократы, хотевшие переговоров, чтобы положить конец бомбардировкам, и среди них герцог Вестминстерский, чьи аргументы злили его старого друга Черчилля, были те, кто хотел уберечь Германию, – несомненно, именно так и думал на далеких островах, в своего рода ссылке, герцог Виндзорский, хотя, когда его спрашивали об этом после войны, он все отрицал.
И так, многие английские друзья Габриэль, многие поклонники красавицы Веры, посетители, которым Жозеф когда-то широко открывал двери Предместья, примкнули теперь к тем, кто мечтал о мире и кого заявление Черчилля внезапно вернуло с небес на землю.
Что сказать о Германии?
Там существовали пацифисты совсем другого рода, устраивавшие заговоры против режима, отличавшиеся отвагой и героической самоотверженностью. Известно, что с ними стало… Требования Черчилля не облегчали им задачу, но, не охлаждая их пыл, скорее, подбадривали. Не отступать, свергнуть режим; переговоры потом и, возможно, в лучших условиях – это была их единственная цель.
Были и люди расчетливые.
Их было множество, тех, чьи надежды разбил британский премьер-министр. Эти стремились только к одному: разбить Красную Армию, – заключение же сепаратного мира, которого они добивались, дало бы им возможность, с Англией или без нее, продолжать войну против Советского Союза. Но хотя сторонники компромиссного мира имели различные, а порой коренным образом противоположные цели, их объединяло одно: постоянное стремление войти в контакт с английским руководством и намерение не упустить ради этого ни малейшего шанса.
Если судить вне этого контекста о предприятии, затеянном Габриэль, оно может показаться жестом мифоманки или женщины, страдающей манией величия. Напротив, вписанный в атмосферу неуверенности, характерной для тех лет, этот эпизод воспринимается как почти неизбежный результат такой судьбы, как ее. Судьбы женщины без положения, неустроенной, озлобленной, вырвавшейся из своей среды только ценою рискованных поступков. В сущности, то, что она решила сделать, было еще одной попыткой испытать судьбу. И предпринимая эту безумную инициативу, чего она искала, как не возможности утвердиться, «выиграв»? Разве можно остановить игрока…
* * *
Странно сложилась ее судьба! Очутиться в побежденной стране, общаться с победителями, близко зная того, от кого в большой мере будет зависеть исход войны. Какую же шутку сыграла с ней жизнь! Черчилль… Возможно, достаточно одной короткой встречи, чтобы дать почувствовать этому безжалостному старику, что, продолжая свою смертельную игру, он готовит смерть Европы, его Европы, доброй старой Европы привилегий и традиций. Надо остановить эту войну, говорила себе Габриэль. Остановить любой ценой.
Добьется ли она успеха там, где потерпели поражение другие?
Убедить Черчилля? Захочет ли он ее выслушать? Она решила попытаться во что бы то ни стало… Разве Черчиллю не покажется естественным, если она навестит его, как во времена отдыха в «Ла Пауза», когда герцог Вестминстерский являлся к нему без предупреждения, а она сопровождала Вендора?
Конечно, она мечтала, и это неудивительно. Жить в воображении, ничем другим она и не занималась. Ее жизнь была длинной вереницей мечтаний, внезапно приводивших к действию. Очевидно и то, что к этой мечте примешалась безуминка. Можно ли отрицать, что подобный проект казался неосуществимым? Но и опять-таки, как этому удивляться? Все ею предпринимавшееся поначалу было отмечено печатью категорически невозможного. Добиться успеха вопреки? Габриэль к этому привыкла. Поэтому она не отступала.
Удивительным было не то, что она поверила в эту мечту, а то, что она сумела заставить своих собеседников разделить ее вместе с нею. Правда, это были немцы.
Примерно полгода спустя после того, как немцы вошли в Париж, фон Д. представил Габриэль друга юности. Как и следовало ожидать, демарши, предпринятые, чтобы репатриировать сына Жюлии, пока ни к чему не привели. Он был так легкомыслен, этот Шпатц… Но ему пришла счастливая мысль поручить дело человеку влиятельному. Друг юности занимал высокий, ответственный пост, был офицером – тогда как Шпатц все время ходил в штатском, – наконец, человеком трудолюбивым, опытным. В самом деле, зная его, можно представить, что он внушил доверие Габриэль. Ротмистр Момм был из тех немцев, в существовании которых тогдашние события заставляли усомниться.
А когда, впервые попав к Габриэль, он сказал, что его семья – «текстильцы» на протяжении пяти поколений, – какое отличное вступление! И как мило он употреблял это изобретенное им словечко «текстильцы», произнося его со свойственным немцам гортанным выговором. Габриэль повторяла: «Текстильцы! Ах, в самом деле…» После чего он сообщил ей, что родился и вырос в Бельгии, где отец руководил красильной фабрикой. Его поставщиками были промышленники из Манчестера. В 1914 году его семья вернулась в Германию, а как же иначе? Конечно, конечно, все из-за войны. С фон Д. он познакомился в 1915 году. Где же? В 13-м, ну да, в 13-м уланском. Как тесен мир! Кроме того, он заявил, что самый грозный из участников конных состязаний, знаменитый Момм, который в 1936–1938 годах выиграл невесть сколько кубков мира, что этот чемпион из чемпионов – его близкий родственник. Кузен!
Кто бы мог подумать! Когда-то Габриэль им восторгалась, рукоплескала ему… Новость произвела самый выгодный эффект. Верховая езда – в этой теме ей не было равных, и потом, наездники всегда договорятся между собой. Наконец, самое главное, в немецкой администрации в Париже Момм отвечал за французскую текстильную промышленность. Было ясно, что это значило.
Он занялся судьбой сына Жюлии, решив, что надо срочно возобновить деятельность маленькой текстильной фабрики рядом с Сен-Кантеном, и засвидетельствовал, что Габриэль была ее владелицей. В этих условиях немецкие власти должны были вернуть свободу пленнику, который, учитывая все обстоятельства, как нельзя лучше подходил для руководства предприятием. Ребенок, за воспитанием которого следил Бой Кейпел, племянник Габриэль наконец-то вернулся на родину. Майор сотворил чудо, и она продолжала питать к нему дружеские чувства. Любой на ее месте поступил бы так же. Особенно в ее положении…
Когда навязчивая идея встретиться с Черчиллем окончательно лишила ее покоя, она открылась именно Момму[132]132
После войны Теодор Момм вернулся к своим прежним занятиям. Он много путешествовал и, несмотря на преклонный возраст, занимал посты в текстильной компании в Чаде, а также в хлопчатобумажной промышленности в Камеруне.
[Закрыть]. Тот факт, что ее выбор пал на него, а не на фон Д., указывает, что любовник уже не обладал всеми нужными качествами. Майора ее признание несколько удивило. Странная женщина, не скрывавшая, что сердце ее отдано одному, а доверие – другому. Что же произошло между ней и Шпатцем? Оправившись от удивления и все взвесив, Момм решил, что сумеет сохранить в тайне сделанное ему важное признание лучше, чем кто-либо другой.
Убедить Черчилля согласиться на англо-немецкие переговоры, которые были бы строжайшим образом засекречены, – в этом состоял ее план. Она начала с того, что как следует отчитала своего собеседника, заявив ему, что немцы вообще «не умеют обращаться с англичанами», что они допускают оплошность за оплошностью, ибо, чтобы добиться успеха, надо прежде всего знать британцев, знать их как следует, чем, к счастью, она может похвалиться. Она изложила майору аргументы, с помощью которых надеялась преодолеть колебания премьер-министра, и, перейдя к существу дела, изобразила в лицах их предстоящий разговор. Шагая взад и вперед по узкой гостиной на улице Камбон, увлекшись, она обращалась к немецкому офицеру, словно он был Черчилль собственной персоной. Она упрекала его: «Ты предрек кровь и слезы, и твое предсказание уже сбылось. Но этим ты не войдешь в историю, Уинстон». И голосом, не терпящим никаких возражений, она добавляла: «Теперь ты должен сберечь человеческие жизни и закончить войну. Протянув руку миру, ты покажешь свою силу. В этом твоя миссия». И немец, которого эта сцена погрузила в состояние полуоцепенения, вдруг услышал ответ Черчилля. Следовало спросить себя, не бредил ли он? Как устоять перед этой женщиной… Он увидел, как премьер-министр Соединенного Королевства серьезно пожевал сигару и покачал головой. Он услышал, как тот соглашается в таких странных выражениях:
– Ты права, Коко, – повторял он, – ты права.
«Влияние уникальной личности», – признавал Теодор Момм, когда тридцать лет спустя слегка запинающимся голосом пытался восстановить памятный разговор. «То, что началось тогда в обстановке секретности, могло бы стать предметом увлекательнейшего рассказа», – уточнял он. Но он признавался, что колебался. «О да! Чертовски колебался».
Стать посредником Габриэль? Дело было рискованное. Какие гарантии она предлагала? Никаких. Совсем никаких. И что подумают в Берлине? Разрешат ли ей покинуть Францию? Разрешение на въезд-выезд, выдаваемое МБФ (Военное командование во Франции), – вот что она просила. Ибо ей придется поехать в Испанию. Она лично знала сэра Сэмюела Хоуара. Именно там, в Мадриде, во время встречи с послом Великобритании решится успех или провал ее миссии. А… А если она не вернется?
Майор Момм отправился в Берлин, не слишком хорошо представляя, в какую дверь постучаться. Вначале он обратился в министерство иностранных дел. Этот выбор объяснялся осторожностью. Предупредить дипломатические службы значило столкнуться с наименьшим риском. Барон Штеенграхт фон Мойланд, госсекретарь, согласился принять его. Чиновник, отличавшийся большой изысканностью, но малым опытом. Он только что занял свою должность. Тревожные новости доставляли ему немало забот. К тому же тогдашнее министерство иностранных дел не отличалось особым блеском. Здесь, как и повсюду, господство нацистов произвело опустошение, и чиновники были всего лишь пассивными исполнителями. Что вполне устраивало их министра. Весьма посредственный Иоахим фон Риббентроп не хотел мыслящих офицеров в своем окружении, и собеседник майора не составлял исключения.
Руководящие сферы Берлина переживали времена террора. И «салонные посетители» внушали самое сильное подозрение. Гестапо подстраивало ловушки. «Чайному делу госпожи Сольф»[133]133
Салон госпожи Сольф, вдовы одного из немецких послов, был местом, где говорили свободно. 10 сентября 1943 года к ней проник агент гестапо. 12 февраля 1944 года все присутствовавшие «на чае у фрау Сольф» были арестованы, преданы суду и казнены, за исключением госпожи Сольф и ее дочери, которые были депортированы в Равенсбрюк, где и дождались 1945 года.
[Закрыть] было всего два месяца, и видным дипломатам угрожала смертная казнь. Поэтому можно без труда понять, чем объяснялась крайняя осмотрительность барона Штеенграхта. Зачем эта парижская модельерша собиралась в Испанию? Кажется, чтобы добиться успеха, она рассчитывала только на свои связи… Трудно себе представить, куда это все может завести. Доверять никому нельзя… Он любезно выпроводил своего посетителя, уведомив его, что не даст хода подобному проекту.
Демарш такого свойства, добавил он, не может быть принят во внимание.
* * *
Скверное начало. У человека, избравшего своей миссией защиту планов Габриэль, не было больше выбора. Разведывательные службы армии? Они были вне игры. Только люди наивные или безрассудные могли не знать, что Гитлер считал абвер виновным во всех заговорах. Дни адмирала Канариса были сочтены, его организация находилась под угрозой, ему оставалось жить полгода до того момента, когда Шелленберг лично явится его арестовывать, и уж туда, конечно, обращаться не стоило.
Оставались службы Гиммлера, одни только пользовавшиеся доверием фюрера. Рейхсфюрер СС царил над миром непонятным, полным тайн. Никто особенно не горел желанием соваться в этот лабиринт… Тем не менее именно в Главное имперское управление безопасности обратился скрепя сердце майор Момм. «Мир, где были возможны вещи самые невероятные, где поведение без задних мыслей, откровенность воспринимались как странности, где всех судили не по внешности, а по тому, что эта внешность могла скрывать»[134]134
Предисловие Аллана Баллока к мемуарам Вальтера Шелленберга.
[Закрыть].
Участь того, кто проникал в лабиринт, зависела от всевозможных трудноучитываемых факторов. К кому и куда направят его? Первый контакт был определяющим, ибо посетитель, если информация, которой он располагал, представляла некоторый интерес, не имел права сменить собеседника: ему приходилось иметь дело с тем, кто выслушал его первым. Надо заметить, что лучше было вызвать интерес АМТ VI, который контролировал разведслужбы за границей, чем АМТ IV, отвечавшего за контрразведку в Германии и в оккупированных странах и являвшегося не чем иным, как гестапо. К тому же различные сектора службы были строго изолированы друг от друга. Они были в полном неведении о деятельности ближайших соседей.
Когда Теодор Момм понял, с кем имеет дело, ему оставалось только поздравить себя. Ответственный работник АМТ VI согласился выслушать его. Майору пришлось изложить цель своего визита самому молодому из шефов СС и, мы бы добавили, штатному соблазнителю немецкой разведки.
Несмотря на молодость, внешность киногероя и благовоспитанную манеру выражаться, Вальтер Шелленберг не был ни новичком, ни любителем. Он отчасти случайно попал в СС, что правда, то правда… Он этого не отрицал. Парнишка, выросший в оккупированном Сааре и видевший нищету. Семь старших братьев и сестер. Возвращение в Германию, где экономический кризис разорил отца. Занятия в Боннском университете, где студент проявил себя исключительно одаренным, – это было весной 1933 года. Ему было двадцать три года, и денег у него было очень мало. Потом вдруг судья, у которого он проходил стажировку, уверил Шелленберга, что у него будет больше возможностей преуспеть, если он вступит в нацистскую партию. Что было делать? Его это не очень-то привлекало. Он не представлял себя в коричневой рубашке, среди крикунов в пивных. Форма СС все-таки выглядела лучше… Костюм и определил его выбор.








