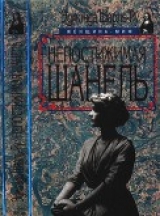
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
VII
Воскресенья в Руайо
В чувстве Артура Кейпела к Габриэль не было никакой снисходительности. Он полностью отдавался тому, что испытывал, бывал с нею в свете и представлял ее своим друзьям, будучи вхож повсюду. Естественность Габриэль и ее язвительная колкость были теми качествами, которыми он восхищался особенно, поэтому Бой настаивал, чтобы она принимала участие в разговорах. В начале связи для нее это было пыткой. «Что ты думаешь по этому поводу?» – спрашивал он. Ничего толкового… Неразвитость Габриэль была ужасной. Если беседа не касалась модных куртизанок, рекордов некоторых жокеев и чистокровных жеребцов, что она могла сказать? Что боа огненного цвета Лианы де Ланей было самым длинным, что в корсете красавицы Отеро было больше всего пластинок, что у Луизы Балти был самый острый язычок и что Клео де Мерод была красавицей из красавиц… Вновь и всегда рекорды. Вечная болтовня кокоток.
Именно Артуру Кейпелу Габриэль обязана тем, что вырвалась из узкого мирка галантных развлечений. Если ничто не смогло изгладить ущерба, нанесенного ей прошлым, – и в течение жизни она неоднократно от этого страдала – по крайней мере ее подругами перестали быть одни только дамы полусвета.
1911 год стал поворотным. Счастливый год, каких Габриэль знала не много.
Бой познакомил ее со своей любимой сестрой, Бертой. Это была совсем молоденькая девушка, которую восхищал пример брата. Берта мечтала бежать из Англии и жить свободно, не таясь, отдаваясь страстям. Она хорошо приняла Габриэль, и та стала искать ее общества. Иностранка… Это был новый объект для наблюдений. Жалеть Габриэль не пришлось. Берта приберегла для нее не один сюрприз.
Именно Артур Кейпел ввел Габриэль в мир театра. Это была среда очень свободная, где добродетель не значилась среди основных достоинств, но она была все же куда привлекательнее, чем обычное окружение Габриэль. И потом, здесь не считали, что единственное оружие женщины – дар обольщения. Артистки говорили даже, что главное – талант.
В глазах артистов, которые в большинстве случаев начинали так же трудно, как она, неопределенное положение Габриэль проходило незамеченным. Ее не спрашивали ни кто она, ни откуда. Перестав стесняться, она наконец смогла стать самой собой.
Воскресенья в Руайо были теперь другими. Не то чтобы там меньше веселились – проказничали по-прежнему, – но Кейпел и Бальсан объединили своих друзей. Приятели Бальсана имели отношение к лошадям, приятели Кейпела были артистами. Компания от этого только выиграла.
Появилась вторая Габриэль, молодая актриса редкой индивидуальности – Габриэль Дорзиа[23]23
Родилась в 1880 году, на парижской сцене с 1908 года. Появившись в театре Сары Бернар еще при жизни последней, она играла Поля Бурже с Люсьеном Гитри, Мольера и Жироду – с Жуве, в пьесах Кокто – под руководством автора. Между 1922 и 1962 годами Дорзиа снялась в шестидесяти фильмах.
[Закрыть]. В лице певицы Марты Давелли, только что с блеском дебютировавшей в Комической опере, компания нашла свою заводилу, а Габриэль Шанель – двойника. Женщины специально подчеркивали свое сходство, причесываясь и одеваясь одинаково. Между ними родилась дружба, глубинная причина которой состояла в том, что ни одна из них не могла смириться со своей участью и хотела быть на месте подруги. Габриэль отдала бы все на свете, чтобы петь, как Давелли, а та, подчиненная жесткой дисциплине своей профессии, ничему не завидовала так, как свободе и любовным успехам Габриэль. Среди новобранцев Руайо фигурировало также молодое животное женского пола, в меру романтичное, которое замечательно могло бы вдохновлять писателей или художников в XIX веке. В прошлом она была актрисой, без особого таланта исполнявшей в театре «Жимназ» маленькие роли элегантных дам. Она называла себя Жанной Лери.
Все вместе эти молодые женщины старались развлечь Этьенна Бальсана.
Однажды вечером метрдотель нанял служанку, и Жанна Лери, неузнаваемая, в накрахмаленных манжетах и плоеном чепчике, подавала блюда, путаясь ногами в фартуке. На следующей неделе некий прелат спросил, может ли епископ остановиться в Руайо по дороге в Бове. Этьенну польстила подобная просьба: Бальсану было приятно, когда к нему относились как к помещику. Он поспешил согласиться и прочел приятелям наставления, чтобы они продемонстрировали хорошие манеры.
Молодые женщины надели самые целомудренные туалеты, а Габриэль поспешно прибавила вставку к своему вечернему платью, которое прозвали затем «епископским».
С наступлением вечера прибыл епископ в сопровождении целой свиты. Габриэль держалась безупречно. Она проводила гостя в его апартаменты. Артур Кейпел, будучи католиком, похвалил ее за то, как умело она обращалась с духовными особами, чего никто не мог ожидать. Но ведь никто и не знал о Мулене, Обазине и долгих годах, проведенных в монастыре.
Но через несколько мгновений, пока епископ совершал свой туалет, в гостиную ворвалась горничная и пожаловалась, что монсеньор пытался с ней заигрывать.
«Банда» грохнула от хохота.
Этьенн заявил, что это «случайность», и потребовал от друзей, чтобы они вели себя как ни в чем не бывало.
Все стали ждать появления епископа. Наконец он спустился.
Обед прошел самым отвратительным образом. Сразу после супа монсеньор принялся пить, не зная меры, затем стал оказывать знаки внимания метрдотелю, обращаясь к нему со словами, не оставлявшими ни малейшего сомнения по поводу его намерений. Он называл его: «Мой шалунишка…»
Только после окончания обеда Этьенн, чьи провинциальность и наивность были, быть может, самыми трогательными его чертами, открыл наконец истину. Фарс был подстроен Давелли. Епископ был статистом из Оперы.
Так проходили воскресенья в Руайо в 1912 году.
Но самой памятной была майская ночь, когда Кейпел и его друзья решили устроить у Этьенна костюмированный праздник, сюрприз которого тщательно скрывался.
Заботу об организации праздника поручили Габриэль, положившись на ее воображение. Она решила сымпровизировать «сельскую свадьбу». Можно угадать, какая реальность скрывалась за выбранной Габриэль темой, заключавшей в себе и то, кем она когда-то была, и то, кем хотела стать. В «свадьбе» костюмы прошлого, одежда принарядившихся крестьян, соединялись с подвенечным платьем, символом ее потаенного желания.
Одежда невесты, жениха и их окружения была куплена в одном из универмагов. Этьенн, более удивленный и растроганный, чем, возможно, он хотел показать, встречал девственницу-новобрачную, одетую в белое линоновое платье, корсаж которого был украшен мандариновой веткой, – это была Жанна Лери; старая дама в сером тиковом платье оказалась Артуром Кейпелом, ребенок в прелестном чепчике – Леоном де Лабордом, а обе Габриэль держались за руки.
На Габриэль Дорзиа, изображавшей слегка придурковатую пейзанку, были слишком короткие носки и чересчур длинная юбка. Другая, Габриэль Шанель, была ее кавалером – робким подростком, деревенским Фортунио, чья курточка из двухцветной ткани, надетая на белый жилет, свеженакрахмаленная рубашка с отложным воротником, неловко завязанный бантом галстук, белая шляпа с приподнятыми полями и высокие ботинки были куплены в отделе одежды для мальчиков в магазине «Самаритен».
Трудно было представить себе картину более соблазнительную, чем эта девушка-паж, поэтому уместно задать себе вопрос, в чем состояла природа ее магнетизма. Она заключалась в умении, с которым Габриэль облачилась в мужской костюм, при этом всячески подчеркнув свою женственность. Она не производила впечатления ряженой, казалось, она просто приготовилась позировать художнику. Здесь перед нами уже наметки, поиски того подхода к созданию одежды, в котором позднее ей не будет равных, – заимствование элементов мужской одежды и их использование в женской моде. Помимо всего прочего, костюм навевал еще и определенные ассоциации: он напоминал о двусмысленности и дендизме, характерных для мира Мариво и Мюссе, а мечтательная грусть модели была схожа с полотнами Ватто. Связь эта так очевидна, что мы вновь вынуждены объяснить наследственностью эту типично французскую грациозность.
В чем же состояла современность костюма Габриэль? Вынутая из альбома пожелтевшая фотография, хотя и относится к эпохе расцвета стиля «метро», уже широко распахивает двери навстречу нашему времени.
Успехи, забавы, победы, ощущение, что жизнь наконец начинается, что с нее спали некоторые оковы… Но Габриэль не могла бы сказать, чтó делало ее свободной.
Она долго оставалась маленькой лореткой из муленского кафешантана, доверявшей только женщинам одного с ней положения. Любопытно, что она выбрала кокотку посредницей в знакомстве с Кариатис, беспутство которой было общеизвестно. Так и в Руайо она сблизилась с Жанной Лери, а не с Габриэль Дорзиа.
Дочка бывшей светской дамы, вынужденной зарабатывать на жизнь любовью, Жанна Лери была жертвой страсти. Она бежала из Парижа, чтобы скрыть свою связь с одним из любовников матери, великим князем Борисом[24]24
Великий князь Борис, родившийся 2 мая 1879 года, был сыном великого князя Владимира, первого мецената Сергея Дягилева. Его мать, Мария Павловна, урожденная герцогиня Мекленбургская, овдовев в 1909 году, оставалась приятельницей Дягилева и продолжала видеться с ним в изгнании. Став после смерти мужа президентом Академии изящных искусств, беспощадно критикуя ослепление императрицы и проволочки Николая II, требуя даже его отречения, Мария Павловна была одной из немногих сильных личностей последних лет царизма. Великий князь Борис заключил в Генуе морганатический брак. Умер в Париже.
[Закрыть]. Он запретил ей оставаться в Париже, и Жанна отказалась от театральной карьеры. Затем она родила мальчика. После чего любовник бросил ее. Жанна Лери тут же вернулась в Париж к подругам из театрального мира. Невозможно было в чем-либо отказать отважной женщине, которая все разом поставила на карту.
Именно ей поручила Шанель упросить Габриэль Дорзиа сделать заказ на шляпы для пьесы, которую она репетировала в «Водевиле». Надо было попытать счастья. У Габриэль Дорзиа была главная роль в инсценировке «Милого друга» Мопассана. Ее должен был одевать самый знаменитый портной с улицы Мира – Дусе, Но кому она закажет шляпы? Дорзиа позволила убедить себя. Головные уборы были поручены Шанель. Созданные ею две соломенные шляпы, без украшений и перьев, замечательно дополнили туалеты знаменитой актрисы.
Это был дебют Габриэль Шанель на сцене. Дебют, сразу же замеченный. Для моды открывалась новая эра, в ее простоте угадывался конец былой роскоши «бель-эпок».
VIII
Довиль, или Несостоявшийся праздник
Весна 1913 года была суматошной.
В мае все были потрясены «Весной священной»[25]25
«Весна священная» представлена публике «Русскими балетами» Дягилева 29 мая 1913 года. Музыка и либретто Игоря Стравинского, хореография Нижинского.
[Закрыть] и с трудом оправлялись от шока. Многие решил, что реплика Флорана Шмитта[26]26
Флоран Шмитт – французский композитор. В его шедевре, балете «Трагедия Саломеи», в 1907 году танцевала Лой Фуллер, затем в 1913 году спектакль был поставлен Дягилевым для Иды Рубинштейн.
[Закрыть]: «Молчать, шлюхи шестнадцатого!» – относится непосредственно к ним.
Все восхищались тем, как нечувствительная к оскорблениям, влиятельная госпожа Мульфельд, салон которой притягивал все стоящее с точки зрения критики, высмеивала балет.
Однако пойти на «Весну» все очень стремились. Это объяснялось и прелестью нового зала театра на Елисейских полях, и тем, что хореографом был сам Нижинский, и, наконец, главная привлекательность состояла в том, что он прибег к сотрудничеству с одной из учениц Жака Далькроза – Мари Рамбер.
В тот вечер весь цвет парижского общества отправился на спектакль в надежде увидеть, как русские вместо балета покажут своего рода светскую гимнастику, состоящую по большей части из грациозных поз и робких импровизаций. Ожидания партера не оправдались. Разразился скандал.
Изумленная провинциалка оказалась в самом центре событий. Привилегией присутствовать на спектакле Габриэль Шанель была обязана Кариатис, которая сама была приглашена фон Реклингхаузеном, своим богатым немецким любовником. Кариатис постаралась, чтобы нежданным случаем попользовался и ее французский любовник, но бедняк – Шарль Дюллен. Отсюда возникла необходимость пригласить Габриэль, дабы пощадить чувствительность Дюллена: любовный треугольник был для него неприемлем.
Случайная встреча Дюллена и Шанель будет иметь плодотворные последствия.
Кариатис увидела в «Весне» все, что было ей близко в искусстве, и хлопала изо всех сил. Рев, свист, скандал? Этого было недостаточно, чтобы испугать ее. Члены «банды Кариа» были в числе сумасшедших, в числе восторженных поклонников, аплодировавших на галерке. Правда, им не удалось повлиять на ход событий. Ярость партера была такова, что Стравинскому пришлось спасаться бегством.
Можно представить, каково было изумление Габриэль, столкнувшейся с таким неистовством страстей. Что такое обшикивания в провинциальном кабаре по сравнению с пароксизмами, сотрясавшими столицу? Никогда она не могла себе представить, чтобы богатые клиентки господ Дусе и Пуаре, упакованные в шелка, в тюрбанах и эгретках, поднимали такой гвалт.
Мода находилась на распутье.
Несколько красавиц отказались от стиля «Шехерезада», что знаменовало упадок тюрбанов и господина Пуаре. Если верить «Комедиа», гребень («добавление к мягкой завивке») производил фурор: «На роскошных гала-представлениях „Русских балетов“ мадемуазель Габриэль Дорзиа, являющаяся в некотором роде арбитром современной женской элегантности, одна из первых продемонстрировала эту новинку. Теперь повсюду мы видим затылки, прелестно украшенные светлыми или крапчатыми черепаховыми гребнями». Вся в белом, в огромном страусовом боа, спадавшем с плеч, с водопадом волос, словно пена застывших на затылке, Дорзиа, участница верховых прогулок в Руайо, царила в партере. Она была признана «звездой».
Стоит сказать несколько слов о прическе Кариатис. Некоторое время назад, под настроение, она отрезала свои пышные волосы, обвязала их шелковой ленточкой и повесила на гвоздик в доме мужчины, чью страсть ей не удалось разбудить. Она стала Жанной д’Арк, с пересекавшей лоб челкой. Внешность ее оскорбляла взор почти так же, как вывернутые ноги, грубость поз и коллективный транс русских Дягилева, подчиненных варварским диссонансам партитуры Стравинского.
Нет сомнений, что этот вечер подал Габриэль мысль обрезать волосы, что она и сделала три года спустя, все хорошенько обдумав. В середине двадцатых годов совершенно справедливо считалось, что именно Шанель заставила женщин пережить эту революцию. Тогда-то она и выдумала небольшое происшествие, о котором впоследствии часто рассказывала и которое было честно отображено бесчисленными журналистами: вышедшая из строя газовая плитка сожгла ей волосы в тот самый момент, когда она собиралась отправиться на праздничный спектакль. Шанель взяла в руки ножницы и исправила положение, пожертвовав своей шевелюрой. Так родилась прическа, которую стали носить все ее современницы. Затем следовал рассказ о прибытии в Оперу, где она произвела сенсацию и имела бешеный успех у собравшейся избранной публики. Поверим только в успех. Что до остального, то это сплошь выдумки. Короткая стрижка была вовсе не случайностью, а заранее обдуманным и спланированным актом, вполне в духе женщины, которой она к тому времени стала.
Вечер с Кариатис оказался для Габриэль началом хоть какого-то знакомства с Парижем. Продолжится ли оно? Увы, лето начиналось неважно. В прессе все чаще писали о неизбежности «конфликта».
Вопреки всякой логике высшее парижское общество, которое проект закона о подоходном налоге беспокоил несравненно больше, нежели угроза войны, повело себя тем летом подобно страусу в пустыне. Оно отправилось в Довиль, дабы забыться на песчаных пляжах. А вместе с ним – и Габриэль. В этом не было ничего нового, ибо в стране уже сложилась определенная привычка: второй раз менее чем за сорок лет от опасности бежали в Довиль.
Так, уже в 1870 году, 15 июля, герцог де Грамон, тогдашний министр иностранных дел, в чью обязанность входило зачитать с трибуны парламента объявление Францией войны Германии, вынужден был «остаться в Париже». Если верить воспоминаниям его внучки, «все шикарное общество было в Довиле». Можно понять, как удручен был этим обстоятельством ее великолепный предок. Шла война. Но столь же печальным событием было то, что герцог де Грамон лишился привычного отдыха в Довиле в августе.
В 1913 году большой имперский орел улетел, но ничто не изменилось ни на нормандском курорте, ни в умах. Просторные гостиницы, к грубым нормандским фасадам которых лепились всевозможные пристройки в стиле тогдашней эпохи, богатые виллы, претендовавшие на то, чтобы быть одновременно коттеджем, небольшим замком и швейцарским шале, продолжали привлекать суетное парижское общество.
Каникулярное настроение допускало некоторые вольности. Однако свободой надо было пользоваться обдуманно и показываться только в те часы и в тех местах, где можно было встретить людей своего круга. Ибо в присутствии модной публики фыркали в нетерпении, словно молодые кобылицы, более свободные, а значит, более опасные, чем в Париже, незаконные и актрисочки, то есть те женщины, которых следовало избегать.
Во время утреннего моциона допускались только прогулки вдоль моря. Купание было модой, прививавшейся плохо. Несколько отчаянных – и среди них Шанель – рисковали. За их маневрами неодобрительно следили в лорнет. Море существовало, чтобы на него смотреть, а не для того, чтобы в нем купаться. Пляж оставляли боннам, няням и детям, которым разрешали делать песочные куличи.
В туалетах наблюдалась некоторая эволюция. Но довольно робкая. «В Предместье перемены», – испуганно замечали старые дамы, намекая на графиню де Шабрийан, которая продемонстрировала мятежный дух, совершив три поступка, наделавших много шуму: она укоротила свои ожерелья, заново отделала свой особняк и стала носить шелковые чулки, к великому возмущению своей матери, госпожи де Леви-Мирпуа.
Появление в ветреный день двух англичанок в беретах вызвало различные реакции. «В этом головном уборе женщина напоминает подмастерье художника, он придает ей вид непринужденный, деревенский», – отмечала в своем еженедельном отчете дежурная хроникерша. Тогда как другая ежедневная газета считала, что подобная эксцентричность годится только для «мисс». Эту полемику владелицы замков и парижанки-курортницы сочли неинтересной, ибо они вообще не рискнули бы выйти на улицу в ветреный день, занимались прогулками только в своем саду и в любом случае чувствовали, что защищены от подобного неприличия образом своей жизни.
Долгие полуденные часы они проводили в визитах в окрестные поместья, в чаепитиях во время матчей в поло, гордо появляясь на скачках в белых линоновых платьях, вышитых гладью, со вставками из валансьенских кружев, приводившими горничных в ужас. Мода требовала также носить остроносые ботинки с четверными петлями, которые зашнуровывались с огромным трудом и только с помощью крючка, тройной ряд жемчугов, низвергавшихся на корсаж, непременной принадлежностью туалета был зонтик. К тому же модница водружала на шляпу из английского кружева определенное количество страусовых перьев и муслиновых роз, дабы соответствовать своему положению.
Такова была мода в 1913 году, когда Габриэль Шанель, поддерживаемая и финансируемая Артуром Кейпелом, открыла магазин в самом центре Довиля, на улице Гонто-Бирон, улице самой что ни на есть шикарной, по-прежнему отделяющей «Нормандию», роскошную гостиницу, от казино, где играют по-крупному. Габриэль наняла двух славных девушек, которым не было шестнадцати и которые едва умели держать иголку в руках. Какая разница… Этого было достаточно, чтобы приняться за работу. Затем, поскольку ее магазин находился на солнечной стороне, она повесила на окна большую белую штору, на которой черными буквами впервые было выведено ее имя.
Можно представить, какое она производила впечатление, бегая по городу в костюме мужского покроя, в удобных ботинках с закругленными носами, не такая, как все, – будь то верхом или пешком, не отказавшись ни от одного из своих безумств, несмотря на советы знатоков по части элегантности. Она показывалась на матчах, поло в блузках с открытым воротником, в странной шляпе, похожей на сплющенный котелок, – это была панама ее собственного изобретения. И наконец, что было уже верхом неприличия, она афишировала свою связь, сохранив при этом целую когорту обожателей. Леон де Лаборд, Мигуэль де Итурбе и даже Этьенн Бальсан сменяли друг друга всякий раз, когда дела удерживали Артура Кейпела вдали от Довиля.
Бой играл роль знаменитости. Он вел свои дела как человек, который торопится, и не сковывал себя священными правилами буржуазной осмотрительности. Ему не было нужды щадить чувствительность членов административного совета, ибо совет этот состоял из членов семьи. Он был сам себе хозяин и повиновался только своему чутью. Инстинктивно Артура Кейпела влекло в горячие точки. Число его углевозов не переставало расти.
Несмотря на то что инциденты следовали там один за другим, Марокко, это яблоко раздора, это осиное гнездо, как говаривал Жорес, привлекало Боя. Другой бы стал колебаться. Но не он. Кейпел предчувствовал, что колониальные завоевания откроют ему новые рынки. Войска Лиоте стояли в Фесе всего год, а Бой Кейпел уже вкладывал туда деньги и говорил о том, что надо сделать из Касабланки порт, через который шел бы импорт английского угля на всю Северную Африку.
Банкиры различных национальностей, будь то барон д’Эрланже или де Ротшильд, правительственные чиновники, политики, сомнительные финансисты, журналисты, падкие на скандалы, которые то и дело разражались в деловых кругах, магнаты прессы, будь то Эдвардс, Эбрар или Бельби, видные семейства, международные красотки, эскортируемые титулованными мужьями сомнительных нравов, вроде волнующей Ольги де Мейер, про которую говорили, что она дочь английского короля, и ее мужа-барона, одного из первых фотографов моды, – среди таких людей вращались теперь Артур Кейпел и Габриэль.
Первыми их стали принимать англичане. Лорды на отдыхе не были такими ригористами, как французы, их мало заботило прошлое хорошенькой особы, в которую был влюблен Кейпел. Его влюбленности самой по себе было достаточно, чтобы их принимали вместе.
Этого Габриэль не забудет никогда.
Пылкая симпатия, которую она всегда демонстрировала ко всему британскому, превосходство Англии, которое она видела во всем, объяснялись только этой причиной.
Вместе Артур Кейпел и Габриэль разожгли вдохновение Сема.
Вот уже почти три года, как знаменитый карикатурист сменил местожительство. До сих пор он оказывал предпочтение Парижу, и в особенности аллее Акаций, где занимал свой пост каждое утро с десяти часов вместе со своим приятелем Болдини. У Сема была комплекция жокея, и он всегда показывался на публике одетым с иголочки. Болдини же был здоровенный, высоченный малый с огромной головой, на которой с трудом держалась малюсенькая шляпа. Два приятеля в засаде не оставались незамеченными. Но это время для Сема закончилось. Теперь он изощрялся в своей иронии в Довиле.
Безжалостный рисовальщик, которого боялись те, кто хотел избежать подобного рода известности (но которому многие охотно заплатили бы, чтобы он их заметил), изображал красавца Боя в виде кентавра, похищающего в галопе женщину, в которой легко было узнать Габриэль. На конце длинного молотка, которым он потрясал, словно копьем, болталась шляпа с перьями. Намек был ясен, но, чтобы сделать его еще прозрачнее и чтобы каждый понимал, что кентавр не только любовник, но и вкладчик, Бой держал еще шляпную картонку, на которой было написано одно слово: Коко. У довильского общества больше не оставалось сомнений. Это была неслыханная реклама. В глазах светского общества Габриэль начинала быть кем-то. Если добавить, что Сем очень сдружился с ней, что рядом с Габриэль часто видели маленького человечка с острым лицом и озорным взглядом, что, наконец, она осталась в дружеских отношениях с таким неуступчивым и гениальным человеком, как Дюллен, можно прийти к выводу, что у модистки с улицы Гонто-Бирон появился совершенно необычный круг знакомых.
По горло занятая делами, ибо магазин всегда был полон (и она в который уже раз вынуждена была призвать на помощь сестру), знала ли Габриэль о том, чтó творилось в Париже? Бою приписывали новые победы, новые связи – с иностранками, с настоящими знатными дамами, любовные авантюры, следовавшие друг за другом в ошеломляющем ритме. Верила ли Габриэль, что только профессиональной необходимостью объясняются его столь частые отлучки?
То, что происходило, ускользало от нее совершенно, и она была бы склонна преуменьшить серьезность слухов, если бы они до нее дошли. Тем не менее беда подстерегала ее. Но она об этом не знала. В тот момент в жизни Габриэль соединилось слишком много всего – печального, веселого и безумного, и это помешало ей заподозрить что-либо.
Умерла Жюлия, невезучая старшая сестра. Судьба неизвестного племянника, оставшегося в одиночестве в далекой провинции, взволновала Кейпела и Габриэль. Они взяли на себя заботу о сироте и послали его в Бомонт, в английский колледж, где когда-то учился Бой. Без их помощи кем бы он стал? Вероятнее всего, как его дяди, Люсьен и Альфонс Шанели, воспитанником приюта. Только юная Берта Кейпел, голова которой всегда была начинена безумными идеями, отказывалась верить, что этот маленький мальчик не ребенок Габриэль. За несколько лет с помощью недомолвок и полупризнаний Берта вызвала к жизни стойкую легенду: о сыне Боя, или лжеплемяннике Шанель.
Приехала Адриенна, еще красивее и влюбленнее, чем всегда. Она зашла в магазин, какие-то шляпы взяла взаймы, другие купила, меняла их каждый день и, показываясь на публике, заставила столько говорить о себе, что клиентура Габриэль удвоилась. Шанель, сама того не зная, открыла полезность манекенщиц и тут же завербовала Антуанетту. Обе модницы в самое прогулочное время были посланы на набережную. Они вернулись торжествуя: на них останавливались все взгляды. Тогда, укрывшись в глубине магазина, в комнате, которую они называли «исповедальней», три воспитанницы монахинь ордена святого Августина, наконец соединившись, предались общей радости. Во времена Варенна, во времена Мулена кто бы мог предвидеть, что их жизнь примет такой оборот? Иногда, в конце дня, к ним присоединялась Мод Мазюель. Она по-прежнему показывалась рядом с Адриенной, хотя и в новой роли. Она больше не была дуэньей, позволявшей Адриенне пользоваться своими связями, все было наоборот: теперь Адриенна, имевшая надежного жениха с незыблемыми намерениями, тянула подругу на буксире. Они надеялись найти для славной Мод мужа.
Как всегда, больше всего вопросов задавала себе Габриэль. Она думала, что с Кейпелом жизнь будет другой. Теперь же она замечала, что во многих отношениях Бой оставался узником своей среды. Это было особенно любопытно, ибо в других сферах он отличался редкой свободой взглядов.
Дело в том, что у Боя были свои счеты с обществом. Тайная язва – неизвестный отец – подтачивала его. Во Франции, где с небывалой резкостью проявляли себя растущие антисемитизм и шовинизм, было немало примеров, когда видных деятелей пытались свалить, обнаружив у них среди прочих изъянов сомнительное происхождение. Артур Кейпел был уверен в том, что для того, чтобы избежать ловушек своих заклятых врагов и одолеть их, ему надо прежде всего породниться со знатным семейством.
Это была не единственная перемена в характере Боя. Он проявлял удивительное стремление к власти. Было ли это карьеризмом? Кейпела видели в странных компаниях. Чего искал он в обществе Клемансо? Бывший президент Совета был не из тех людей, кого легко очаровать. В чем же тогда дело? Как объяснить интерес, проявляемый им к любовнику Шанель?
Было во всем этом нечто такое, что в среде клубменов переносили с трудом.
В ту пору в глазах правых Клемансо был всего лишь сомнительной личностью. Разве он не превратил газету, которой руководил, в военную машину, яростно нападавшую на респектабельного господина Пуанкаре? Куда он лез, этот Клемансо? Неужели глава государства нуждался в его разрешении, чтобы отправиться с официальным визитом в Санкт-Петербург? В глазах постаревшего общества, верившего только в приличия, Клемансо был повинен во всех грехах. Хуже всего было то, что он не верил ни в силу царя, ни в верховную власть Папы. Сомневаться в царе, сомневаться в Папе? И с подобным человеком, с безбожником, носившим костюмы свободного покроя и осмелившимся прогнать папского нунция, общался Артур Кейпел?
Шляпа Клемансо, его перчатки, которые носили только принарядившиеся фермеры да прислуга, вызывали иронию. Баррес, который по крайней мере был gentleman, не ошибался, когда писал: «Клемансо – просто кучер, каких слишком много…» Это была характеристика, отмеченная печатью здравого смысла. Красавец Бой помешался на человеке, никогда не снимавшем перчаток, на крестьянине, завтракавшем в ужасных тапках и в клетчатой кепке. В таком чудовищном одеянии он стряпал отвратительную бурду – густой суп, разивший луком. Разве это был подходящий друг для молодого судовладельца, блестящего делового человека? И как можно спускать Клемансо то, что в любом другом случае квалифицировалось бы как развратные действия? Разве можно было забыть, как в ответ одному пастуху из Вара, назвавшему его шпионом, продавшимся Великобритании, Клемансо не нашел ничего лучшего, как расстегнуть штаны? Затем, прибавив к одной хамской выходке другую, воскликнул: «Что вы хотите, мой друг, королева Англии без ума от этой игрушки. Она и слышать не хочет о других». Разве подобная распущенность была допустима? И Артур Кейпел, англичанин, да к тому же католик, находил гениальным этого мужлана? Было что-то неприличное в том, как вел себя Бой, никто этого не ожидал.
Сомнения, вызванные его поведением, только укрепили Артура Кейпела в его убеждениях. Как и Клемансо, а возможно, и под его влиянием, Бой больше не верил, что мир можно спасти. Ужасное испытание приближалось, и делалось ясно, чего можно ждать от угольных месторождений Ньюкасла, от кораблей Боя и его деловой хватки. Уголь становился ключом ко всему. Поэтому, желая стать неуязвимым, Кейпел более чем когда-либо стал подумывать о том, чтобы остепениться.
Он хотел, чтобы Габриэль была его единственной конфиденткой. Он всегда возвращался именно к ней. Наверное, Бою следовало увидеть в этом знак того, что любил он только ее… Но этого не произошло, и истина открылась ему, когда ошибка была уже совершена… когда он уже был женат.
Что касается Габриэль, то ее иллюзии умерли: он не женится на ней. Большая любовь, о которой она мечтала, грозила внезапно закончиться. Разрыв? Потерять Боя? Об этом не могло быть и речи. Значит, ей оставалось терпеть нетерпимое, довольствоваться крохами любви и вновь соглашаться на полуофициальное положение, столь для нее привычное…
Начиная с 1913 года Шанель перестала надеяться. Она ничем не выдала себя. Но в поведении ее начинает проступать горечь, которая в конце концов захлестнет ее.
Чтобы взять реванш, она испытывала теперь только стремление к независимости. Она хотела стать свободной, свободной от всего – от окружающего мира, от мужчин, от любви. Это желание придавало ее жизни новый смысл. Ведь чтобы удовлетворить подобные амбиции, у нее было только одно средство – работа. Значит, впредь будет только это. Она впряглась в работу с ожесточением и азартом, после упущенной возможности добиться счастья у нее было полно неизрасходованных сил.
Было странно, что в обществе, где способность самой зарабатывать на жизнь не пользовалась уважением, ей удалось встретить если не счастье, то человека, разделявшего ее стремление трудиться и преуспеть. Возможно, именно это и связывало их особенно глубоко. Каковы бы ни были превратности судьбы – сначала война, потом женитьба Боя, – они не отказались друг от друга и продолжали вместе закладывать основы империи Шанель.








