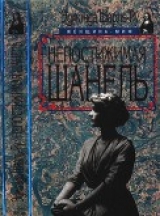
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
IV
Испанская путаница, или Неделя в Кастилии
Габриэль до самого конца скрывала от подруги свои истинные намерения. Она говорила с ней только о моде. Так что, избавившись от сомнений, одолевавших ее всю дорогу, Вера испытала прилив нежности к вновь обретенной подруге. Они были сестрами в работе, в конце концов, сестрами в трудностях. Их союз был союзом старых друзей, и он выдержал немало испытаний. После Первой мировой войны, после скитаний, когда брак Веры кончился неудачей, когда она, беззащитная иностранка, оказалась в Париже и искала работу, где она нашла ее, как не у Шанель? Такие вещи люди не забывают. Габриэль… Теперь пришла очередь Вере прийти ей на помощь. Вера была убеждена, что Габриэль ощутила такую настоятельную потребность в ее присутствии, потому что у нее не лежало сердце к работе, и «открыть» Дом она была вынуждена против своей воли. Поэтому за несколько дней до решающего момента Шанель и объявила об отъезде в Испанию. Вере было ясно, что неприятелю не удалось справиться с Габриэль, ясно, что это неожиданное решение – всего лишь предлог, чтобы выпутаться из затруднительного положения, ясно, что они вдвоем отправятся в страну, где немцев нет.
И Верка постаралась изгладить из души чувство горечи и забыть обо всем, что ей пришлось пережить в Риме. Не правда ли, странное зрелище – две женщины, ни союзницы, ни враги, играющие вслепую партию, где карты были подтасованы? Ибо если Габриэль запрещала себе говорить Вере, что едет в Испанию потому, что была уверена, что ее примет посол Англии, то и Вера со своей стороны не признавалась ей, что едва они окажутся в Мадриде, как она немедленно обратится к тому же послу. У Веры был свой план: во что бы то ни стало добраться до той части Италии, где у англичан были прочные позиции. А потом? Связаться с Берто. Оказавшись в Италии, Вера соединится наконец-то с мужем. Простое послание: «Я в Салерно». А он-то думает, что она в Париже! В Салерно! Он, разумеется, спросит себя, какого черта она там делает. Но тут же бросится к ней, она была уверена, и, конечно, вместе с Тиджем… Вера представляла их – Берто на коне, галопом несущегося по откосам, а следом, высунув язык, мчится во весь опор пес…
Пребывание в Париже было коротким. Они жили бы в добром согласии и почти без всяких осложнений, если бы не часто возникавшее у Веры впечатление, что всякие внешние контакты были ей запрещены. У Габриэль всегда находились аргументы. Мися? Мися больна, Миси не было, и, кстати, пользоваться телефоном рискованно, лучше ничего не предпринимать. Не подавая виду, Шанель следила за тем, чтобы Вера общалась только с ней. Единственное свидание, назначенное без ведома Габриэль, обернулось драмой. Давняя подруга, Сабина Шарль-Ру, с которой Вере удалось войти в контакт, была глубоко поражена, когда, словно фурия, ворвалась Габриэль и, довольно грубо обратившись к Вере, потребовала «больше так не поступать».
Действительно, опасность была велика: кто-то мог бы удивиться, в первый раз услышав о предстоящем возобновлении работы, а уж тем паче о путешествии в Испанию. Ибо в дни долгих испытаний никому дела не было до туризма и поездки в Испанию были такой же редкостью, как и хлеб.
* * *
Жить в Мадриде значило опять остановиться в «Ритце». Элегантная публика, там разместившаяся, с восторгом слушала, как портье громким голосом выкликает имена самых что ни на есть настоящих аристократов. В обстановке довоенного комфорта в гостинице наблюдалось постоянное движение господ в штатском, и, хотя они были немцами, они говорили по-испански, ездили в тяжелых американских автомобилях и жили в страхе, что положение резко изменится. Они видели, как быстро растет число их противников: других господ в штатском, ездивших в машинах тех же марок, тоже говоривших по-испански и находившихся здесь, чтобы следить за ними. Это были англичане или американцы. В этом противостоянии было что-то шутовское, ибо обе стороны старались, чтобы соотношение сил не менялось. Как только в английском лагере появлялся новый агент, немцы тут же получали от испанского правительства разрешение обзавестись дополнительным шпионом. Вместе с тем безоговорочной поддержкой испанской полиции пользовались только секретные службы рейха, ибо у генерала Франко было совершенно особое представление о нейтралитете.
Если нам практически ничего не известно о путешествии из Парижа в Мадрид – кроме того, что Вера и Габриэль ехали с немецкими пропусками, – если совершенно не доказано, что фон Д. сопровождал их – он это утверждал, но его друзья опровергали этот факт, – то существует немало свидетелей пребывания подруг в испанской столице.
Едва приехав, они тут же взялись за дело.
Габриэль под ложным предлогом, что ей надо сделать покупки, отправилась в посольство Англии. И Вера, которую эти спасительные покупки освободили, Вера, сама того не зная, отправилась следом за подругой. Прозвеневший звонок, сразу же появившийся английский чиновник стали для Веры минутами огромного волнения: наконец-то она на дружеской земле.
Некоторое время спустя произошло непоправимое: обе дамы столкнулись лицом к лицу в тот самый момент, когда выходили из посольства.
Обе были растерянны, смущены и, почти дрожа, подыскивали слова.
Кажется, Габриэль первой обрела хладнокровие. Она сказала:
– Вот это мило! Не будем же мы стоять здесь, злобно уставившись друг на друга.
И они покинули посольство.
Тогда Габриэль призналась Вере в том, что привело ее в Испанию. Она ничего от нее не скрыла. Она подробно рассказала ей о Шелленберге и о том, какое участие он принял во всем деле. Габриэль только что принял сэр Сэмюел Хоуар, и послание, адресованное ей Уинстону Черчиллю, будет доставлено по назначению, по крайней мере так она утверждала. И хотя в британских архивах не осталось никаких следов этой памятной встречи, представляются вполне вероятными и аудиенция, и согласие передать послание, содержание которого можно проверить на досуге.
Но поскольку Габриэль глубоко верила только в силу секрета, она пошла на непростительный риск, и это навсегда сделало ее миссию подозрительной в глазах британского посольства в Испании.
Может быть, так произошло бы в любом случае, но ее недомолвки сыграли решающую роль. Ибо, решив держать Веру в резерве, как последнее прибежище на тот случай, если Черчилль проявит колебания по отношению к ней самой, Габриэль не проронила ни единого слова о присутствии Веры в Мадриде. Могла ли она ожидать, что та в то же самое время вступит в контакт с офицером из «Интеллидженс сервис»? Вера же не умолчала ни о чем. Она рассказала обо всем, о Риме, об ужасных днях, проведенных в тюрьме, о том, каким образом она покинула Италию, о своем пребывании в Париже, о немецких пропусках… Тут же возник вопрос, почему две женщины противоречат друг другу. Одна сказала все, другая почти ничего. Одна утверждала, что Черчилль может принять ее, другая просилась в зону английской армии в Италии. Как же получилось, что они путешествовали вместе, с немецкими пропусками, выданными в одно и то же время и теми же властями?
Их случай показался сомнительным.
Тем не менее не все в этой загадке было подозрительно. Одна из этих женщин сделала свое имя знаменитым, другая имела родственные связи среди высшей знати. Не рискуя делать какие-либо шаги, британские агенты решили, что дело ни в коем случае не может быть похоронено. Они запросили инструкций в Лондоне. Но проблема, созданная инициативой Габриэль, была всего лишь одной из множества мелких проблем, тонущих в море серьезных и важных событий. В Лондоне считали, что торопиться не следует. В Мадриде же дамы стали проявлять признаки нетерпения. И посол решил установить с ними постоянную связь, считая, что они все-таки заслуживают того, чтобы к ним отнеслись с вниманием. Тот, кому была поручена эта связь, был молодой человек, англичанин, хотя он и представился подругам под именем Рамон[135]135
«Рамон вполне мог быть Брайаном Уоллесом (сыном писателя), который был почетным секретарем в посольстве и которого сэр Сэмюел Хоуар использовал от случая к случаю, чтобы принимать „странных“ посетителей. Я не могу объяснить, почему он воспользовался псевдонимом, возможно, потому, что любил драматизировать…» – написал сэр Майкл Кресвелл, второй секретарь посольства в Мадриде, в 1943 году отцу Жану Шарль-Ру.
[Закрыть]. Габриэль так и не разгадала секрет этого псевдонима, непреодолимо вызывавшего в памяти помаду для волос и танго, хотя он находился в категорическом противоречии с изысканным блондином, его носившим.
Последующие дни оказались решающими. «Рамон» проявил большее доверие по отношению к Вере, нежели к Габриэль, что Шанель сразу заметила. Что-то создало у нее ощущение, что «Рамон» не сделает ничего, чтобы поторопить события и довести ее миссию до успешного конца.
И ей казалось, что и Вера не использовала все свои возможности, чтобы помочь ей.
«Рамон» был к этому причастен.
Он ясно дал понять Вере, что в ее интересах не показываться в обществе Шанель. Наконец, чтобы она смогла вернуться в Италию на условиях, которые были для нее желательны, Вера должна покинуть «Ритц» и поселиться в другом месте. На какие деньги? – спросила она себя. Надо было найти помощь. Вера стала завязывать знакомства повсюду и наудачу. Тогда Габриэль убедилась, что с ней даже не советуются по поводу того, с кем можно видеться, а кого следует избегать, – деталь, которая на первый взгляд могла показаться второстепенной, а на самом деле была далеко не лишена значения.
Так, Вера пригласила одного итальянского дипломата, маркиза Сан Феличе, который, отказавшись примкнуть к «республиканскому фашистскому правительству» Муссолини, вынужден был покинуть свой пост. Он и его жена были презираемы теми, кто еще несколько недель назад встречал их с распростертыми объятиями, – подобное подлое поведение было свойственно, к сожалению, многим.
Их появление в салонах «Ритца» неизбежно вызвало некоторую суматоху. Габриэль посчитала, что Вера издевается над ней, пренебрегая ее гостеприимством. Чтобы продемонстрировать подруге свое недовольство, как-то, протягивая Вере чашку чая, Шанель бросила мимоходом:
– Английским заключенным всегда предлагают чай.
Что можно было перевести следующим образом: «Не забывайте, что вы у меня в руках». Эти странные слова задели Веру за живое. Заключенная, она? Это мы посмотрим… Инцидент, хотя и короткий, укрепил ее в решимости положить конец их сожительству, которое несло с собой одни только неприятности. Она дала себе два дня, и не больше… События опередили ее, ускорив развязку.
Совершенно неожиданно в Мадриде распространилась новость, что Черчилль заболел. В Лондоне, 16 декабря 1943 года. Этли известил об этом парламент. Был распространен поспешно составленный бюллетень о состоянии здоровья премьера. Так англичане узнали, что премьер-министр провел хорошую ночь и что в его состоянии наблюдается некоторое улучшение, хотя прежде не были извещены о его болезни.
«Рамон», отвечая на многочисленные вопросы, признал, что по возвращении из Тегерана Черчилль простудился. Это была официальная версия, больше ничего не было известно, кроме того что последствия простуды заставили премьер-министра временно отойти от дел. Сколько должен был продлиться его отдых, сказать было невозможно. Все встречи Черчилля, несмотря на срочность и огромную важность, были отменены. Тем самым Габриэль официально дали понять, что ей следует отказаться от намерения добиться от премьер-министра аудиенции, которую он, по предписанию врачей, не мог дать даже членам своего кабинета и представителям генерального штаба.
Так же как и Вера, Габриэль не усомнилась в искренности своих собеседников.
Удалось бы ей войти в контакт с премьер-министром, будь он в добром здравии? В этом не было никакой уверенности. Но в том, что Черчилль серьезно болен, она была убеждена. Старина Уинстон… «Он действительно болен, – заверила она Веру, и в голосе ее звучала тревога. – Может быть, он даже в опасности…»
Чувствовалось, что она потрясена.
По ту сторону Средиземного моря на грани смерти находился тот, от кого зависела судьба Англии. «Он на пределе, – отметил 10 декабря 1943 года его личный врач. – Нет сомнений, что он идет к полному упадку сил». На следующий день: «В то время как премьер-министр медленно шел к самолету, я заметил, что лицо его стало серого цвета, мне это не понравилось». Черчилль направлялся в Тунис, где его ждал генерал Эйзенхауэр. «Когда он прибыл наконец в этот дом, то буквально рухнул в первое попавшееся кресло», – снова записывает врач. И позже: «Он ничего не делал в течение дня, кажется, у него даже нет сил, чтобы прочесть обычные телеграммы. Я очень обеспокоен». Потрясение… Вдруг там, в Карфагене, возникла угроза воспаления легких, надвинулась ночь. И страх близких, и специалист, прибывший из Лондона, и вопрос, который никто не осмеливался задать: «Черчилль умрет?»
Вдруг старый боец, так долго смирявший яростные волны войны, а затем внезапно остановленный и сокрушенный злой судьбой, вновь поднялся на ноги. Как только он оказался в состоянии путешествовать, премьер-министр отправился набираться сил туда, где существовала удивительная поэма вершин, солнца, песка и пальм, – в Марракеш.
Габриэль ждала в Мадриде. Напрасно. У нее больше не оставалось иллюзий: она не увидит Уинстона, операция «Шляпа» провалилась.
Тогда она объявила Вере, что возвращается в Париж.
Может ли она рассчитывать на подругу?
Та сообщила ей, что остается в Испании. Габриэль решила, что, не имея денег, Вера одумается и на следующий день появится на вокзале. Но Вера в тот же вечер покинула гостиницу, и Габриэль больше не слышала о ней. Вера нашла пристанище у маркиза Сан Феличе. После чего гостеприимство ей предложил таинственный «Рамон». Вера начала зарабатывать на жизнь, расписывая сценами с наездниками журнальные столики и ширмы. Но вызванные ею подозрения оказались стойкими. Из Лондона через несколько месяцев пришло наконец сообщение, что ей разрешено будет вернуться в Италию только после освобождения Рима. Союзники вошли туда в июле 1944 года, и Вере пришлось ждать репатриации до января 1945 года. Но испанская путаница превзошла все, что можно было вообразить: королева Испании, находившаяся в изгнании и хотевшая помочь «незаконной» родственнице, переправляла через Швейцарию в Италию письма, которые Вера писала своему мужу из Мадрида.
Совершить это путешествие только для того, чтобы потерять Веру. Как горько! Габриэль не находила больше ни малейшего смысла в затеянном ею предприятии.
В Париже майор Момм, которого затянувшееся пребывание Габриэль за границей начало невыносимо беспокоить, испытал живейшее облегчение, увидев, что она вернулась. Вера предала ее?
Что ж, это можно было предвидеть. Было достаточно, что вернулась хотя бы одна из них. На большее и не рассчитывали.
* * *
У Габриэль была странная особенность верить в непредсказуемое завтра. Кто мог бы сказать, что ее тогда воодушевляло?
Несмотря на новые поражения, которые на всех фронтах разом терпели армии третьего рейха, несмотря на печальные вести о городах, по всей Германии стертых в пыль, о судьбе женщин и детей, тяжким грузом давившей на моральное состояние сражающихся, о тысячах бездомных, похожих на призраки, днем и ночью бродящих по улицам и не находящих убежища, – в это время и в этом мире, разрушавшемся целыми городами, Габриэль хладнокровно сводила счеты.
Сперва с Верой, влюбленной женщиной, из которой надо было сделать виновную. Первой заботой Габриэль было написать ей. И в каком тоне… Будь прокляты эти мужья! Все было точно так же, как с Адриенной в Довиле. И в каждой фразе Габриэль чувствуется ожесточение вечно разочарованной любовницы перед лицом лжеподруги, признававшейся, что она только ждала часа, чтобы с безумной поспешностью соединиться с любимым.
Итак, в последние дни 1943 года Вера получила от Габриэль письмо, переданное неизвестно кем, четыре страницы, написанные карандашом, торопливо, но твердой рукой – ошибки неважны – и без помарок. Почерк по виду несколько надменный, но в нем проступают уроки муленских канонесс начала века. Это каллиграфически выписанные, гордо изогнутые буквы, которым учили, чтобы показать, до какой степени пишущая – «настоящая дама». Дама, говорящая сухо и приказывающая властно:
«Дорогая Вера, не смотря
(sic)на границы, вести доходят быстро! Мне известно о Вашем предательстве! Оно ничему для Вас не послужит, кроме того, что ранит меня глубоко.Я сделала все возможное, чтобы Ваше прибывание
(sic)здесь было менее тяжелым. Терпение, деньги и т. д. Но я не могла в разговорах на итальянскую тему изображать из себя идиотку, как не могла в разговорах на тему немецкую выслушивать или сама говорить недостойные вещи, которые я оставляю для простаков. Презирать своего врага – значит принижать самое себя[136]136
«Враг» стоит в женском роде. Кого она имела в виду: Германию или Веру?
[Закрыть].Мои английские друзья ни в коем случае не могут осуждать меня или обвинять в чем-либо.
Этого мне довольно.
Я видела М.[137]137
Габриэль употребила этот инициал и не упомянула ни имя майора, ни имя Шелленберга.
[Закрыть] Я не сказала ему ничего, что могло бы затруднить Ваше положение. Если Вы хотите вернуться в Рим, через 48 часов после Вашего приезда в Париж Вы будете там рядом с Вашими настоящими друзьями!..Ваше безразличие к моим делам в Испании избавляет меня от необходимости говорить с Вами на эту тему! Но у меня есть добрые новости, и я надеюсь добиться успеха.
Я храню очень теплое воспоминание о Вашем друге „Рамоне“, хотя его помощь в делах кажется мне несерьезной.
Знайте также, что я покинула Испанию ни
(sic)по приказу – я их много отдавала в жизни, но пока не получила ни(sic)одного. Моя виза закончилась. Ш.[138]138
Ш. – по всей видимости, Шелленберг.
[Закрыть] боялся, что у меня будут неприятности.От всего сердца желаю, чтобы Вы вновь обрели счастье.
Но удивляюсь, что с годами Вы не стали более доверчивой и менее неблагодарной.
Столь жестокая и печальная эпоха, как наша, должна была бы совершать подобные чудеса».
Письмо было подписано: Коко.
* * *
В любых суждениях о Шанель всегда будут неточности. Зная ее, разве могли мы представить, что она сочтет необходимым отправиться в Берлин, чтобы дать отчет о своей неудавшейся миссии? Разумеется, нет. Между тем именно так она и поступила.
Кто из ее подруг, служащих или клиенток, видевших, как она трудится над одним из своих творений, привнося в работу маниакальную аккуратность, придирчивость и порой раздражающую тщательность – Габриэль, определявшая, не тянут, не жмут ли рукава, отмечавшая длину юбки, энергично обнаруживавшая тот или иной недостаток, который она атаковала с ножницами в руках, – кто из них мог бы представить, что та же самая Габриэль смело пошла навстречу опасности, не побоялась пересечь Европу и побывать в немецких городах – ей пришлось пережить долгую воздушную тревогу той ночью, что она провела в Берлине, – полностью отдавшись идее оправдать доверие, которое ей оказал Шелленберг? Ради него, этого незнакомца, этого немца, она хотела стать воплощением женской храбрости? Или оттого, что в том году ей исполнилось шестьдесят и она боялась, что возраст любви прошел, она с такой жадностью нуждалась в чьем-то доверии? Чего она так боялась, что пошла на такой риск? Вообразить, что она не представляла себе возможных последствий ее инициативы, значило бы выдать ее за дурочку… Кто в это поверит?
Поездка Габриэль в Берлин была поступком, совершенным от тоски и, в сущности, окрашенным бесконечным разочарованием, в которое она погружалась. К какому свету повернуться, когда вас охватывает подобный холод? А Шпатц? Значит, его присутствия было недостаточно? Ах! Оставьте меня в покое с вашим Шпатцем, и что он такое, спрашиваю я вас. Между комфортом, окружавшим ее в военном и нищем Париже, между жизнью взаперти и безумием ее последней попытки существовать иначе, чем на страницах журналов, есть место только для тайной правды о Габриэль, сотканной из меланхолии и мрачного отчаяния.
Вот она в Берлине, в последние дни 1943 года, в обществе Шелленберга, достигшего звездного часа своей славы. Где он ее принял? В кабинете-крепости, который он занимал в то время в качестве главы всех тайных агентов Германии, в кабинете, описанном им с гордостью – хочется даже сказать «весело»? «Там повсюду были микрофоны, в стенах, под письменным столом, в каждой лампе, с тем чтобы записывался каждый разговор до мельчайшего звука… Мой рабочий стол был похож на небольшой блиндаж. В него было вмонтировано автоматическое оружие, которое в одно мгновение могло заполнить комнату плотным огнем. В случае опасности мне было достаточно нажать на кнопку, и два ручных пулемета одновременно вступали в дело. Другая кнопка включала систему тревоги, приказывавшей охранникам немедленно окружить здание и блокировать все выходы». Сколько времени Шелленберг уделил своей знаменитой посетительнице? И если верно, что «Франция прежде всего страна опасных сорокалетних женщин»[139]139
Colette. Prisons et Paradis.
[Закрыть], удалось ли шестидесятилетней Шанель отодвинуть эту границу, побить рекорд? Удалось ли ей взволновать красавца хозяина этого черного дворца? Что подумал о ней человек, который в силу своей профессии, сохраняя при этом полное бесстрастие, видел, как одна за другой возникали угрозы, как совершались худшие жестокости, как, наконец, родилось бесчестье, которого никогда не знал западный мир? Соблазнительный хищник? Бессмысленно было бы это отрицать.
Отменно вежливый, высокомерно-сдержанный. Отмеченный небольшим шрамом подбородок. Рот с пухлыми губами, чуждый оскорблений или ухмылок, казалось, был создан для смеха и любви. Безукоризненный нос был, как и полагается, без малейшей горбинки и как бы слепленный для того, чтобы удостоверить, что его хозяин образцовый ариец. Наконец, глаза… Только глаза пугали своей неподвижностью, и было бы бессмысленно пытаться вообразить, какие ужасы видели эти глаза.
По случаю визита Габриэль щегольнул ли Шелленберг той или иной особенностью своей профессии, которой так гордился? В самом Голливуде от актеров не потребовали бы большего. Он равнодушно рассказывал о пустом зубе, который вставлял себе в челюсть, отправляясь на задание. Чтобы использовать его в случае провала. «Он содержал дозу яда, достаточную, чтобы убить меня меньше чем за тридцать секунд». Но для большей безопасности он носил также необычное кольцо, украшенное кабошоном изумительного голубого цвета. Под драгоценным камнем была спрятана капсула, содержавшая приличную дозу цианистого калия.
Нам неизвестно, кто из собеседников – Габриэль или Шелленберг, этот слуга нацистской Германии, – выслушивал другого с большим возбуждением. Мы просто знаем, что происшедшее в этом кабинете не было банальной встречей и что это событие в долгой жизни Шанель нельзя замолчать. Ибо в день возмездия, когда наступили сумерки лжепророков, именно к Габриэль обратился Шелленберг, и она помогла ему, помогла в тот период истории, когда никто не осмелился бы этого сделать.
Тот, кто хочет быть трезвым свидетелем, внимательно исследующим все этапы жизни этой женщины, кто разрывается между уважением и непреодолимым отвращением, желанием оправдать и возмущением, этот свидетель может только замолчать и с болью задуматься о непостижимой трагедии, разыгрывавшейся тогда в человеческих сердцах. О трагедии, навязанной всем и превзошедшей и само сражение, и то, что противопоставляло нации и народы, задуматься о судьбах, отмеченных страданиями, родившимися из войны, из войны и крови.








