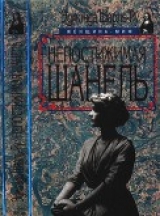
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
V
Иногда поэтов убивают
Габриэль вернулась из Германии. Прошло еще несколько месяцев, и в разгаре лета у парижан появились причины для того, чтобы взяться за оружие. Парижане… Сколько им ни повторяли, что еще рано и что предосторожность… Предосторожность? Что это значит, предосторожность? Разве они столько ждали для того, чтобы выслушивать подобные аргументы? И они, словно к азам, вернулись к постройке баррикад. И вновь был один из ужасных парижских праздников. Праздник гнева.
Но с января того года все изменилось.
В магазине Шанель резко поубавилось покупателей в военной форме, и на флаконы с двумя переплетенными «С» уже не набрасывались, как прежде. Развязывались языки. Чувствовалось, что конец близок. По почте приходили анонимные угрозы, люди отворачивались, и на улицах, площадях и даже в самых тихих кварталах царило такое же настроение, как на вокзале после мертвого сезона, в ту минуту, когда объявляют о прибытии первых поездов. Когда, когда же высадка?
Да, все изменилось, только не для Габриэль, которая после своего мимолетного заговора обрела тяжелый покой и продолжала жить жизнью, странные последствия которой она оценивала каждое мгновение. Вечная незаконная… Перевернув последнюю страницу, она более чем когда-либо оставалась в стороне, за бортом.
Вокруг нее было очень мало друзей: Мися, которая все знала, но делала вид, что ничего не знает, верный Лифарь, который ни во что не был посвящен. Что касается других, друзей великой эпохи «Русских балетов», они молчали и избегали ее.
Показательно то, что ни один из них не обратился к ней тогда, когда они ходатайствовали перед немецкими властями за Макса Жакоба. В маленькой группке его защитников среди прочих друзей Шанель были Жан Кокто и Анри Соге. Без них Макс был бы совершенно предоставлен своей несчастной судьбе.
Ибо 23 февраля 1944 года, в то время как монахи Сен-Бенуа-сюр-Луар пели утреннюю службу, началась голгофа Макса.
Человек, которого, несмотря на крики и зов на помощь госпожи Персийар, его мужественной хозяйки, пришли забирать, не имел ничего общего с денди с моноклем, чьи шутки двадцать пять лет назад доставляли наслаждение Габриэль и Мари, той Мари, что любила Аполлинера, а также Лиане, ставшей принцессой Гика.
Теперь это был маленький, бедно одетый старик, в широком черном берете, в сабо из рафии, «на подкладке из настоящего кролика», с одеялом в левой руке, со старым чемоданом в правой. И монахи, удрученные своим очевидным бессилием, смотрели, как он покидает их. Макс пожимал протягивавшиеся к нему руки, Макс, очень спокойный, был арестован гестапо.
Из орлеанской тюрьмы два письма, нацарапанные тайком, были отправлены «благодаря любезности окружающих нас жандармов». Два письма «жертвы кораблекрушения», извещавшие, что скоро за ним захлопнутся ворота Дранси. В письме кюре Сен-Бенуа он писал: «Я верю в Бога и моих друзей. Я благодарю Его за начавшееся мученичество». Но он не писал о том, что разделил с другими заключенными скудную провизию и белье, которое поспешно дал ему в дорогу славный человек, господин Флеро, кюре Сен-Бенуа-сюр-Луар.
В письме, Жану Кокто Макс напоминал об обещании Гитри: «Когда с ним говорили о моей сестре[140]140
Мирте была депортирована в Германию тремя месяцами раньше. «Только что арестовали младшую из моих сестер, ангела простоты и нежности», – писал Жакоб Бернару Эсдрасу-Госсу.
[Закрыть], Саша сказал: „Если бы это был он, я бы мог что-нибудь сделать“. Так вот, это я!»
Заключение Макса в сырой клоаке продлилось пять дней. С помощью двух стаканов он ставил банки старой женщине, умиравшей от воспаления легких, потом делал перевязки бывшему легионеру, которому только что прооперировали язву.
Поскольку у него оставалось немножко сил, Макс старался развеселить своих товарищей. Он проникся симпатией к некоему Жерамеку, с которым его объединяла любовь к оперетте и комической опере, вдвоем они во все горло орали «Маленького Фауста» и арии Оффенбаха.
Между двумя ариями Макс открывал свой молитвенник и предлагал заключенным поразмыслить над ним. И когда один из них жаловался на голод – пища состояла из тарелки супа в полдень и нескольких крошек сыра вечером, – Макс, вызывая смех или слезы своих товарищей, живописал сцены из своей нищей жизни во времена Бато-Лавуара или наугад цитировал по памяти фрагменты того, что он тогда писал. «Спускаясь по улице Ренн, я откусил кусок хлеба с таким волнением, что мне казалось, будто я разрываю себе сердце…» Он рассказывал им также о потерянных друзьях, о художниках, поэтах, которых любил и которым помогал.
Тех, кто осмелился, было немного.
Кокто, самый мужественный, самый решительный из них, составил обращение, под которым хотелось бы видеть подпись Габриэль. Согласилась бы она? Они ее остерегались. Ее ни о чем не попросили. Возможно ли, чтобы наступил день, когда друзья Макса бросили его? Мися, что делала Мися? Как случилось, что ее имени нет среди подписавшихся? Еще хуже было молчание Пикассо. Что он сделал для Макса? Макс был единственным, кто признал Пикассо сразу по приезде из Испании, единственным, кто провозгласил его гением, искал для него клиентов, предложил ему свою комнату, свой жалкий заработок, единственным, кто ввел его в круг своих друзей и знакомых. Больно признать, что Пикассо забыл его[141]141
Пьеру Коллю, который пришел просить его вмешаться, используя свой авторитет, признанный даже немцами, Пикассо ответил: «Не стоит ничего предпринимать. Макс – домовой. Он и без нас сумеет выбраться из тюрьмы».
[Закрыть].
Поэтому обращение составил Кокто, и оно было вручено чиновнику немецкого посольства. Чтобы преследователи Макса Жакоба могли понять, с кем они имеют дело, Кокто избрал нелегкий путь. Он обрисовал Макса и во времена активной деятельности, и в его уединении. Надо было представить Макса как личность замечательную и уникальную. Кокто рискнул:
…Вместе с Аполлинером он изобрел язык, господствующий в нашем языке и выражающий его глубину.
Он был трубадуром необыкновенного турнира, где сошлись, столкнувшись, Пикассо, Матисс, Брак, Дерен, Кирико, каждый выставив свой разноцветный герб.
Давно уже он отказался от мира и прячется в тени церкви. Он ведет там образцовую жизнь крестьянина и монаха.
Французская молодежь любит его, говорит ему «ты», уважает его и смотрит на его жизнь как на образец. Что касается меня, я приветствую его благородство, его мудрость, его неподражаемое изящество, его тайный авторитет, его «камерную музыку», если позаимствовать выражение Ницше.
Да поможет ему Бог.
Жан Кокто.
P. S. Добавлю, что в течение двадцати лет Макс Жакоб является католиком.
Нижеподписавшиеся позволяют себе обратить внимание компетентных властей на совершенно особый случай Макса Жакоба.
Его контакты с внешним миром ограничены многочисленными дружескими связями с молодыми поэтами и крупными фигурами французской литературы. Его возраст и поведение, столь благородное и столь достойное, заставляют нас, повинуясь сердцу и разуму, предпринять этот последний демарш, чтобы вернуть ему свободу и сохранить его здоровье, которым мы дорожим.
Просьба была передана.
Было ясно, что мучители остались к ней глухи, и жребий был брошен.
В Дранси прошло десять дней.
Поэт, которому вручили зловещую зеленую этикетку, означавшую немедленную депортацию, лежал на полу с температурой сорок, в комнате, куда набилось восемьдесят заключенных.
Его перенесли в медицинскую часть. Там у него начался бред. Приподнявшись на локте, Макс кричал: «Мне вонзили сюда кинжал». Потом он умолял, чтобы сказали, что он не может прийти на обед к принцессе Гика (Лиане де Пужи), или бросал обрывки фраз, в которых часто повторялось имя почтарки из Сен-Бенуа-сюр-Луар.
На двенадцатый день у него наступило некоторое просветление. Вокруг него раздавались навязчивые крики и жалобы, произносившиеся умирающими на всех языках. Поэту тем не менее удалось последний раз обратиться к своим друзьям: «Пусть Салмон, Пикассо, Морикан что-нибудь сделают для меня!»
16 марта 1944 года посольство Германии дало знать, что просьба защитников Макса Жакоба удовлетворена. Неоднократно писали о том, что все в посольстве знали, каково было положение дел, когда гестапо отдало приказ освободить поэта. Они освобождали мертвеца.
Макс Жакоб угас накануне. Врачу, который лечил его, он пробормотал: «У вас лицо ангела».
Это были его последние слова. «Я с болью думаю, что иногда поэтов убивают, чтоб их цитировать потом…»[142]142
Евгений Евтушенко.
[Закрыть]
* * *
По сравнению с тем, что пришлось вынести женщинам, одобрившим политику коллаборационизма, или тем, кто из-за шашней с немцами в глазах народа заслуживал публичного наказания, пережитый Габриэль кошмар был недолог.
Примерно две недели спустя после того, как генерал де Голль спустился по Елисейским полям под приветственные крики толпы, состоявшей из представителей всех классов общества, что вызвало негодование со стороны тех, кто сожалел о немецком порядке, и всех тех, кто, столкнувшись с этим разгулом страстей, почувствовал себя лишенным чего-то, они не знали точно, чего именно – разве де Голль-эмигрант, де Голль-диссидент не доведет их до беспредельного страха, позвав в правительство Мориса Тореза, коммуниста, о ужас, коммуниста, нет, вы можете себе представить? – Габриэль Шанель была задержана.
Ее охватывала настоящая ярость, когда она вспоминала тот день, когда двое молодых людей осмелились проникнуть к ней в «Ритц» в восемь часов утра. Они явились прямо к ней в комнату и там, без всяких деликатностей, потребовали, чтобы она следовала за ними по приказу Комитета. Простите, какого Комитета? По чистке.
Можно понять, почему впоследствии она с таким остервенением проклинала этих «фифишек», этих «участников Сопротивления», когда послушаешь, как редкие свидетели этой сцены описывали, как Шанель, на глазах персонала, в полной растерянности, но пересилив страх, вышла из гостиницы под конвоем двух молодых людей в рубашечках, одетых в уродливейшие сандалии, двух головорезов с револьверами за поясом, в общем, двух животных, двух приспешников революции.
Самое ужасное было в том, что они тыкали швейцару.
Через несколько часов Габриэль вернулась и сказала тем из окружающих, кого незваные гости оскорбили своим чудовищным поведением, что ее арестовали по ошибке и что следует остерегаться подобных людей и не доверять им. Хороша же эта народная армия! Франция оказалась в руках безумцев, больных. Впрочем, она собиралась покинуть родину. Уехать? С нее были сняты все подозрения. Кто ее спас? Кому, чему она была обязана безнаказанностью?
Если Комитет по чистке задержал ее так ненадолго, значит, Габриэль имела при себе (в ожидании того, что непременно должно с ней случиться) нечто, обезоружившее ее судей. Ибо сразу после Освобождения было невозможно ни хитрить, ни дурачить следователей всякими байками. Только очень высокое покровительство вернуло Габриэль свободу, которую другие потеряли, запятнав себя меньше, чем она.
Ясно, что ее спас приказ, не подлежавший обсуждению.
Чей приказ? Никаких следов, ничего, что позволило бы хоть с минимальной уверенностью ответить на этот вопрос.
Вскоре после этого события, в то время как другие солдаты, на сей раз «джи-ай», толпились в магазине Шанель, чтобы раздобыть «№ 5», качество которых несколько месяцев назад испробовали немцы, Габриэль, обладая свободой передвижения и, насколько известно, без всяких трудностей, быстро добралась до Швейцарии. Меньше чем два года спустя она с не менее поразительной легкостью получила разрешение поехать в США, где провела короткое время. Все визовые запросы на въезд в Соединенные Штаты подвергались строгому контролю еще в течение пяти лет после окончания боевых действий. Но тогда как других подолгу допрашивали и они вынуждены были ждать и доказывать свою лояльность, для Габриэль пересечь американскую границу в 1947 году было так же легко, как уехать в Швейцарию в то время, как европейские нации медленно возвращались к мирной жизни. Приходится констатировать тот факт, что в обстановке только что обретенного мира правосудие уже не было одинаковым для всех.
VI
Об истине, подмеченной в сумятице встреч
Истина трудна, порою она приводит в отчаяние. Она всегда находится не там, где ее ищут. Люди, единодушно считающиеся информированными, вспоминая, сообщают только никому не нужные анекдоты. И загадка остается полной, и то, что вы ищете, не дается вам в руки. Истина – это черная яма, в которую вы проваливаетесь, каракули, которым на первый взгляд придаете не больше внимания, чем простой оплошности пера, оплошности письма или рассказа, скобке, которую ваша, часто назойливая, собеседница вдруг открывает в тот момент, когда вы ее уже больше не слушаете.
Порою вы верите, что успех вам принесет работа историка, аналитика, хроникера; вы анализируете, классифицируете, разбираете невидимые колесики, испытывая безумную надежду, что из пыли досье возникнет то, что утекает у вас между пальцев. Богатыми на сведения оказываются архивы, казавшиеся вам прискорбно бедными, и делаете вы это открытие в тот самый момент, когда возникает уверенность, что в них нет того, что вы надеялись там найти. Ибо верно, что богатство – слово, не для всех имеющее одинаковый смысл, и тем лучше, если одни могут кричать: «Какие сокровища!», тогда как другие думают: «Какая чепуха!»
Что такого сказала госпожа Дени, вдова садовника[143]143
О г-же Дени уже шла речь в начале главы «Славянские годы». Она ушла на пенсию и жила в Гарше.
[Закрыть], в маленькой гостиной домика на улице Альфонса де Невиля в Гарше, что такого она сказала, отчего незначительность ее сразу исчезла?
По видимости, ее свидетельство имело ценность совершенно ничтожную, и его несерьезность прекрасно передавала атмосферу «Бель Респиро», дома с черными ставнями, где жила Габриэль. И вот, не сумев рассказать ни о расположении комнат в доме, ни об обстановке, ни о многоликом саде, вдруг эта свидетельница двадцатых годов начала излагать факты, находившиеся, скорее, в области предположений, стала говорить о вещах, слышать о которых не хотелось, потому что, по размышлении, нескромность часто бывает неприличной, и вы сердитесь на того, кто посвятил вас в чужую тайну. В театре – совсем другое дело, и иные запутанные истории, разъясняющиеся поздно ночью, в тени деревьев, могут и растрогать… Но для этого нужна «Женитьба», нужен Моцарт, не все рассказчики – аббаты Да Понте, точно так же, как Анри Бернстайн не был Керубино, словом, с трудом можно себе представить, чтобы вдова садовника принялась петь: «Ratto, ratto il birbone e fuggito», она, англичанка, да и голоса у нее для этого не было.
Она дала понять, что Габриэль и Анри Бернстайн, сады которых, как помнит читатель, прилегали друг к другу, якобы каждый вечер встречались, пользуясь тайной тропинкой, которую ее муж-садовник сразу же окрестил «тропинкой влюбленных». Подобные рассказы как раз и составляют тот тип анекдотов, на которые, с вашего позволения, нам на… Ибо, с одной стороны, рассказ о любовных похождениях Анри Бернстайна – столь же утомительное занятие, как подробное изучение телефонной книги, а с другой – непонятно, почему эти двое, коль скоро им пришла в голову фантазия стать любовниками, должны были встречаться под открытым небом, и, наконец, самое главное – Габриэль никогда не сказала о Бернстайне худого слова, что заставляет предположить, что она никогда не была его любовницей. Ибо она испытывала смертельную ненависть к своим случайным любовникам, мужчинам, которым она некогда уступила, уступила, чтобы забыться, чтобы прогнать воспоминание о Бое, уступила тогда, когда бросилась в любовь, как другие бросаются в реку.
Но вот, как бы это сказать, вот в рассказе вдовы садовника освещение вдруг так внезапно изменилось, что можно было подумать, будто случилась поломка или рабочий сцены ошибся. Ибо из рассказа исчезли черные ставни и даже сама Габриэль. А Стравинский, куда девался Стравинский? И почему фортепьяно внезапно замолчало? Тем не менее было слышно, как играли арии Перголезе и «Весну», черт побери, и «Весну»! Но больше ни звука, и что же такое она рассказывала, эта женщина? Она говорила: «Прошли десятки лет». Внезапно какая-то трагедия заставила умолкнуть милую, грустную, фривольную музыку, звучавшую здесь. О чем шла речь? О прибытии штаба. В Гарш? Да, в Гарш. Ничего удивительного. Немцы стояли там четыре года, но на сей раз это были британцы. Какая сумятица! Обладатели богатых коттеджей и красивых вилл едва успели осознать, что с ними случилось, как одна реквизиция сменила другую. И в Гарше заговорили только по-английски.
Как это происходит в армиях всего мира, красивые комнаты с выступающими окнами, со стенами, затянутыми тканями в крупные цветочные букеты, были распределены между высокими чинами, тогда как службы… Что же делать, офицеры, занимающиеся расквартированием, будь они немцы или англичане, – одинаковы. Поэтому кашевары, шоферы, секретари, телефонисты поделили между собой то, что осталось. Домиков и особнячков с садом в Гарше хватало. Там, где когда-то жила прислуга Габриэль, разместились службы британского штаба. Они устроились прекрасно. Но из-за этого в квартале произошла большая суматоха. Вернется ли когда-нибудь к улицам Гарша изысканность начала века? Что же поделать? Уже давным-давно там не встречались открытые спортивные автомобили или кабриолеты с откидным верхом, ни «изотты фраскини», ни «делоне-бельвили» на улицах Эдуара Детая и Альфонса де Невиля, и молодой человек, поселившийся неподалеку от вдовы садовника, хоть и был шофером штаба, ездил, как и все, на джипе.
Он был слишком занят, чтобы интересоваться красивым предместьем, где стоял на постое, но все же он был счастлив, что его соседкой оказалась англичанка, с которой можно было поболтать.
И вот однажды он услышал, как она рассказывала что-то об одной модельерше, знаменитой женщине, которая долго жила в последнем доме слева, когда спускаешься, в доме с черными ставнями и большим кедром… И солдат спросил – возможно, из вежливости, потому что, в сущности, ему было на это наплевать, – чем была знаменита дама и как ее звали. «Как вы сказали?» Он заставил ее повторить имя дважды, ибо странно, но оно что-то ему говорило.
Он услышал это имя накануне, сначала от своего капитана, потом от полковника. Наконец, в тот день об этом же в полном смятении говорили в штабной офицерской столовой. Имя застряло у него в памяти: ША-НЕЛЬ, ША-НЕЛЬ. Одному офицеру было поручено искать ее повсюду, эту Шанель, даже немножко жалко, что она больше не жила на улице Альфонса де Невиля. Было бы гораздо легче ее найти. Вот закавыка… Невозможно ее отыскать. В ее торговом доме служащие вели себя так, словно она исчезла навсегда. В гостинице напротив – та же картина. В конце концов ее откопали в какой-то гостинице в окрестностях Парижа, потому что, если верить парням из службы связи, в Лондоне начали чертовски терять терпение. Как это в Лондоне, спросила вдова садовника. Молодой человек подтвердил, что о Шанель беспокоились именно в Лондоне и что, чутье подсказывает ему, звонил, должно быть, один из секретарей Old Man, да, мадам, один из секретарей самого Старика!
Надо признать, что пенсионерка из Гарша довольно плохо поняла объяснения своего молодого соотечественника, ибо созналась, что не знает, кого он называет Стариком. Кто это? Шофер воскликнул, что никогда в жизни еще не слыхал столь комичного вопроса. И тут же от души расхохотался, потому что Старик, Боже правый, как вы думаете, кто это? Да Черчилль, черт побери!
Так, вопреки всякой вероятности, благодаря болтливости или случайности, если хотите, в ночи слов появилась крупица истины, касающаяся личности того, кто, возможно, спас Габриэль после Освобождения. Но утверждать не беремся, ибо было бы безумием принимать все это за достоверный факт.
Первый эпилог
(1945–1952)
Такова мирная Франция, и она истребит всякого, кто придет нарушить покой ее портных, ее философов и ее кухонь.
Жироду. Зигфрид и Лимузен
I
Вне бытия
Мне скажут, что Швейцария никогда не считалась ссылкой, тем более что в Лозанне говорили по-французски. Тем не менее в эпоху, о которой идет речь, именно так и было.
Жить в роскошных гостиницах в Уши или Женеве, переезжать с одного зимнего курорта на другой, скитаться из гостиницы в гостиницу… Габриэль жила как эмигрантка, и ее короткие наезды во Францию, свобода, которой она пользовалась, чтобы провести летом несколько недель в «Ла Пауза», ничего не меняли.
Осторожность заставила ее уехать. Она поступила как крестьянка, знающая, что такое «зарыться». Она оставила родину, работу, ее прошлое было далеко, далеко позади, и кто скажет, что это не ссылка? Разве не ссылка постоянные страдания и совершенно невыносимая праздность? О царивших смятении и беспорядке свидетельствует и такой факт: кого только не принимала Швейцария в эти печальные годы, став прибежищем для толпы беженцев, к которым относились с таким уважением во времена их могущества, – крупных нацистских, фашистских, петеновских чиновников, объявленных нежелательными персонами в своих странах, подвергавшихся постоянным административным придиркам – хорошо еще, если их не просили убраться, потому что о гельветском гостеприимстве можно было много чего сказать. И мне снова повторят, что это тесное соседство виновных мужчин и женщин, преступников в глазах остальной Европы, эти приводящие в отчаяние встречи не были ссылкой?
По правде говоря, Габриэль не только укрылась в безопасном месте, но прежде всего отправилась к фон Д. Не исключено, что в этом была главная причина ее отъезда, кто знает? Возможно, она решила жить в Швейцарии в основном ради того, чтобы быть с ним. Ибо ее любовник покинул Францию. Он пересек границу, сменив одну страну на другую с такой же легкостью, как меняют рубашки, причем сделал это заранее, чтобы ничем не рисковать. И хотя трудно удержаться, чтобы не найти такое поведение странным, на самом деле вопрос о том, чтобы поступить иначе, даже и не стоял. Состояние Габриэль находилось в Швейцарии. Именно там в течение всей войны собиралась прибыль от продажи ее духов за границей. Можно ли себе представить, чтобы Шпатц отправился не туда, где были деньги?
Его и Габриэль постоянно видели вместе, и часто их считали мужем и женой. Он еще прекрасно сохранился, тогда как она… Любопытно, но в то время – ей было тогда шестьдесят четыре года – она выглядела старше, чем десять лет спустя. Быть может, праздность подтачивала ее. И потом, по некоторым признакам можно было заключить, что не все между ними шло гладко. Одни утверждают, что он поколачивал ее, другие – что она его, третьи – что они дрались между собой. А когда знаешь, на какое буйство он был способен… Одному приятелю фон Д. дал понять, что она думала только о том, как женить его на себе. Видите, каким он был джентльменом. Но это не мешало тому, что вообще-то они были пленниками друг друга. Она его держала деньгами, он ее – молчанием. Как бы он разбогател, если бы позволил себе заговорить?..
Тем не менее точно так же, как с высоко поднятой головой она последовала за «ужасным хулиганьем» из Комитета по чистке, так и теперь, несмотря на общее смятение и не удовлетворявшие ее любовные отношения, Габриэль продолжала шагать, не сгибаясь.
Правда, ее занимала борьба, начатая в 1945 году против «Духов Шанель» и Пьера Вертаймера. Победа, одержанная ею, как мы помним, в 1947 году, оставила ее трагически бездеятельной. Она была богата, у нее были миллионы, но душа…
Кроме того, к неотвратимой угрозе, висевшей над ней, добавилась страшная череда печальных событий.
После окончательного падения и безоговорочной капитуляции немецких армий следовало признать очевидную истину; Шелленберг так просто не даст забыть о себе. Габриэль продолжала жить под постоянной угрозой, что об операции «Шляпа» станет известно.
Приближался окончательный крах, и обергруппенфюрер из АМТ VI вел последние переговоры в Швеции с графом Бернадоттом. Именно там к нему пришло известие о капитуляции. Оценил ли он свою удачу? В то время как в Германии его шеф Гиммлер (с которым он расстался пять дней назад) покончил с собой, он, Шелленберг, принял покровительство графа Бернадотта и, по совету последнего, воспользовался предоставленной ему короткой передышкой, чтобы составить меморандум, где он перечислял по пунктам демарши и попытки, предпринятые им, чтобы путем переговоров добиться от союзников мира.
В июне 1945 года потребовали его выдачи, и Шелленберг должен был очутиться на скамье подсудимых вместе с близкими соратниками Гитлера, объявленными военными преступниками, перед военным трибуналом в Нюрнберге. Но его оставили гнить в тюрьме, и было невозможно сказать, когда начнется его процесс.
Так прошло три года, в течение которых Габриэль едва ли могла обрести покой.
В 1947 году, словно беды не хотели дать возможность Габриэль перевести дыхание, умер Хосе Мария Серт. Когда-то он взял ее за руку, вырвал из мрака ночи и, как потерявшегося ребенка, привез в Венецию. В своей профессии он был всего лишь пережитком. Не унаследовав в отличие от герцога Вестминстерского колоссальных дворцов, он неустанно мечтал о них, изображал их на потолках, которые расписывал, а большие занавесы театров, где он работал, открывались на бесконечные перспективы, на мир роскошных сновидений и беспорядочных миражей. Он был своего рода монстром, к тому же фатоватым, что раздражало, но разве запрещено любить монстров? Разведясь с Мисей, он снова на ней женился. Габриэль знала, что смерть Серта сломит Мисю, и предчувствовала, что уже ничто не удержит подругу от смертельного упоения опиумом.
Но это было не все… Умерла Вера.
Почему, спрашивала себя Габриэль, 1947 год стал таким? В Риме, в Париже только и делали, что разрывали ее сердце. Вера, красавица Вера двадцатых годов, едва вернувшись из Мадрида и наконец снова став римлянкой, умерла. Даже если предположить, что, как только Габриэль узнала эту новость, она подумала: «Одним свидетелем меньше!», вполне вероятно, что она испытала печальный зов того, чему помешать невозможно: воспоминание, как повторяющийся и бесконечно придумываемый сон, воспоминание, как представление без прикрас о существе, которое перестал любить.
12 февраля 1947 года в Париже, под гром аплодисментов, родился новый облик. Появился новый тип женщины, в платье, доходившем до щиколоток, а на небо моды взошла новая звезда – Кристиан Диор. За дебютантом, осмелившимся бросить вызов Соединенным Штатам и запустить модели, которые невозможно было скопировать индустриальным методом – такого умения требовал крой, – стоял финансировавший его промышленник, большой умница, «текстилец», как сказал бы майор Момм, – Марсель Буссак. Он предоставил в распоряжение дебютанта, в которого верил он один, капитал в семьсот миллионов, и это было только начало.
Американская пресса вынуждена была признать, что уже давно не видела такой красоты.
Намерение американцев, неоднократно выражавшееся ими с цинизмом и отсутствием элементарных приличий, подчинить своей власти западную промышленность, наводнив Европу платьями, изготовленными в Соединенных Штатах, превратилось в мечту, от которой теперь пришлось отказаться. Нарушив все прогнозы, поступив вопреки здравому смыслу, выбрав решение противоположное тому, которое можно ждать от страны побежденной, измученной годами лишений, Кристиан Диор вернул Франции лидерство, потерянное как в области моды, так и текстиля.
Ответный удар американцев не заставил себя ждать. Если бы рассказать, что замышлялось уже тогда… Если бы рассказать о том, как похищали идеи, организовывали почти неприкрытую торговлю моделями, как крали эскизы и фотографии, якобы предназначавшиеся для рекламы и репортажей на актуальные темы, если рассказать о промышленном шпионаже, осуществлявшемся во всех формах… Ах, если бы рассказать! Но здесь этому не место, и мы только хотели показать, что слава Шанель постепенно начала тускнеть. Ибо по мере того, как изменялась индустрия моды и известность Диора приобретала международный характер, все больше забывалось, чем было царствование Габриэль Шанель. Что она могла с этим поделать? Парижская мода, во главе которой до сих пор стояли женщины (Жанна Ланвен, Скьяпарелли, Мадлена Вьонне), внезапно перешла в руки мужчин (Баленсьяга, Пиге, Фат, Роша). Конец был неотвратим, и Габриэль видела, что вокруг нее неумолимо образуется мертвое пространство.
Но в то же время, может быть, просто по привычке, в ней крепла уверенность, что то, что создавало престиж и привлекательность нового избранника, было на самом деле только возвращением вспять и что модницы, которых одевал Диор, вскоре почувствуют яростное желание забросить подальше корсеты, открытые лифчики, тяжелые юбки на чехлах, ленты и кружева. К чему вмешиваться в рискованное предприятие, которое ее не касалось да и не могло касаться? Ее роль была не в том, чтобы снова вернуть женщинам корсет, который она отняла у них тридцать лет назад, а в том, чтобы одевать их в соответствии со временем.
Она сгорала от нетерпения сказать это, повторить. Но даже если бы она сделала подобную попытку, ее тогдашнее положение помешало бы этому. Лучше было молчать.
Ее молчание, ее отсутствие, ее пребывание вне профессии, начавшись в 1939 году, будет длиться еще около десяти лет.
* * *
Нет ничего более изматывающего, чем угроза со стороны призраков. Появятся? Не появятся? Примерно так ждала Габриэль процесса над Шелленбергом. Она, конечно, хотела его оправдания из симпатии к нему, но главным образом из-за тех последствий, которые подобное решение имело бы для нее. Если бы Шелленберга оправдали в Нюрнберге, разве могла бы Габриэль оказаться виновной?
Среди двадцати одного обвиняемого на Нюрнбергском процессе семь военных преступников отделались тюремным заключением (пожизненное заключение для Гесса, Редера и Функа, двадцать лет – для Шпеера и Шираха, пятнадцать – для Нейрата, десять – для адмирала Деница), остальные были приговорены к смертной казни. За исключением Геринга, которому удалось достать ампулу с ядом, Франк, Фрик, Йодль, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Штрейхер, Зейсс-Инкварт и Заукель взошли на эшафот, когда Шелленберг предстал перед судом. Его процесс длился пятнадцать месяцев. Приговор был вынесен в апреле 1949 года, и Шелленбергу было определено самое легкое наказание – шесть лет тюрьмы.
Начиная с этого времени ему было разрешено получать письма и посылки от друзей. Первым дал о себе знать Теодор Момм. Он прислал Шелленбергу книгу Альфреда Фабра-Люса «Век принимает форму», а также книгу, которую граф Бернадотт посвятил перипетиям прекращения военных действий, и можно себе представить, с каким интересом заключенный прочел ее. Без советов и покровительства Бернадотта как бы Шелленберг спасся? Но по всей очевидности, в посылке конфидента Габриэль было что-то такое, к чему Шелленберг оказался еще более чувствителен.
11 апреля 1950 года Момм получил из медицинской части нюрнбергской тюрьмы благодарственное письмо Шелленберга, отправленное тюремной медсестрой Хильдой Пухта. Вот что говорилось в письме:








