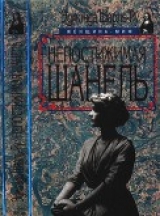
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
Она скрывала свои чувства. Ее видели у графа Этьенна де Бомона, на весеннем балу. В то лето в «Ла Пауза» видели, как она в серых фланелевых брюках лазает по деревьям, гибкая, словно кошка. В следующем году вместе с Мисей, Дали и Ориком она праздновала возрождение «Русских балетов» с несравненной Даниловой. Это было в Монте-Карло[130]130
Воспользовавшись покровительством княжества, Рене Блюм основал в 1937 году балетную труппу, звезды которой были воспитаны в русской школе и которой было разрешено носить имя «Балет Монте-Карло».
[Закрыть]. Видели, как она входила в «Отель де Пари» под руку с великим князем Дмитрием Павловичем. В Париже, по-прежнему вместе с Мисей, они присутствовали на открытии «Атенея», и Жуве встретил их с распростертыми объятьями, а Стравинский, с которым было проведено не одно лето в «Бель Респиро», сидел рядом с Габриэль с растроганным видом.
Это было краткое возвращение к «славянским годам», просто так, из грусти… Но шляпа, которую она носила, была некрасива. И Габриэль улыбалась и улыбалась своим друзьям и фотографам, словно обеими руками прижимая маску к лицу.
Какая тоска! Вдохновение покинуло ее. Удача, быть может, тоже. Она пошла к гадалке. Та посоветовала ей «работать». В этом для нее не было ничего нового. Но поскольку она легко пленялась мужской красотой, то когда один неизвестный молодой актер попросил ее сделать костюмы для пьесы, о которой Кокто… Вы помните, «Царь Эдип»… Она согласилась. Правда, кажется почти невероятным, что костюмы сделаны ею, так уродливы ленты, делавшие из актеров, в зависимости от того, были они высокими и белокожими или розовощекими и круглыми, то тяжелораненых, то спеленутых младенцев. Надо было быть красивым, словно молодой бог, чтобы носить такой костюм, надо было быть Жаном Марэ. Но кроме него… Фригийские колпаки походили на носки, на леди Эбди вместо ожерелий висели в два ряда катушки с нитками, все это было настолько удручающе… Пресса, как и публика, не преминула высказать свое мнение.
21 сентября 1938 года западные державы бросили Чехословакию на произвол судьбы. В Праге, во дворце Градчаны, Бенеша разбудили в два часа утра. Правительства Лондона и Парижа информировали его о своем предательстве, и преемник Масарика не удержался от рыданий. Чехи остались одни. В тихом квартале Бубенеч генерал Фоше, глава французской военной миссии, разорвал свой французский паспорт и вступил в чешскую армию. В Лондоне утренние газеты опубликовали заявление, сделанное Черчиллем накануне, в полночь: «Раздел Чехословакии под давлением Англии и Франции равнозначен полной капитуляции западных демократий перед нацистской силой. Подобное отступление не принесет мира и безопасности ни Англии, ни Франции». «Смотри-ка! Опять старик Уинстон!» – как сказала бы Шанель. Она говорила также: «Он похож на пузатых кукол-неваляшек. Чем больше их стараются повалить, тем быстрее они вскакивают». И поскольку она тоже была способна на удивительные приливы энергии, несмотря на все то, что копилось в ней, Габриэль еще сумела блеснуть мастерством. В частности, длинные платья принесли ей огромный успех. Летние платья 1939 года, в цыганском стиле. Самое любопытное было в том, что платье, вызвавшее наибольшее восхищение, отличалось совсем иной, нежели у цыганок, цветовой гаммой. Какое-то воспоминание? Это была ее тайна… Но вне всякого сомнения, эти платья были трехцветными. Всего несколько мазков, чуточку синего в юбке, красного в корсаже, словно незаметный намек на дорогие Ирибу цвета и на такие близкие времена, когда Габриэль позировала для «Темуена».
Таковы были платья в ту последнюю весну, когда еще танцевали.
Еще несколько недель грубых отказов, снесенных оскорблений, криков, истерических речей, брани, и внезапно, в одно сентябрьское воскресенье, началась война. «Странная война», пусть, но никто больше не мог сомневаться в том, что это была война.
В обстановке смятения и изумления, в то время как миллионы французов подчинялись приказу о всеобщей мобилизации, решение, принятое Габриэль, вызвало осуждение со стороны ее коллег, порицание ей вынесли без обиняков. Шанель объявила о закрытии Дома моделей. Она уволила без предупреждения всех работниц. Только магазин оставался открытым. В этом усмотрели месть, которую она вынашивала с 1936 года.
IV
Притвориться мертвой
Поведение Шанель в кругах моды, где всегда выражаются с преувеличением, назвали предательством, дезертирством. Так ли это? Посмотрим… Прежде надо задаться вопросом, могла ли она считать себя связанной обязательствами по отношению к работницам, которые всего три года назад… Пренебречь этой обязанностью и значило дезертировать? А хоть бы и дезертировать… почему бы нет, в конце концов? Все и вся бросили ее. Теперь пришел ее черед уйти. И если это называется дезертирством, что ж, пусть! Ей от этого ни горячо, ни холодно.
Ее позорили, смешивали с грязью. Профсоюзная палата предприняла демарш. Участники переговоров получили приказ растрогать ее: пусть она откажется от закрытия Дома, они ее умоляют. Если она не хочет пойти навстречу работницам, пусть подумает о своей клиентуре. Клиентура времен войны? Однажды она уже прошла через это и не хочет начинать сначала. Для ее отказа была причина: тогда у нее был Бой, теперь она осталась одна, но этого она не могла им объяснить. Все, что она нашла им сказать, было «пф», произнесенное с бесконечным презрением. Они настаивали. Но эта клиентура была ей больше не нужна. Тогда переговоры пошли по другому пути. Быть может, если ей польстить…
Ее стали убеждать, что она должна остаться ради престижа Парижа. Будут торжественные вечера, показы мод, будет организовано столько всяких мероприятий в пользу сражающихся. Какой же смысл будут иметь вечера без Шанель? Она ответила, что уже участвовала в подобных увеселениях в Довиле, двадцать пять лет назад, и такими трюками ее больше не заманишь. Она не ограничилась этим и с ледяной иронией добавила, что на сей раз что-то говорит ей, что они поставят себя в нелепое положение. «Парижская мода на службе у солдатиков? Спасибо, без меня». Озадаченные, ее собеседники попытались соблазнить Шанель работой. Заказы? Они у нее наверняка будут, сказали ей. Например, одежда для боевой тревоги… Она уже занималась этим в 1916 году. Если женщинам нужно, пусть обратятся к своим матерям. «Мамаши наверняка вспомнят! И потом, для этого не нужна Шанель». Тогда ей привели в пример Пуаре: поступить так, как он во время той войны, пожертвовать собой, создать новую форму для офицеров и медсестер. Ничего хуже и придумать было нельзя. «Мне! – воскликнула она. – Вы шутите! Мне! Одевать этих женщин! Ну уж, спасибо. Уже в 1914 году мне от них было тошно. Совершенные неумехи… Я уверена, что из-за них умерло немало парнишек, которые без их ухода были бы сегодня живы и счастливы». Пусть ее оставят в покое. Война – дело мужское. Подобные предложения были хороши для такого пузана, как Пуаре, Такое дело как раз для него. «Он ведь не умер, насколько мне известно?» Чудно. Так пусть ему позвонят! Такому мегаломану, как он, только и заниматься тем, что заново экипировать французскую армию с головы до ног. Что до нее, решение ее окончательное, она все бросает и закрывает, что бы ни случилось. Она повторила: «Что бы ни случилось», к тому же никто не заставит ее работать против ее желания, нет, никто.
Кабатчик из Нарбонны, не так ли? У него оказались последователи. Ибо то, что руководило Габриэль, пришло из далекого прошлого: это было севеннское упрямство, и вдруг предупреждавшее ее «что-то» отзывалось крестьянской магией, заставлявшей хлебороба поднять нос к небу раньше, чем упадет первая капля дождя.
Габриэль же была уверена: в ближайшем будущем места платьям не будет.
* * *
Тем не менее был человек, одобрявший ее поведение.
Когда Габриэль говорила: «Это время не для платьев», Реверди разделял ее мнение. Конечно, к одинаковому выводу они пришли по совершенно разным соображениям, но что за беда… По мере того как она чувствовала нараставшую вокруг себя враждебность, ее все-таки утешало то, что в своем солемском уединении Реверди думал, как она. Он тоже говорил, что единственное, что нужно делать в подобных обстоятельствах, – это забиться в нору.
Кстати, год спустя, когда немцы захватили Францию и проходили через Солем, некоторые из них оказались в садике Реверди, в его саду кюре, и украли там помидоры, а потом вошли и в его дом. Что он тогда сделал? Он решил, что ему больше невозможно жить в этом доме. Как поступить? Больше не видеть немцев, никогда их не видеть, а значит, не видеть того, что увидели они. Место, где он работал? Его дом? Он поспешно все продал и устроился в амбаре, велев замуровать окна, выходившие на улицу. А сад? Там он рисковал их увидеть. Тогда он решил поднять стены повыше. Время было такое, что нельзя было ни видеть, ни быть увиденным.
Когда вспоминали этот эпизод из жизни Реверди, Габриэль коротко говорила: «Мы похожи». В каком-то смысле это было верно.
Когда Реверди приехал в Париж в первые месяцы оккупации, встретив Жоржа Эрмана, он воскликнул: «Как? Немцы здесь, и вы можете писать?»
Дом Шанель был закрыт, и Габриэль стала невидима.
Где она была? Где скрывалась? Она жила в гостинице «Паломник», в маленькой деревушке в Нижних Пиренеях. В Корбере… Туда бежала семья ее племянника.
Реверди долго не придется ее увидеть.
* * *
Габриэль шла все дальше в своем желании разорвать все узы. Иногда в моменты слабости тоска берет верх над разумом. Известен случай львицы из Чада, которая, едва попав в неволю, принялась пожирать собственные лапы. Почти то же самое сделала и Габриэль, разорвав последние родственные узы. Судьба распорядилась так, что жизнь ее стала пустыней, что человек, которого она любила, был вырван у нее смертью? Что ж, посмотрим! Пустыня так пустыня, она не останется у судьбы в долгу. У нее не было больше любовника, две сестры ее умерли, ей оставался только сын Жюлии. Это был вежливый юноша, его не стыдно было показать, она следила еще со времен Боя за его образованием. Его она не бросит. Что касается братьев, она порвет с ними по собственной воле.
Резкое письмо, написанное Люсьену, может объясняться только желанием больше не быть никем ни для кого. Причем в данном случае вновь ее происхождение сыграло свою роль: хотя она была колоссально богата, ее охватил «страх нехватки», извечное опасение, старое, как крестьянство. Порвать с братьями – это был верный способ «сэкономить».
Из письма, полученного Люсьеном в октябре 1939 года, можно было предположить все, что угодно: крах, полное разорение…
«Мне очень неприятно сообщать тебе эту весьма грустную новость. Но мой Дом моделей закрыт, и я сама почти в нищете… Ты не можешь больше рассчитывать на меня до тех пор, пока обстоятельства не переменятся».
На письме стоит адрес: 160, бульвар Мальзерба. Это была квартира, уступленная ей Бальсаном, ее первое ателье, которое она сохранила за собой. Именно этот адрес указан на переводах, посылавшихся ей братьям. Итак, она перестала посылать ему денежное содержание. Люсьена это глубоко опечалило. Теперь поздно было сожалеть о брошенной торговле, о покинутых ярмарках, об отказе встать во главе торгового дела, и все ради того, чтобы подчиниться Габриэль. Да, поздно. Бедный Люсьен! Ему лучше было бы послушаться жены и продолжать работать, нравилось это Габриэль или нет.
А теперь она в нищете… Все, что оставалось Люсьену, – это жить на сбережения… Вместо этого он написал Габриэль и предоставил свои деньги в ее распоряжение. Теперь была его очередь посылать ей переводы. Что она подумала? Была ли тронута? Она никогда больше не видела Люсьена. Он умер в марте 1941 года.
Зато Адриенна была рядом, по соседству с Клермоном, по-прежнему такая же «семейная», хотя и стала владелицей замка, и такая же добрая. Разве не приютила она несчастную балерину из театра «Монне», подружку красавца д’Эспу, ставшую вдовой до того, как он успел жениться на ней? Адриенна сделала ее своей компаньонкой. Она-то нисколько не стыдилась своего происхождения, мягкая и нежная Адриенна…
Замок, в котором она жила, стал местом, где проводили каникулы некоторые из ее родственников, и среди них Люсьен. Несомненно, Адриенна сказала ему, хотя бы для того, чтобы успокоить его страхи, что Габриэль не так уж разорена, как утверждает.
Альфонс в своей деревушке Вальрог тоже получил от Габриэль послание. Конец машинам, конец пенсии, конец путешествиям в Париж… У Габриэль не было больше ни гроша. Кстати, после отъезда из Предместья и разрыва с герцогом Вестминстерским ее свидания с Альфонсом стали реже. Но на сей раз речь шла о другом. Габриэль переставала быть для него последним прибежищем. Однако у Альфонса была иная натура, чем у Люсьена. «Габи, вот ты и на мели. Это должно было случиться», – написал ей он. Она вела слишком шикарный образ жизни. Альфонс располагал скромными средствами, но не станет же он из-за этого шибко волноваться. Он довольствовался тем, что управлял своим кафе. Он умер в феврале 1953 года, тоже так и не увидев больше сестру.
Десять, пятнадцать лет спустя в Вальроге случились несчастья, о которых известили Габриэль. Когда Иван, старший сын Альфонса, умер от легочной болезни, оставив нескольких сирот, Габриэль не отозвалась. Были свадьбы, рождения, счастливые события, все это много времени спустя после «возвращения» Габриэль. Но она по-прежнему не подавала признаков жизни.
Однажды дочери Альфонса, Габриэль и Антуанетта, приютившие детей Ивана, приехали в Париж. Они явились на улицу Камбон в тот день, когда в салоне было полно людей. Они ничего не просили. Они хотели только поздороваться с теткой и, может быть, посмотреть платья… Да, платья тети Габриэль…
Им ответили, что их тети нет, а что касается платьев, так на это нужно разрешение. Шанели из Вальрога приняли сказанное к сведению. Из вежливости они еще раз спросили, в какой день и час их тетя будет в Париже, и повторили, что им ничего от нее не нужно. Вернется ли она? Никто ничего не знал.
Униженные, они вернулись в Вальрог и решили никогда больше не приезжать к ней.
Итак, в конце 1939 года Габриэль решила для себя, что у нее больше нет родственников ни в Севеннах, ни в Оверни. Больше никого!
Немецкие годы
(1940–1945)
Пространство и время по-разному влияют на слово измена.
Юрий Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара
I
Фон Д.
Мужскую красоту можно понимать по-разному. Если судить по тому, что о нем говорят, красота, по всей видимости, имела в жизни фон Д. особое значение. Это признают те, кто его не любил или разлюбил, те, кто его боялся или презирал. Пусть читатель не подумает, что автор хоть в какой-то мере разделяет это презрение. Отметим только, что презирали фон Д. главным образом любовницы, которых он бросил. Было бы грешно сердиться на него за это, ибо такова сущность всех соблазнителей. Справедливо или нет, но их всегда кто-то презирает.
То, что внешность его была незаурядна, этого тоже никто не отрицает. Фон Д. остался в памяти человеком высокого роста, изящным и стройным. Здесь все свидетельства сходятся: он был высокий, очень высокий. Добавим – и легкий. Иначе как объяснить полученное им прозвище Шпатц, то есть «воробей»? Любопытно, что такой кличкой наградили верзилу, который к моменту нашего повествования был уже далеко не юношей. Другие добавляли: несерьезный, и читатель бы удивился, если бы узнал, от каких высокопоставленных лиц Германии исходит это весомое свидетельство. Но поскольку эти лица выразили желание, чтобы имена их не упоминались, мы вынуждены просто констатировать: фон Д. был не только легким, но и несерьезным человеком. Эти качества часто сопутствуют друг другу и ничуть не мешают успеху у женщин. Нам известна не одна, потратившая свою жизнь на ожидание фон Д.
Семья фон Д. была хорошего дворянского происхождения, но не более того. Мелкопоместные дворяне из Ганновера. Его отец женился на англичанке, более богатой и лучшего происхождения, чем он сам. Этот брак объясняет то, что Шпатц охотно кичился британскими предками, которым он был обязан некоторым космополитизмом, прекрасно ему подходившим. Не мог он пожаловаться и на отсутствие определенного образования. Он говорил на английском, французском и свободно писал на этих языках, если судить по нескольким образчикам его любовной переписки, когда он переходил с английского на французский и наоборот, в зависимости от того, какой язык лучше подходил для выражения его чувств: «Целую тебя как всегда и навсегда. Love. Твой Шпатц».
У фон Д. была масса возможностей применять это выражение. Дело в том, что он нравился. Нравился безумно, и в победах у него недостатка не было.
Боевое крещение он получил в 1914 году, на русском фронте, когда служил в королевском уланском полку. Вильгельм II был командиром этого полка, где было много выходцев из Ганновера и где служил также фон Д.-отец. В этом не было ничего удивительного. Мелкопоместным дворянам случалось воевать семьями, ибо полки, набирая офицеров, соблюдали старые многовековые традиции, которые трудно было изменить. Считалось очевидным, что истинное братство по оружию возможно только между земляками. Это было справедливо и в отношении браков. Можно было только порадоваться выбору, который Шпатц сделал примерно на двадцать пятом году жизни, женившись на Максимилиане, девице хорошего происхождения и отменного здоровья. Все было весьма пристойно. Только позже стало известно, что, к великому прискорбию, у упомянутой Максимилианы, помимо состояния и редких качеств, было еще и немного еврейской крови. На подобный недостаток нельзя было закрывать глаза. Поэтому бесполезно спрашивать, отчего брак их продлился недолго. Шпатц развелся в 1935 году. Не то чтобы он не испытывал к Максимилиане дружеских чувств, напротив. Но для того, кто обладал хоть какими-то амбициями, наконец, для того, кто хоть немного был немцем, было совершенно неудобно иметь супругу, которая, пусть чуточку, была еврейкой. И потом, даже если у него в стране и нашлись люди, посчитавшие этот развод редчайшей трусостью, можно также сказать, что, кем бы ни была Максимилиана, ей, бедняжке, приходилось несладко… Ибо по части супружеской неверности Шпатц был мастак.
Беда состояла в том, что наш молодой человек выказывал к работе гораздо меньше склонности, нежели к развлечениям. Кроме того, он имел обыкновение тратить много и порою больше, чем у него было. Важная деталь. Ибо все зло пошло отсюда. Но в то время в его кругу подобный образ жизни никого не шокировал. К бездеятельности и даже некоторому безразличию относились с большей терпимостью, чем теперь.
Первые поездки Шпатца во Францию приходятся на 1928 год. Фон Д.-турист часто пользовался «Голубым экспрессом». В таинственных купе, отделанных красным деревом, между маркетри Рене Пру и изделиями Лалика, он воспламенил не одно женское сердце. Правда, он был лестным спутником, и уж в способностях ему было не отказать!.. Его легко можно было представить среди пассажиров другого «Голубого экспресса», балета, поставленного Дягилевым несколько лет назад. Ибо Шпатц, немецкая версия Красавчика, со светлыми напомаженными волосами и прозрачными глазами, был, подобно пляжному Дон Жуану, так замечательно воплощенному Антоном Доулином, превосходным спортсменом.
В октябре 1933 года в Париж прибыл фон Д.-чиновник. Он поселился в квартире на Марсовом поле и занялся деятельностью, оставлявшей ему много свободного времени. Брак с Максимилианой еще не был расторгнут. Шпатц рекомендовался как атташе немецкого посольства, что ни у кого не вызывало сомнений. В глазах окружающих представительная аккуратная внешность, супруга хорошего происхождения, пост атташе, кабинет в посольстве – все это было чертами настоящего дипломата. И поскольку фон Д. не отрицал этого, ему устроили замечательный прием в приличном обществе. Можно было бы попытаться заметить, что год, когда в Германии к власти пришли нацисты, год, когда горел рейхстаг, а «Horst Wessel Lied» понемногу заменяла «Deutchland über Alles», был, возможно, не самым подходящим, чтобы открывать двери своего дома первому попавшемуся немцу. Но люди, более широко мыслящие, могут судить по-другому и скажут, что в подобных обстоятельствах нельзя предусмотреть все… А Шпатц так изумительно танцевал. Он был нарасхват.
Это, однако, не помешало тому, что нашлись другие люди, в других сферах, которые заинтересовались не столько тем, что делало его неотразимым, сколько истинными причинами его пребывания во Франции. Шпатц, едва обосновавшись в Париже, привлек внимание служб французской контрразведки. Это доказывает, что либо он был опасно неосторожен, либо замечательно неловок – качества, в его профессии равно чреватые неприятными последствиями.
До какой степени французские службы были информированы о характере подрывной деятельности Шпатца в Париже? Этого мы никогда не узнаем. Напротив, некоторые архивы Федеральной республики дают представление если не о размахе его миссии, то по крайней мере о ее инициаторе. Ганс Гюнтер фон Д., родившийся в Ганновере 15 декабря 1896 года, получил задание от министерства пропаганды рейха под прикрытием должности пресс-атташе. Его деятельность в Париже явилась предметом годового частного служебного контракта, который вступил в силу 17 октября 1933 года. Один из ближайших помощников Гитлера, создатель хроники третьего рейха, специалист по оболваниванию масс и устройству парадов с изобилием знамен, был хозяином Шпатца. Маленькому зловещему человечку понадобилось меньше десяти месяцев, чтобы запустить в действие машину нацистской пропаганды. Шпатц находился в подчинении у доктора Геббельса.
Призванный в Германию по истечении срока контракта, Шпатц почти сразу же вернулся обратно. Нет никаких доказательств, что его контракт был продлен. Напротив, все свидетельствует об обратном. Начиная с 1934 года фон Д. покончил с пропагандой. Он выбрал деятельность, в глазах латинских народов считающуюся недостойной, а в странах англосаксонских пользующуюся определенным уважением даже в высшем обществе, деятельность, в Лондоне называющуюся «Интеллидженс», а в Париже – шпионажем.
Начиная с этого времени тайна сгущается вокруг личности фон Д., который не фигурирует ни в одном из досье, где упоминания о нем рассчитывали найти специалисты, искушенные в современных методах архивных розысков, – известно, с какой холодной страстью немцы относятся к задачам подобного рода. Профессора, старавшиеся оказать нам помощь и пролить свет на то, что в нашей книге касалось Германии, вынуждены были констатировать, что дальнейшая карьера фон Д., по их собственному выражению, «молчание, стыд для историка и загадка»[131]131
Письмо автору профессора Эберхардта Йекеля из Штутгартского университета, чьи работы «Франция в гитлеровской Европе» и «Гитлер-идеолог» пользуются авторитетом.
[Закрыть], что в военных архивах невозможно найти следы его пребывания в армии, словно не существовало ни лейтенанта, ни улана под командованием покойного кайзера, что политические архивы обходят молчанием его деятельность во Франции, тогда как он должен был бы фигурировать там на почетном месте. Ибо не вызывает сомнений, что начиная с 1937 года, в добавление к другим легальным или подпольным обязанностям, фон Д. был в Париже тем, чем принц Макс-Эгон де Гогенлоэ Ланденбург – в Мадриде, а барон де Тюркхайм – в Лондоне, то есть одним из преданных деятелей национал-социализма. Наконец, «бывшие члены абвера», образующие тесную и дружную компанию и издающие свой бюллетень, где отмечены как самые незначительные их операции, так и выдающиеся подвиги, так вот, это почтенное общество клянется всеми святыми, что никогда упомянутый фон Д. не состоял в его членах, и у нас нет никаких оснований подвергать данное утверждение сомнению. Все это убедительно доказывает, каким отличным шпионом был наш герой. Ибо если он не оставил никаких следов своей деятельности ни в письменных источниках, ни в памяти немцев, это еще не является достаточным основанием для того, чтобы заключить, будто расследование французской контрразведки – сплошные выдумки. Если фон Д., как утверждают некоторые, находился в подчинении у некоего полковника Ваага, если сразу после окончания войны было принято постановление о его высылке (мера, не отмененная до сих пор), безусловно, это связано с тем, что в течение многих лет, прожитых во Франции, он не ограничивался тем, что изображал воробышка, поклевывая по зернышку в дамских сердцах.
Когда мы знаем, какой армией шпионов, осведомителей, двойных или тройных агентов, подручных, более или менее связанных присягой, располагало Главное имперское управление безопасности, когда известно, какая безжалостная борьба велась среди его руководителей начиная с 1942 года, тогда понятно, что никто, кроме самого фон Д., не сможет сказать, каким именно колесиком огромного механизма он был.
* * *
26 августа 1939 года, в девятнадцать часов, посол Франции в Берлине сделал последнюю попытку отговорить Гитлера от военных действий в Данциге. Несомненным фактом является то, что представителю Франции удалось вызвать у Гитлера несвойственные тому угрызения совести. «Ах, женщины и дети… Я часто думал о них», – прошептал он. Это поразительно отличалось от обычных сцен ярости, которыми до сих пор фюрер жаловал своих собеседников. Но колебался ли он? Во всяком случае, Гитлер тут же взял себя в руки.
Иоахим фон Риббентроп во время разговора неизменно сохранял «каменное выражение лица».
Пять дней спустя угрызения совести фюрера, если он вообще когда-нибудь их испытывал, превратились в одно из тех кратких мгновений истории, суть которых толковые послы умеют изложить в нескольких строках. «Возможно, я растрогал Гитлера. Но я не заставил его изменить мнение», – телеграфировал господин Кулондр.
В самом деле, его беседа с Гитлером была последним дипломатическим контактом между Францией и Германией.
31 августа была введена в действие директива № 1 о ведении войны. День наступления был намечен на 1 сентября 1939 года, на 4 часа 45 минут, все сверхсекретно, подписано – Адольф Гитлер.
И фон Д. получил от человека с «каменным лицом» приказ покинуть Париж.
Он отправился предупредить свою любовницу. Что касается личности женщины, занимавшей тогда определенное место в его жизни, мы вынуждены ограничиться одним только именем, слегка переделав его: Елена. Это опрометчивое создание, происходившее из очень древнего рода, – кстати, красавица – из-за слишком, быть может, утопических взглядов на любовь навлекло на себя массу неприятностей.
Прощаясь с нею, фон Д. заявил, что не согласится быть замешанным в кровавые события. Он был пацифистом? Поразительно, но можно ли было в этом усомниться? В этой войне, повторял Шпатц, он участия не примет. Та, которой он делал признания, и не подозревала о том, что для разведслужб было секретом Полишинеля. Она предложила ему свою помощь. Он хотел добраться до Швейцарии и остаться там. Не могла ли она направить его к надежным друзьям, которые согласились бы принять его? Она сделала то, о чем он ее просил, и фон Д. покинул Францию и отправился в страну, с которой у нас сохранились нормальные отношения.
Он оказался в нейтральной стране, имея в своем распоряжении почтовый ящик и адрес, куда без всякого труда доходила почта из Франции. Влюбленная женщина воспользовалась этой возможностью и злоупотребила ею. Все обошлось бы без последствий, если бы фон Д. не был предметом тщательного наблюдения. Прекрасная корреспондентка успела отправить и получить всего около десятка писем, как была арестована по обвинению в сношениях с врагом. Дело получило огласку. Оно посеяло смятение в окружении обвиняемой, связь которой сделалась всеобщим достоянием. Вмешались военные. В чтении чужих писем и интерпретации их смысла им не было равных. Что касается понимания, дело обстояло иначе. Как ни старались друзья помочь Елене, свидетельствуя о ее честности, пытаясь доказать, что то, что в этой переписке казалось темными местами, было всего лишь стыдливостью, а то, что казалось двусмысленностью, было изысканностью стиля, ничто не помогло. В каждом любовном слове обвинители находили тайный смысл, а в каждой помарке или ошибке, в волнении допускавшихся влюбленными, – очевидные доказательства предательства.
Мы не станем описывать тревогу и тоску этой женщины. Достаточно сказать, что она рисковала своей жизнью из любви к лжецу. Восемь месяцев спустя, после быстро выигранной войны, он вернулся победителем, несмотря на бдительность, проявленную нашими скрупулезными исследователями переписки.
Напротив, характер фон Д. прекрасно дополняет поступок, совершенный им, когда он узнал, что Елена содержится в заключении в свободной зоне. Он явился в замок, где жила мать его жертвы. Та не знала любовника дочери, не имела ни малейшего намерения знакомиться с ним и старалась держаться подальше от того, что принесло ей стыд и горе. Посетитель представился любезно, но не без высокомерия. Вдруг она поняла, с кем имеет дело. Он сразу же дал ей понять, что в состоянии освободить ее дочь, если… В общем, если дама ее положения согласится предоставить себя в его распоряжение, то он сможет привести это в качестве довода своим начальникам. Если она не откажется принимать их, устраивать представляющие для них интерес встречи, тогда, на этих условиях… В общем, что говорить, тогда ее дочь освободят гораздо быстрее. Мать ответила, что даже если на карту будет поставлена свобода дочери, даже если Елена должна погибнуть, не может быть и речи о том, чтобы удовлетворить желания посетителя. Ей нечего было больше добавить, и она не видела причин задерживать его долее.
Не вынося никакой оценки поступку фон Д. – вероятно, не он один явился его инициатором, вероятно, это был приказ сверху, – можно тем не менее заключить, что этого шпиона, как сказала бы маркиза де Севинье, «видно было за версту».
Свободная зона, как известно, была обманом, который продлился недолго. Как только иллюзии развеялись, Елена была выпущена на свободу. Свободна, она была свободна! Но Шпатц свободен не был. Он встретил Габриэль.
* * *
Во время идиллии с фон Д. Габриэль было пятьдесят шесть лет. Она была к тому же на тринадцать лет его старше, что, при всем ее очаровании, оставляло в ее красивых ручках не так много козырей. Но к чему говорить о возрасте? Никто не может быть судьей в любовных делах, и у Габриэль не было возраста, ибо что бы ни говорили, а Шпатц ее любил.
Попытаемся представить это удивительное любовное приключение в обстановке тогдашнего Парижа.
Габриэль недолго задержалась в Корбере. После нескольких недель, проведенных там, и короткой остановки в Виши она вернулась в Париж в последние дни августа 1940 года. Не в ее духе было долго изображать из себя беглянку, кроме того, арестовали сына Жюлии. На сей раз слабое здоровье юноши могло представить для него некоторую выгоду. Она хотела предпринять кое-какие шаги, чтобы добиться его освобождения.








