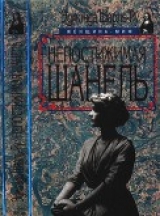
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
Итак, свадьба Антуанетты была последней возможностью для членов клана Руайо собраться всем вместе, в компании старых друзей. Всем из присутствующих мужчин, кроме Оскара, было известно, как бедно и скромно начинали барышни Шанель. Без сомнения, они испытывали большую радость от того, что могли в подобных обстоятельствах быть самими собой. Им не надо было ничего скрывать от красавцев-соблазнителей, которые на протяжении стольких лет окружали их нежной заботой, какое блаженство! Боже мой, эта свадьба… Адриенна, все более безмятежная и все более любимая, Бой и обожаемый Адриенны, оба во фраках, разодетые так, словно они собрались идти на скачки в день Большого приза. Выставляя напоказ новенькие военные кресты, они были свидетелями очаровательной Антуанетты, которую сестра прелестно одела. Как все это было мило! Давно они так от души не смеялись!.. И добрый Этьенн, по-прежнему великодушный, и Леон де Лаборд с мечтательными усами окружали Габриэль, старшую сестру, такую обольстительную, что сравниться с ней было невозможно. Она одолжила невесте свою машину – великолепный «Ролле», ее работницы видели, как она приезжала на нем каждое утро. Швеи подстерегали ее у окон ателье: «Берегись! Хозяйка едет!» Шофер в мягкой фуражке, пыльнике и гетрах открывал ей дверь, и она выходила с поистине королевской уверенностью. Но в тот день она явилась, покорная и послушная, под руку с Боем, что дало повод для бесконечных шуток и всевозможных кисло-сладких улыбочек. Ибо Бой показывался публично с Габриэль в тот самый момент, когда его молодая супруга, не покидавшая Лондона, ждала второго ребенка. Этот Бой все-таки, что за тип… Казалось, он был все более решительно настроен вести двойную жизнь.
Все участники свадьбы-сюрприза в Руайо, этого незабываемого маскарада, о котором они беспрестанно вспоминали, были здесь. У милой Жанны Лери был вид совершеннейшей комильфо. Идиллия с великим князем Борисом, робкие попытки на сцене театра «Жимназ» были давно позабыты. Вот и она объявила, что собирается замуж. Настоящая эпидемия… Ее жених, один из участников банды Руайо, носил прекрасное имя. Этот молодой человек промотал свое состояние, общаясь с весьма безрассудными особами. Его звали Педре Лаказ.
Едва женившись, Педре попытался, как он говорил, «стать другим». Для этого он решил обосноваться в Патагонии. Эту новость его всегда заставляли повторять дважды.
– Где, ты говоришь?
– В Патагонии.
Патагония казалась понятием скорее воображаемым, нежели реальным, неким абстрактным выражением, означавшим, что они с Жанной просто собираются бежать безумства страстей, ибо никто не знал, где находится край с таким странным названием.
Пришел черед и Мод Мазюель. Адриенна торжествовала. Наконец-то Мод пристроена. Американец… Мод колебалась. Можно ли связать свою судьбу с человеком, носившим такие странные сапоги? Подбитые гвоздями, остроносые, с небольшим каблуком, они вызвали иронические насмешки у всадников Руайо. Мод это было известно. Кроме того, она боялась, что, покинув эту блестящую жизнь, «похоронит себя в глуши». Но обожаемый Адриенны, которому, по правде говоря, осточертело повсюду таскать за собой Мод, подсчитал, каких несметных богатств она лишается, отказываясь от такой удачной партии. К тому же Мод была не первой молодости. Тогда все решилось. Компаньонка барышень из муленского кафешантана, гостеприимная хозяйка Сувиньи собиралась покинуть родину, чтобы сочетаться законным браком с красивым, осанистым капитаном, настоящим техасцем со звонким смехом и громким голосом.
VII
Ночь перед Рождеством
Все, что нам известно о последнем путешествии Артура Кейпела, почерпнуто из противоречивых свидетельств его современников. Он отправился в путь на автомобиле со своим механиком Мэнсфилдом.
Одни видят в этом отъезде в первые зимние холодные дни желание порвать с Габриэль. Молодая жена ждала его в Канне, где они собирались вместе провести рождественские праздники. Бой уезжал на средиземноморское побережье, словно надеясь, что, удалившись от Парижа, он положит конец этому безумию – любви к Габриэль. Другие считают, что его поездка имела совсем другой смысл. Бой, утверждают они, жил практически отдельно от жены. Он отправился на поиски уединенного дома, где можно было бы спокойно пожить с Габриэль.
Можно выбрать любую из предложенных версий, но развязка была одна.
Неважно, каким был дом его мечты – белым или розовым, неважно, чья тень его укрывала – кипарисов или ракитника… Неважно, что заставило Артура Кейпела уехать, ибо в уединении, о котором он мечтал, ему было отказано. Одна только смерть поджидала его.
В английских ежедневных газетах того времени остались кое-какие следы происшедшего.
Под заголовком «Английский автолюбитель погиб во Франции» «Таймс» от 24 декабря 1919 года писала: «Lord Rosslyn, telegraphing last night from St Raphael, stated that Captain Arthur Capel, who was killed in an automobile accident on Monday, is being buried today at 2,30 p.m. at Frejus with full military honours»[46]46
«Лорд Росслин сообщает из Сан-Рафаэля, что капитан Артур Кейпел, погибший в понедельник в автокатастрофе, похоронен сегодня в 2.30 дня на кладбище Фреджус со всеми военными почестями».
[Закрыть].
Телеграмма агентства «Рейтер» содержала несколько дополнительных деталей: «Капитан Кейпел ехал из Парижа по направлению к Канну, когда у него лопнула шина». Верный Мэнсфилд был тяжело ранен.
Наконец, в «Таймс» от 29 декабря 1919 года читаем следующее: «Captain Capel’s death is a great blow to his many friends in Paris. He was probably one of the best known Englishmen living in France, where he had important coal interests. During the war, he did excellent liaison work both officially and unofficially, and was a great favorite with Clemenceau. He was a thorough sportsman and at the same time a lover of books»[47]47
«Смерть капитана Кейпела оказалась тяжелым ударом для его друзей в Париже. Он был одним из самых известных англичан, живущих во Франции, где занимался бизнесом в угольной промышленности. Во время войны он и официально, и неофициально осуществлял функции связи и пользовался покровительством Клемансо. Он был прекрасным спортсменом и одновременно страстным книголюбом».
[Закрыть].
Значит, этот «чертов» Артур, помимо своей обычной миссии офицера связи, выполнял еще и то, что на английском языке стыдливо зовется неофициальной работой… До какой же степени обманчив костюм!..
Наконец, с откровенностью, свойственной одной только британской прессе, в феврале 1920 года «Таймс» напечатала завещание Артура Кейпела, проживавшего по адресу Бульвар Мальзерб, Париж, и Чейн-Уолк, Челси, бывшего офицера связи в Версале. В завещании, написанном его собственной рукой, все состояние распределялось между законными наследниками и любовницами: семьсот тысяч фунтов. Иллюзии рухнули. Всем открылось, что покойник был Дон Жуаном, и всех поразило, как ясно выразилось в завещании его отношение к происходящему, словно он пожал на том свете плечами: «Раз я умер, не все ли равно!»
Душеприказчиками были в Англии лорд Рибблсдейл и лорд Ловат; во Франции – Арман Антуан Огюст Аженор де Грамон, герцог де Гиш. «Таймс» опубликовала документ in extenso, и имена двух значившихся там незаконных вовсе не были окружены тайной. Одинаковую сумму в сорок тысяч фунтов получили француженка, Габриэль Шанель, и одна итальянская графиня, молодая вдова, муж которой был убит под Верденом. Все остальное, за исключением различных даров сестрам, становилось собственностью его английской супруги, а после нее – «нашего ребенка».
Ибо у Артура Кейпела в апреле 1919 года родилась дочь. Разумеется, не знавший об антиклерикализме Жоржа Клемансо, о том, какие муки тот заставил некогда пережить свою американскую невесту, племянницу пастора, – «Надо выбирать между мной и Богом», лорд Ловат, слегка ослепленный своей набожностью, решил оказать честь одновременно Клемансо и дочери Артура Кейпела, попросив первого стать крестным отцом ребенка. Об этом того просили уже не раз. Вандейские крестьяне-пуалю, чиновники часто обращались к нему с подобной просьбой. Напрасно. Он – крестный отец? Его секретари передавали возмущенный отказ. Но в данном случае Жорж Клемансо согласился. Правда, церемония должна была состояться в Англии, и у него не было ни малейшего намерения туда отправляться. Тот, кто в глазах французского народа был уже не «Стариком» и даже не «Тигром», а «Папашей Свободой», послал своего представителя, и дочь Артура Кейпела получила редкую привилегию – стать единственной крестницей Жоржа Клемансо.
Когда Бой погиб, его жена была беременна. Рождением в 1920 году второй дочки закончилось земное приключение этого соблазнителя, несшего в себе неразрешимые противоречия.
* * *
Когда 22 декабря 1919 года в Париже распространилась новость о смерти Боя, несколько друзей из клана Руайо собрались вместе. Один из них вызвался известить Габриэль. Глубокой ночью Леон де Лаборд отправился в Сен-Кюкюфа. Метрдотель вздрогнул, услышав его звонок. Жозеф Леклер[48]48
Жозеф Леклер поступил к Габриэль Шанель в 1917 году по рекомендации Миси Эдвардс, у которой он служил с 1912 года. Сменив мужа и став Мисей Серт, она сочла необходимым сменить и персонал. Так несравненный Жозеф, слуга совершенно чеховского типа, перешел от Миси к Габриэль, у которой оставался до 1934 года. Свидетельство его дочери, госпожи Сюзанны Леклер-Годен, жившей у Шанель с двенадцати до двадцати двух лет, одно из наиболее значительных и надежных среди всех, собранных автором.
[Закрыть] колебался, прежде чем впустить в подобный час посетителя, которого он плохо знал. Но он прекрасно знал капитана Кейпела. Несчастный случай? Он погиб!.. Леон де Лаборд вспоминал, с каким трудом ему удалось убедить Жозефа разбудить Габриэль. Лучше, чем кто-либо, метрдотель представлял себе, какой это для нее ужас. «Подождите до завтра», – повторял он. Но Лаборд настаивал. Жозеф подчинился. Затем спустилась Габриэль, в белой пижаме, короткие волосы торчали в беспорядке. «Фигурка подростка, юноши, одетого в атлас», – вспоминал господин де Лаборд. Тогда впервые он увидел, как она не в состоянии скрыть то, что чувствует. Ее лицо исказила немая гримаса; на нем выразилась вся мировая скорбь.
Но ни единой слезинки.
Он вспоминал также, как он мучился, стараясь не сказать ей все сразу, и заговорил о тяжелом ранении. И как метрдотель сказал: «Не стоит, сударь, мадемуазель все поняла», и как Жозеф быстро пошел приготовить Габриэль чашку чая. После чего надо было дождаться, пока она заговорит, ждать пришлось недолго, несколько минут, в течение которых она не сводила с ночного посетителя смятенного взгляда. «Хуже всего было то, – говорил Лаборд, – что она плакала, но глаза ее оставались сухими». Потом она встала и, не сказав ни слова, исчезла, затем почти сразу же появилась в дорожном костюме, с сумкой в руках. Занимался день. Она была готова. Она хотела отправиться в дорогу сразу же. Они ехали до следующего дня, до глубокой ночи.
От Канна до Монте-Карло все большие гостиницы готовились к новому году. Зимой на побережье было полно англичан. За отсутствием елок бумажные звезды приклеивали к крутящимся дверям, чтобы отдыхающие чувствовали себя как дома.
Несмотря на настояния де Лаборда, Габриэль отказалась покинуть машину. Он хотел, чтобы она отдохнула. Она не хотела.
Все гостиницы внушали ей ужас. Он оставил ее все с тем же искаженным лицом, все в той же позе – и тут граф де Лаборд начинал путаться, ибо все это случилось давно и он уже не помнил, то ли Габриэль внезапно начала походить на привидение, то ли она выглядела так, «словно увидела привидение».
В те годы, когда он пытался собрать свои воспоминания, красавец Леон, дерзкий всадник из клана Руайо, когда-то заботившийся о том, чтобы выставить напоказ свойственный его поколению дендизм, не боявшийся провоцировать современников, шокировать их тем, что не снимал каскетку, даже когда пил с Габриэль чай в «Поло» в Довиле, этот Леон стал очень старым господином. Но тот, кто вообразил бы, что с возрастом он отрекся от дендизма, ставшего второй натурой, ошибся бы. Англомания в одежде графа де Лаборда устояла перед всеми современными модами. Поэтому когда в восемьдесят с лишним лет он каждое утро, ровно в десять часов, появлялся на пороге своего особняка на Лилльской улице, одетый зимой и летом в костюм из темной фланели в тонкую полоску, в черной шляпе с загнутыми полями, с темно-красной гвоздикой в бутоньерке, со светлой тростью в руке, невозможно было воспринимать графа де Лаборда иначе, как законченный образец определенной эпохи в жизни Парижа. Габриэль Шанель была одной из тайных мыслей старого человека, медленно направлявшегося на работу, в галерею Шарпантье. Она занимала его мечты, его воспоминания. И никогда он не забывал о той драматической ночи, принадлежавшей им двоим.
Порой у меня раздавался звонок, прерываемый яростными «Алло! Алло!» человека, не любившего пользоваться телефоном и злившегося на аппарат: «Вы меня слышите? Черт побери…», порой приходили маленькие голубые телеграммки, в которых уточнялось, что он вспомнил то одно, то другое. Ибо ему надо было тут же поделиться обретенным воспоминанием, он боялся потерять его снова. Так, совершенно неожиданно он вспомнил, что в 1919 году, приехав в Канн с Габриэль, он оставил машину в нескольких метрах от того места, где десять лет назад один фотограф, работавший на Круазетт, запечатлел их всех своим аппаратом. Потрясающий малый, этот фотограф: восхитительная Габриэль, серьезный взгляд из-под большой черной шляпы, а позади нее, в ряд, свита поклонников (только Боя там не было, потому что «это было еще до него», как говорится, но, как только фотокарточка была проявлена, ему сразу ее послали как открытку, ибо все прекрасно знали, что уже тогда Бой любил только ее). Тогда, в ту ночь в Канне, Леон де Лаборд начал потихоньку подавать назад, чтобы сменить место раньше, чем… Но рука Габриэль легла на его руку: «Не стоит, не беспокойся!», и он оставил ее одну, забившуюся в угол машины, в ожидании его возвращения. Он отправился за новостями, хотя было три часа утра.
В других обстоятельствах граф де Лаборд позвонил бы в казино Монте-Карло, будучи уверен, что найдет там Сатерленда, Росслина, в общем, всех своих английских друзей и, главное, леди М., ибо искал он именно Берту. Наконец, переходя от портье к портье, от гостиницы к гостинице, он нашел ее. Берта была в отчаянии. Она попросила их прийти как можно скорее. Пусть они приходят, у нее апартаменты, она сможет разместить их. Безумная, но славная девочка. И потом, в тот момент, когда она вешала трубку, он узнал еще одну ужасную новость: они приехали слишком поздно. Тело уже положили в гроб, все было кончено. Надо было нанести смертельно усталой Габриэль еще и этот удар: после восемнадцати часов, проведенных в машине, она так и не увидит Боя.
Габриэль снесла и этот, последний удар.
Леди М. плакала, встречая их. Габриэль поцеловала ее в ответ, но глаза ее были сухи.
Она дождалась наступления утра в шезлонге, не раздеваясь, несмотря на мольбы Берты, предлагавшей кровать, лиловые крепдешиновые простыни, покрывало из лебяжьего пуха и Бог знает что еще. Ответом было «нет». Реакция, которую граф де Лаборд сорок лет спустя по-прежнему не мог себе объяснить. Дело в том, что он всегда жил как денди и совершенно утратил всякое представление о крестьянском мире. В Канне, в элегантных апартаментах леди М., все происходило так, словно где-то рядом, ощутимо, хотя и невидимо, находился покойник, распростертый между двумя свечами, с веточкой самшита, поставленной в ногах, с распятием на груди, до подбородка укрытый простыней. Какой бы развитой, какой бы красивой и обольстительной ни была Габриэль, под ее обманчивой внешностью вновь возродилась севенка. Она была худой крестьянкой, которая, окаменев от горя, застыла в кресле, не в силах даже выпустить сумку из рук. Можно ли представить, чтобы в драматических обстоятельствах крестьянка из Понтея, Алеса или любой другой деревни разделась бы?
Назавтра были новые сюрпризы… Она заявила Берте, что не поедет во Фрежюс. Почему? Бесполезно настаивать. Она не поедет. А похороны? Нет. Чего она хотела? Попасть на место катастрофы. Берта дала ей машину. Габриэль отказалась от сопровождающих. Даже от Лаборда? Даже от него. Берта смирилась.
Сестра Артура узнала об этой поездке из рассказа своего шофера. Он повез молодую даму туда, куда накануне отвозил миледи. Машина капитана по-прежнему была на месте, ее оттащили на обочину, полусгоревшую, ни на что не годную. Молодая дама обошла ее, прикладывая к ней руки, словно слепая. Потом села на дорожный столб и, повернувшись спиной к дороге, опустив голову и не двигаясь, страшно рыдала. Страшно. В течение нескольких часов, уточнил шофер. Из деликатности он удалился.
Габриэль умела, Габриэль могла плакать. Но только лицом к лицу с землей.
В ту ночь в сказочном Канне, среди сосен и эвкалиптов, где возвышались большие виллы, было шумнее, чем обычно. Наступило Рождество. В номере рядом с Бертой был праздник с оркестром, и негры играли блюзы.
Французы, англичане, американцы набрасывались на развлечения. Джаз – все думали только об этом.
Славянские годы
(1920–1925)
Всякая новая мода – отказ наследовать, ниспровержение диктата прежней моды; мода осознает себя как право, как естественное право настоящего над прошлым…
Ролан Барт. Система моды
I
Черные ставни
Возможно, это было их совместное решение: за три месяца до смерти Боя Габриэль переехала со своим ателье из дома 21 по улице Камбон, за которое она платила патент модистки с 1910 года, и, будучи уже модельером, обосновалась в доме 31 по той же улице, где оставалась до конца жизни. Вскоре после смерти Боя она подписала контракт на покупку новой виллы, которая привлекла ее отдаленностью, что в эти годы, казалось, было главной заботой Габриэль. Она собиралась переехать из леса Сен-Кюкюфа на холмы Гарша, из одной виллы в другую, более просторную и лучше расположенную, из «Миланезы» в «Бель Респиро». Названия, которые могли бы послужить заголовком для новелл Колетт. Как бы она сумела описать их сады, особенно последний, в «Бель Респиро», густой, наполненный ароматами и звенящим пением птиц. Все свидетельствовало о совершенно четком выборе: не жить в Париже, жить скрываясь.
Тоска Габриэль принимала тревожные формы. Закончив работу, она возвращалась в «Миланезу» по субботам, чтобы выплакаться тайком.
По рассказам ее метрдотеля, она велела затянуть свою комнату черным – стены, потолок, пол, даже простыни на кровати были черные, все это было весьма сомнительного вкуса и напоминало погребальные шуточки Карла V в Юсте и Сары Бернар, любившей покрасоваться в обитом тканью гробу. Но в этой комнате Габриэль провела всего одну ночь. Едва улегшись, она позвонила: «Жозеф, быстренько вытащите меня из этой могилы и скажите Мари, чтобы она приготовила мне постель в другом месте. Я начинаю сходить с ума». И Мари, жена Жозефа, устроила хозяйку в другой комнате и оставалась рядом с ней до утра. На следующий день черные драпировки были сняты; обойщик получил приказ «отделать комнату в розовых тонах».
Эта история стоит того, чтобы ее рассказать, ибо она свидетельствует о такой страсти, которая в первые послевоенные годы была уже не в моде. Это было горе, доходящее до исступления, до безрассудства, в духе Матильды де Ла Моль.
Приказав сперва отделать комнату в черных, а затем в розовых тонах, Габриэль надеялась, что ее сердце так же легко, как ее клиентура, покорится магии цвета, что оно подчинится закону розового и что, сделав свой дом светлым и ярким, она заставит горе отступить.
В общем, она пыталась навязать своей боли определенную одежду. О, костюм!
Тот, кто захочет усмотреть в поведении Шанель только суетность, волен поступить по своему усмотрению. Но вот, например, Ролан Барт написал книгу, которая помогает углядеть определенный смысл в резкой смене украшения комнаты – от черного к розовому. Чего искала Габриэль? Избавления от колдовской власти воспоминаний. Это было непросто. Она начала поддаваться мраку, ей это понравилось, и она позволила скорби поглотить себя. Ее воображение разладилось до такой степени, что она впала в странности. Габриэль приказала выкрасить стены не в серый или лиловый цвет, а в самый гнетущий и самый близкий к тому, который бы она носила, если бы была законной женой и вдовой: черный. Барт говорит, что «одежда, в силу своей значимости, есть часть основных фантазмов человека – неба и пещеры, жизни возвышенной и погребения, полета и сна: благодаря своей значимости одежда становится крыльями или саваном, обольщением или властью…»[49]49
Ролан Барт. Система моды.
[Закрыть]
Как бы то ни было, боль Габриэль была сплошной тьмой. Затем она сделала над собой усилие и наложила на черное запрет. Занявшись отделкой комнаты снова, она решила сделать ее розовой, надеясь тем самым изгнать из нее горе. Она всеми силами поверила в действенность совсем простого, нехитрого рецепта, казалось, прямиком попавшего ей в руки из альманахов, которыми торговали ее предки, своего рода поговорки: «Розовой комнате – веселое сердечко». Другой системы она не знала. Вот еще одно замечание Барта: «Мода может выразить себя в поговорках и подчиняться не закону людей, а закону вещей, такой она предстает самому старому человеку в истории человечества, крестьянину, с которым говорит сама природа: нарядным пальто – белые платья, драгоценным тканям – легкие аксессуары». Что касается возможных обвинений в несерьезности, требуется последний раз процитировать того же автора, в частности следующее его замечание: «Сочетание чрезмерно серьезного и чрезмерно ничтожного, лежащего в основе риторики моды, только воспроизводит на уровне одежды мифическое положение женщины в западной цивилизации: одновременно высокое и детское». Помимо того что это замечание вскрывает подлинный смысл кажущейся суетности Шанель, в нем слышится шум захлопнутой двери. Что, в сущности, и требовалось, чтобы заставить замолчать недоброжелателей.
* * *
В марте Габриэль, более потерянная, чем девчушка, переживающая первое горе, но уже несущая в себе Габриэль высокую и готовую на все, наконец покинула виллу «Миланеза», и занавес упал над черно-розовой комнатой. Она забрала с собой Жозефа и Мари. За ней последовал также целый зверинец: два грозных волкодава, Солнце и Луна, пять их щенков – ее «Большая Медведица», как она их называла, – и две собаки-крысоловки, предмет ее нежных забот, Пита и Поппе, последний подарок Боя.
Еще не переселившись в Гарш, она уже произвела там впечатление экстравагантной дамы. Снаружи стены дома были отделаны штукатуркой бежевого цвета, а ставни выкрашены черным лаком.
Окружающие сочли, что дом выбивается из общего стиля. И, однако, это было красиво – четыре черных мазка на окнах фасада, замечательно сочетавшихся с серой, странно искривленной шиферной крышей. Но в Гарше господствовал нормандский стиль. «Бель Респиро» выглядел чем-то сомнительным, затесавшись среди буржуазных резиденций, шикарных коттеджей, богатых дач – маленьких храмов законного супружества, несущих свои каркасные стены, словно знаки социального престижа. Тогда как черные ставни… Редкие прохожие останавливались, чтобы поглядеть на видневшуюся среди ветвей, ни на что не похожую виллу. Что они могли понять? Дом выглядел как картина, создающая иллюзию реальности в тонах двадцатых годов, декор, обращенный в будущее, хотя и располагавшийся на перекрестке улиц Альфонса де Невиля и Эдуара Детая. Как не отметить такое забавное стечение обстоятельств? Кажется удивительным, что шикарному предместью, жившему воспоминаниями о сквернейших художниках XIX века, предстояло стать местом встречи артистов, творчество которых воспринималось официальным искусством XX века, разными там Детаями и прочими Невилями, как повод для скандала. Сначала Стравинский, потом Кокто. Затем Реверди, потом Хуан Грис, потом Лоране. Голова идет кругом от таких перемен… Открыв черные ставни, Габриэль устремляла свой черный взгляд на бесшумные дороги, на сады, еще пахнувшие лесом, словно они продолжали тосковать по лесным массивам, покрывавшим холм в начале века. Забавно, как в первые дни после переезда Габриэль колебалась, какой путь указать механику – выезд по Невилю, возвращение по… «Вы сами знаете, там, налево…» «По улице Детая, мадемуазель», – говорил Рауль, ибо именно так звали первого ее шофера. Рауль… В этом имени, так же как и в его ливрее, заключена целая эпоха.
По улицам Гарша, столь артистически названным, они вместе спускались к Парижу, Рауль за рулем и немного потерянная Габриэль, и даже не замечали, что им было над чем посмеяться, не замечали, что, произнося каждое утро имена мазил, фабриковавших возвышенное метрами, они оказывали им слишком большую честь. Женщина, чья известность все росла, проезжала дважды в день в «роллсе», словно королева, перед табличками, увековечившими славу создателей «Мечты» и «Последних патронов»! Что бы там ни думал в 70–80-е годы прошлого века знаменитый господин Лафенетр, который в «Ревю де Де Монд» изумлялся, что художник сумел так воспеть «телесную энергию… и внутреннюю доблесть наших солдатиков», этот путь в мир Искусства был весьма зауряден. А что если бы, желая избавиться от своего невежества, Габриэль, ничего не делавшая наполовину, стала бы в свою очередь жертвой того же недоразумения? Представим, что она выбрала бы своих художников среди салонных мастеров, увенчанных наградами. Разве она не была для этого достаточно богата? Разве она не могла выбрать в качестве своей портретистки старую барышню Бресло, которой граф Робер де Монтескью расточал пламенные похвалы, или пойти, как ее подруга Берта, позировать в вечернем платье Жаку-Эмилю Бланшу? Пресса не преминула сообщить об этом: «Прелестное лицо леди М., изображенное с такой силой… Поразительная искренность… Задушевность». В конце концов, это было очень лестно, и такого рода рекламная шумиха могла бы соблазнить модельера. Ничего похожего в жизни Габриэль не случилось. Точно так же она не ходила по воскресеньям на пьесы Анри Бернстайна – их владения разделяла общая стена, – который (если верить вдове садовника[50]50
Г-жа Дени, вдова садовника, работавшего у Шанель во время ее пребывания в Гарше. В 1973 году все еще жила в домике на улице Альфонса Невиля.
[Закрыть]) не остался равнодушным к очарованию соседки, что неудивительно.
Но подобно тому, как Габриэль из небытия, на которое ее обрекало ее происхождение, одним рывком поднялась к высотам живописи и музыки своего века, так она отвернулась от театра бульваров, едва с ним соприкоснувшись, и вслед за Кокто и Дюлленом открыла для себя драматургию Софокла.
Мы не сможем продвинуться в нашем исследовании новой жизни Габриэль, не произнеся одного, важнейшего имени – Миси Серт. Вместе с тем мы бы произвольно упростили жизнь Шанель, если бы ограничились только одним влиянием Миси.
Разумеется, с Миси все началось, она была первой наставницей. Но можно предположить, что и без нее Габриэль нашла бы лекарство от своего горя в необычной страсти – в наслаждении знать и понимать художников без всякого желания обладать их творениями. Ибо, относясь к жизни с глубоким любопытством, Габриэль была далека от стремления непременно владеть.
Полотна? Рисунки?
Поразительно, как мало их у нее было.
Всевозможные предметы – другое дело. Настоящее безумие. Предметы загадочные, которые невозможно было встретить в другом месте. Предметы, хранящие следы неведомого, отзвуки далеких миров. Кроме того, много книг, некоторые весьма редкие. Но за исключением двух каминных подставок для дров Липшица и крохотной картины Дали, никаких подписанных работ, ни одного ее портрета, ни одной картины известного художника.
Она любила артистов вне их творчества. Она любила их, испытывая единственное желание – восхититься, гордилась только одним – тем, что знала их близко и узнала лучше, чем жадные коллекционеры, готовые забрать все. Разница между коллекционерами вроде Гертруды Стайн и Габриэль Шанель состоит в том, как они понимают творчество. Габриэль более чем кто-либо была чувствительна к загадкам стиля. Она поддавалась его колдовству. Это объяснялось огромным уважением, которое внушало ей все, сделанное руками. Разумеется, объяснением могли бы послужить некоторые забытые эпизоды ее жизни: часы, проведенные то на берегу канала в Иссуаре, то в Варенне у тети Жюлии, то в саду, где добрый дядя Огюстен работал граблями, возился с тачкой, корчевал, и многое другое, чего она не осознавала, но что, придя к ней из бедного жилища ее предков, составляло ее фамильное наследие.
Подобно ребенку, она изумлялась волшебному жесту творящей руки. Для нее было достаточно того потрясающего момента, когда… Вечная сирота, немеющая перед чудом. Сдержанность, привитая ей воспитанием, подразумевала, что чудо должно освящать, его нельзя воспринимать как нечто банальное, вроде платья, оно содержит в себе часть божественного, и ребенок, выросший у монахинь, пока его не убедят в обратном, остается в убеждении, что Бог не покупается. Влияние сиротского приюта в Обазине и муленского монастыря в данном случае очевидно.
Добавим, что презрение Габриэль по отношению к людям, упорно стремившимся обладать всем тем, чем они восхищались, было удивительно. Оно проистекало отнюдь не из-за недостатка денег. В нем выразилось ее представление об Искусстве, нечто такое, что она доказала самой себе. Тем, кто был знаком с Мисей Серт – в то время ни в чем не знавшей нужды и мотовкой, – покажется, что еще до того, как между ней и Габриэль завязалась дружба (и какая…), короче, что изначально между ними существовало подлинное родство: они испытывали одинаковое презрение к тем, для кого картина была только картиной. То, что они были вдвоем, убеждало подруг в их правоте. Наконец-то вдвоем! Ибо в течение тридцати лет Габриэль будет разделять суждения и пристрастия женщины, связанной со всеми проявлениями художественной жизни своего времени.
Не хватает слов, чтобы рассказать, сколь пленительна была эта встреча.
Они будут видеться каждый день, внучка ярмарочных торговцев из Понтея и Мися, после которой, как и после Габриэль, не сохранится ничего: ни дневника, ни переписки, ни одной заметки – ничего, хотя и та и другая оставили свой след в истории первой четверти XX века. След дерзкий и легкий, который оставляют музы, вдохновительницы и подруги.
Для Габриэль началось время Миси.








