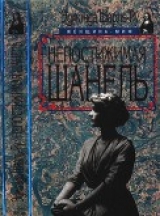
Текст книги "Непостижимая Шанель"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
* * *
В конце 1931 года попытка начать все сначала окончательно провалилась, и место любовника было снова свободно. Заплата продержалась только год. Реверди остался наедине со своими муками, таков был его удел. Но не удел Габриэль, которая, устав от безнадежного повторения, отступилась раз и навсегда. Несчастье можно легко подхватить, она это знала. Она отказалась от Реверди из-за вкуса к жизни и боязни заразиться.
Остается узнать, сколько скандалов, бурь, неистовых ссор, примирений, перемежавшихся нелепыми размолвками, пережили они, прежде чем прекратилась их беспощадная борьба. Можно не сомневаться, что сказано было немало безумных слов. В какой именно момент их взаимного охлаждения он послал ей следующее письмо? «Я бы не простил себе, если б задержался хоть на мгновение с ответом на вашу записку, которую только что прочел. Ничто не могло взволновать меня сильнее. Вы прекрасно знаете, что бы ни случилось – и, видит Бог, сколько всего уже случилось, – вы всегда будете мне бесконечно дороги. Любить кого-то – значит знать его так, что ничто не в состоянии затронуть или разрушить эту любовь. Уметь видеть душу другого, как он сам ее не видит и не знает. Во всяком случае, если бы в моей власти было сделаться злым, это зло никогда не обратилось бы против вас. Просто я считаю, что, учитывая наши характеры, было бы бесконечно разумнее больше нам не видеться и воспротивиться тому, чтобы необузданность страстей все смела на своем пути».
Очевидно одно. Если бы между суетностью Парижа и покоем Солема метался кто-нибудь иной, не Реверди, то в конце концов такое поведение могло бы напомнить перипетии скверной комедии. В данном же случае речь шла о жестоких страданиях, перипетии были только неизбежными остановками на пути к голгофе. Следующее письмо, где встречается слово «война», позволяет абсолютно точно установить, когда Реверди вернулся в свою темницу;
«Мне пришлось оглянуться на себя, отступить медленно и далеко. Короче, я много размышлял и, все передумав и взвесив, пришел к выводу, что мне надо снова поселиться здесь и жить, как прежде, в одиночестве. Во-первых, из-за моего нервного и душевного состояния, требующего, чтобы я относился к себе как к больному. Во-вторых, потому, что пришло время переменить образ жизни, которому я трусливо предавался в течение десяти лет, если я не хочу полностью презирать самого себя. В настоящее время подобное существование стало для меня невыносимым, ибо его больше не извиняют нежные узы и глубокие чувства. Слишком часто во мне преобладала погоня за наслаждением, при полном пренебрежении ко всему остальному. Это все равно что гнаться за ветром – вы начинаете задыхаться, и у вас остается ощущение мучительной горечи. По природе своей я склонен к тому, чтобы докапываться до глубинных корней вещей, и слишком неповоротлив, слишком серьезен, чтобы позволить сквознякам увлекать меня, словно перо, не рискуя при этом удариться больно. Чужая суетность и маета, как бы они ни освежали, впоследствии бессильны уменьшить боль от синяков.
Я хотел бы вновь обрести веру, которая у меня была, и уйти в монастырь. Хотя в таком выборе тоже есть нечто отталкивающее, Но об этом не может быть и речи. Надо оставаться отшельником, одиночкой, мирянином и неверующим. Это еще труднее и героичнее.
Если быть скромнее, то речь идет о том, чтобы сохранить минимум равновесия и самообладания, которые мне удается обрести только в одиночестве, ведя жизнь почти аскетическую в своей простоте, заведя несколько здоровых и успокаивающих привычек. Наконец, война поставила меня в опасное финансовое положение, и я должен во что бы то ни стало прекратить безумства, если не хочу, в добавление ко всему прочему, потерять и ту малую, относительную свободу, которую, возможно, мне помогут сохранить оставшиеся у меня гроши.
Целую вас. П.»
Следует ли считать его абсолютно искренним? Или в письме Реверди набросал портрет одиночки, каким решил предстать в книге, находившейся у него в работе? «Я на пороге забытья, как ночной путник», – читаем мы в «Моей бортовой книге». Действительно, когда на эту тему заводили разговор с Габриэль, она, всегда запрещавшая себе малейшие замечания в его адрес, говорила:
– Когда в письмах он утверждал, что очень несчастен, я понимала, что он снова погрузился в работу. Он как бы объявлял мне: «Я спасен».
Вместе с тем в период своего второго разрыва с Габриэль он только что сделал свой выбор и не успел еще полностью плениться своим несчастьем. Во время его разговора со Станисласом Фюме перед нами предстает человек с обнаженными нервами, еще пытающийся отрицать и свое неверие, и свою потерянность.
– Уверяю вас, я очень-очень счастлив, – утверждал он.
Едва произнеся эти слова, Реверди разрыдался.
Сцена происходила в 1937 году, на улице Сент-Андре-дез-Ар. Это было через шесть лет после второго разрыва с Габриэль.
* * *
Летом 1932 года Реверди не приехал в «Ла Пауза». В правом крыле виллы апартаменты рядом с Габриэль заняла Мися, по-прежнему она, Мися, которая всегда была рядом, когда нужно, Мися, заполнявшая пустоты и белые пятна в любовной жизни Габриэль, Мися и артисты, следовавшие за ней, куда бы она ни ехала, Мися и ее пианино… Англичан было мало, за исключением Веры. Впрочем, по мужу Вера теперь стала итальянкой. Значит, никаких англичан. Никаких лордов. Страница была перевернута. И больше никаких поэтов. В то лето у Габриэль каждый вечер звучала музыка.
Когда приходило какое-нибудь приглашение, Мися и Габриэль отправлялись туда вместе. Газеты сообщали об их присутствии в Монте-Карло в обществе вновь обретенных Мисиных друзей: Филиппа Вертело, Этьена де Бомона и других – и хвалили элегантность подруг. Мися в «Шанель», в «креп-жоржетовом зеленом платье и боа из перьев в тон».
Фактически после разрыва с герцогом Вестминстерским Мися все время была с Габриэль. Поэтому она присутствовала при памятном событии – встрече в Монте-Карло Габриэль и Сэмюеля Голдвина.
Великий князь Дмитрий был посредником. Любовник 20-х годов встретил в расцвете славы ту, что помогла ему в испытаниях, и в свою очередь оказал ей услугу. Потомок Романовых представил ей царя Голливуда.
И вот вновь в судьбе Габриэль совершился удивительный поворот, который не значится ни в одной книге, ибо в Истории остаются лишь те моменты, когда в движение приходят огромные человеческие массы, в ней остаются эпидемии чумы, войны, завоевания, сожженные города, но мало внимания уделяется неожиданным встречам людей. Словно История не является одновременно терпеливым сложением образов эпохи, в каждом из которых содержится своя доля истины, каждый из которых открывает нам что-то, иногда всего лишь пылинку давно ушедшего времени! В конце концов, это – тоже История.
Так, во время потрясений, охвативших Америку в 30-е годы, в период экономического кризиса, углублявшегося с каждым месяцем и готовившего, хотя пока этого никто не подозревал, приход к власти Франклина Д. Рузвельта, в этот ненадежный момент американской истории сын польского эмигранта, ставший преданным гражданином континента, позволившего ему выковать себе судьбу по мерке, Сэмюель Голдфиш, ставший одновременно Голдвином и пионером американского кино, вел с Габриэль трудные переговоры, чтобы убедить ее отправиться в Голливуд.
Эти переговоры были столкновением между сыном и дочерью уличных торговцев, поднаторевших в умении болтать, столь необходимом в их ремесле. На улицах своей новой родины Голдфиш-сын сумел выкрутиться, продавая перчатки. Он был коммивояжером. В мрачные дни своего детства Шанель-дочь в сутолоке ярмарок помогала матери устанавливать семейный лоток. Свидетелем же их разговора был один из последних уцелевших представителей царского режима. Констатировав этот факт, невольно задаешься вопросом, а оказались бы в Соединенных Штатах Голдфиши, не будь на российском троне царей, из века в век заставлявших евреев претерпевать немыслимые страдания, и особенно предков маленького Сэмюеля, которые в русской Польше знали только нескончаемую вереницу погромов? И пусть мне поверят, когда я говорю, что История – это мальчик, издавна знавший, что означал казачий галоп в польском гетто, мальчик, спасавшийся от казаков бегством и тринадцатилетним эмигрантом голодавший на набережных Нью-Йорка в 1890 году. Вполне возможно, что Сэмюель Голдвин не уговаривал бы с такой настойчивостью Габриэль, не сохрани он в глубине души воспоминания об этом голодном времени.
Может быть, его обращение к Габриэль диктовалось неким смутным предвидением? В марте 1932 года четырнадцать миллионов американцев были без работы. Надо было, подобно Сэмюелю Голдвину, испытать гнет нищеты, чтобы понять, что когда она берет за горло, то между куском хлеба и билетом на спектакль выбирают обычно хлеб. Сэм Голдвин сразу понял, что, если придать продукции его фабрики грез дополнительную изысканность, это отчасти поможет ему перенести надвигавшиеся трудности. Было не время осторожничать. Надо было дерзать, щеголять знаменитыми именами и покупать престиж. Так, не имея возможности привлечь широкую публику, можно было обеспечить приток состоятельной клиентуры в городской среде. Его план состоял в том, чтобы дать женщинам повод пойти в кино. Они пойдут, «primo, чтобы увидеть его фильмы и его звезд, secundo, чтобы увидеть последний крик моды».
Ему нужна была Шанель.
Контракт гарантировал Габриэль баснословную сумму в миллион долларов. Сэм Голдвин претендовал на то, чтобы она дважды в год приезжала в Голливуд. Решение знаменитого продюсера было безапелляционно: впредь его звезд будет одевать исключительно Габриэль, как на сцене, так и в жизни. В этом была главная новизна: речь шла не только о том, чтобы «одевать» фильмы, но и о том, чтобы реформировать вкусы звезд экрана в области моды. Как они отреагируют на указ? В Голливуде определилось два течения общественного мнения. Одно – представленное редакторшами журналов мод, называвших себя оптимистками: «Звезды согласятся, потому что это Шанель», и второе – хроникерами, которые, зная, с кем Габриэль придется иметь дело, выражали сомнения: «Шанель и только Шанель?» На съемках еще куда ни шло. Но в повседневной жизни? У каждой звезды были свои вкусы, свой характер и даже дурной характер и дурной вкус.
Голдвин твердо стоял на своем: ему нужна была Шанель.
Тем не менее он был удивлен поведением Шанель. Когда семь лет назад он предложил сотрудничество Эрте[102]102
Эрте (Роман Тиртов) – русский художник, родился в Санкт-Петербурге в 1892 году, обосновался в Париже в 1912 году, ученик академии Жюйан, затем работал у Пуаре, где создавал театральные костюмы и одевал Мату Хари в 1913 году. С 1919 года, времени создания костюмов для Мистангетт в спектаклях «Батаклана», до 1970 года, когда он одевал Зизи Жанмэр для «Казино де Пари», Эрте являлся автором костюмов и декораций самых знаменитых и грандиозных ревю Парижа, Нью-Йорка и Лондона. Он также был постоянным художником американского журнала «Харперз базар», с которым его связывали эксклюзивные контракты, возобновлявшиеся каждые десять лет.
[Закрыть], тот принял его с восторгом и без колебаний переехал в Голливуд на год. Предложение же, сделанное Габриэль, было гораздо лестнее. Почему же оно ее не соблазняло? Одевать звезд экрана, порождавших мечту и желание, – это было куда престижнее того, что он предложил Эрте! Иметь возможность использовать в личных целях экраны всего мира? Сделать из Мэри Пикфорд или Глории Свенсон «модели Шанель», и это не производило на нее никакого впечатления? Никогда еще подобного предложения не делали француженке. Соглашается она или нет? После многочисленных колебаний Шанель уступила. Она решила поехать в Голливуд.
Но об этом чудесном путешествии – которым любая другая на ее месте похвалялась бы – Габриэль не говорила ни слова. Удивительным в этой болтунье было то, что она никогда не рассказывала о себе.
Между тем скрывать было нечего, напротив, рассказы ее могли бы пойти ей на пользу, возвеличить ее. Тогда почему же она молчала? Молчание стало ее второй натурой. Ей казалось одинаково опасным рассказывать как о главных, так и о второстепенных эпизодах своей жизни. Каждый из них был звеном одной цепи, каждый мог стать золотой жилой для тех, кто захотел бы раскрыть то, что она тщательно скрывала: возраст, убогое начало карьеры, первых любовников.
Попробуйте догадайтесь… Слово – серебро, молчание – золото. Когда ее заставляли, вынуждали поделиться воспоминаниями, она отделывалась шутками. Голливуд? «Это была гора Сен-Мишель задниц и грудей». Почему у нее не осталось более ярких воспоминаний? «А это словно вечер в „Фоли Бержер“. Стоит сказать, что девицы были красивые и было много перьев, как добавить больше нечего». Но все-таки?.. «Никакого „но все-таки“. Вы прекрасно знаете, что все, что „сверх“, между собой похоже. Сверхсекс, сверхдорогой фильм… В один прекрасный день все это должно было рухнуть. Телевидение все расставило по своим местам. И потом, я люблю только детективные фильмы». А атмосфера Голливуда? «Детский сад… Мися переносила ее хуже, чем я. Меня она смешила. Однажды нас пригласил в гости знаменитый актер, который, чтобы оказать нам честь, выкрасил все деревья в своем саду в голубой цвет. Я нашла, что это мило, но глуповато…» А звезды? «О, в ту поездку я встретила только одну звезду, ради которой стоило тронуться с места». Кого же это? «Эриха фон Штрогейма». Почему? «Потому что у него крайности были оправданны». То есть? «Он утолял жажду личной мести. Это был пруссак, изводивший подчиненных-евреев. Ведь Голливуд был в основном еврейским… Евреи из Центральной Европы обрели в лице Штрогейма знакомый кошмар. По крайней мере здесь не было никакого притворства! Вместе они проживали старую историю, все перипетии которой они знали заранее и к которой в конечном счете были привязаны».
Визит Шанель состоялся в апреле 1931 года. Мися сопровождала ее. Их совместное появление в Голливуде было триумфальным. Сэм Голдвин не посчитался с расходами. Несмотря на кризис, Голливуд продолжал оставаться самым безумным местом в мире. Это была столица излишеств, где снимались фильмы с 3000 статистов, где находились гигантские студии, где звезды пользовались абсолютной властью. На встречу с гостями устремились все звезды. От Гарбо до Штрогейма, от Марлен до Кьюкора, от Клодетты Кольбер до Фредерика Марча, каждый считал для себя большой честью побеседовать с той, кого называли «самым великим умом, который когда-либо знала мода».
Когда Габриэль вернулась во Францию, она могла сказать, что не просто посмотрела Голливуд. Не забудем, что она отправилась туда с профессиональными целями. Подобно тому как семь лет назад она узнала, что такое балетные костюмы, работая для Дягилева, что такое костюмы театральные, работая для Кокто и Пикассо, так теперь, при общении с самыми знаменитыми специалистами того времени, она узнала, каковы были требования кино. Она увидела, как снимаются фильмы, встретилась с лучшими специалистами в области декораций и костюмов, с Митчеллом Лейзеном[103]103
Лейзен (1898–1972) был художественным директором у Де Милля и в этом качестве властвовал в Голливуде в течение двенадцати лет, создав декорации к почти всем его фильмам до 1933 года.
[Закрыть], Адрианом[104]104
Художник, открытый и запущенный на орбиту Лейзеном, который до 1930 года поручал ему создание костюмов в большинстве своих фильмов.
[Закрыть], Сесилем Б. Де Миллем.
Теперь она знала их, и они узнали ее. В глазах современников она приобрела новый авторитет: она совершила «путешествие в Америку»; она «подписала контракт»; ее творческие способности сделали из нее европейскую величину, к которой обратился Голливуд. Барышня из Мулена, франтиха из Виши, модистка на дому мчалась вперед на всех парах. Какой пройден путь! По сравнению с конкурентами она получила значительное преимущество – то, которое в любой профессии дается международной известностью. Наконец – и это, может быть, было самым главным, – она узнала, и из первых рук, что означает слово фотогеничность. Это понятие она, сознательно или нет, будет учитывать во многих своих моделях.
Но этим дело и ограничилось, и после первого фильма Габриэль[105]105
«Сегодня вечером или никогда» с Глорией Свенсон, одетой Шанель. Постановка Мервина Леруа. Это была легкая комедия, где Свенсон в роли великой певицы вызвала единодушное одобрение критики. Премьера фильма состоялась в декабре 1931 года.
[Закрыть] звезды заартачились. Они не соглашались, чтобы им, фильм за фильмом, навязывали модели одного и того же мастера, будь им сама Шанель.
Габриэль не пришлось отправиться во второе путешествие, а Голдвин остался на бобах. Но в том, что касается рекламы, все оказались в выигрыше. Все ежедневные газеты посвятили фильму «Сегодня вечером или никогда» длинные статьи. «Нью-Йорк геральд трибюн» приветствовала «бесспорный талант мисс Свенсон и изумительную естественность, которую она внесла в исполнение роли в легкой комедии». Газета замечала также, что последний фильм более выгодно подчеркивает дарование молодой актрисы, нежели ее предыдущие роли, оказавшиеся не слишком удачными. «Верайети» радовалась, что актриса отказалась от отрицательных ролей, которые решительно ей не подходили: «В этом фильме она сыграла блестяще». Слова «хороший вкус» и «здравый смысл» повторялись многими критиками. Наконец, в «Нью-йоркере» можно было прочесть комментарий, где с юмором объяснялись причины разрыва Габриэль с Голливудом. Статья была своеобразной данью уважения Шанель: «Фильм дал Глории Свенсон – возможность блеснуть большим количеством роскошных туалетов. Их создатель – Шанель, знаменитая парижанка, недавний визит которой в Голливуд наделал столько шуму. Но кажется, она не готова в ближайшее время вернуться в наш город просвещенности и знаний. Ибо ей дали понять, что ее моделям не хватает „сенсационности“. Дело в том, что она старается, чтобы дама выглядела действительно как дама. Она и представить себе не могла, что творцы Голливуда, показывая на экране одну даму, стараются прежде всего, чтобы она выглядела так, словно их две». Болтовня кумушек сработала великолепно, и всем стало известно, чем был краткий союз между создателем Голливуда и великой Шанель.
Меньше было известно то, что в Париже, в тени коромандельских ширм, уже проявлялось влияние, без которого Габриэль никогда не приняла бы приглашения Сэмюеля Голдвина.
Кое-что о балах
(1933–1940)
Когда, любимая, ты гневно так плясала?
Когда, под чьим ножом так ослабела ты?
Артюр Рембо. Париж заселяется вновь
I
Встреча с демоном
«Мой милый, стоит чудесная погода. Как рассказать тебе? Надо бы передать это в музыке. Столько свежести, тепла, запахов – кто мог бы их описать… Полная луна над морем такая, что хочется сказать: „Если это для меня, сделайте не так ярко“. Все остальное – это море, купанье, цветы, одинокие прогулки и твое отсутствие. Буйство розовых лилий: двадцать девять с одной стороны, двадцать – с другой зацвели разом. Великолепно. У ажурной кирпичной стены – помнишь, у той, к которой пристроен сарайчик? – еще один поток розовых лилий, смешавшихся с каскадом бледно-голубого ломоноса и ручейками ярко-синих вьюнков. А тебя здесь нет!»
Колетт, ее цветы, ее животные, ее сад: это одно из писем, адресованных ею летом 1933 года Морису Гудекету (она вышла за него замуж в 1935 году). Неподвижный, маленький средиземноморский порт доживал последние годы своей подлинной славы. Чтобы передать свое восхищение тому, кто любил ее, Колетт живописала то, что на Юге еще очаровывало: ленивое море, лодки со сложенными парусами, «Мускатную шпалеру», утопавшую в цветах. Это письма наблюдателя, не только отличавшегося нежностью, юмором или весельем, но и взиравшего на род человеческий с абсолютной объективностью. Разоблачить безжалостный механизм завоевания? Показать Сен-Тропез, постепенно разъедаемый «бодрой парижской глупостью»? Ухватить подлинную сущность людей? Все это Колетт превосходно делала в своих письмах. Как и в приводимом ниже отрывке, своеобразной серии моментальных снимков, где она выводит на сцену актеров и актрис сен-тропезской комедии в то время, когда та только начиналась.
Ее текст великолепно характеризует опасную личность, внезапно появившуюся рядом с Габриэль.
«Вчера в конце дня я была в городе с Мун[106]106
Элен Журдан-Моранж, скрипачка, исполнительница Равеля. Автор книги «Равель и мы», жена художника Люка-Альбера Моро, самая близкая подруга Колетт.
[Закрыть] и Кесселем[107]107
Жорж Кессель – брат писателя Жозефа Кесселя. Журналист. В конце своей жизни Габриэль Шанель пыталась уговорить его написать ее мемуары.
[Закрыть], чтобы в половине седьмого забрать письма и зайти в магазинчик[108]108
Там продавалась косметика, производимая Колетт.
[Закрыть] повидаться с Жанной Марнак[109]109
Судьба Жанны (на сцене Джейн) Марнак была именно такой, о какой мечтала Шанель. Воспитанница монахинь, она дебютировала в 1907 году в «Гэте-Рошешуар» в ревю «У тебя есть сверчок». Училась пению у Литвин, блистала в оперетте, потом с успехом перешла от пения к бульварной комедии. Стала миссис Тревор, выйдя в 1927 году замуж за почтенного английского полковника. Она выступала в «Казино де Пари» почти так же часто, как и Мистангетт. Карьера ее вполне естественно привела Жанну к тому, что она «взяла театр» и стала весьма опытной директрисой. Пресса писала о ней: «В ней есть что-то от манекенщицы, что-то от улицы Мира, что-то от шикарной потаскухи. И ко всему этому она умна». Таким образом, в окружении Колетт были женщины, подобные Джейн Марнак и Спинелли… От них Габриэль бежала как от чумы, боясь, как всегда, как бы их общее кафешантанное и легкомысленное прошлое не послужило предлогом для разоблачений.
[Закрыть], которая должна была делать там маникюр. Когда я покупала что-то у Вашона, две руки закрыли мне глаза, и я спиной ощутила вес приятного тела… Это была ласковая Мися. Излияния чувств, нежности.– Как, ты здесь?
– Ну да, я здесь.
Но ей надо было сказать мне что-то срочное:
– Ты знаешь, она выходит за него замуж!
– За кого?
– За Ириба. Моя дорогая, моя дорогая, это потрясающая история: Коко любит впервые в жизни!
Комментарии и т. п.
– Ах, уверяю тебя, этот свое дело знает.
Я не успела спросить, какое дело.
– Тебя ищут, за тобой послали, мы хотим увезти тебя обедать в Сан-Рафаэль, в Канн, в…
Я отказываюсь, снова падаю в ее объятия, выхожу с Мун, и мы забираем Кесселя, покупавшего невесть что. Делаем три шага, меня обхватывают чьи-то руки, это Антуанетта Бернстайн[110]110
Супруга драматурга Анри Бернстайна, бывшего соседом Шанель во времена «Бель Респиро».
[Закрыть] и ее дочь.Излияния чувств и т. п.
– Вас ищут, мы увезем вас обедать к Роберу де Ротшильду в Валескюр… и т. д.
Она уже знала, что я буду вести критику в „Журналь“[111]111
Как и Реверди, Кодетт, всегда с точностью указывавшая день недели и час, когда писались письма, никогда не ставила дату. Тем не менее фраза о сотрудничестве в «Журналы» – первая театральная хроника, подписанная ею, появилась там в октябре 1933 года – позволила Морису Гудекету определить время написания письма: лето того же года. А точность Колетт-писательницы позволила пойти еще дальше: письмо было написано между 1 и 13 июля 1933 года, временем цветения лилий и полнолуния.
Цитируемое письмо не издано, как и в целом вся переписка Колетт с Морисом Гудекетом.
[Закрыть].Излияния чувств, поцелуи. Мы с Мун трогаемся в путь, делаем три шага, меня вновь обнимают чьи-то руки, это Вал[112]112
Валентина Фоше-Маньян.
[Закрыть].– Я только что от вас, я ищу вас, идемте обедать в „Эскаль“ с… и т. д. и т. п.
Я отказываюсь – надо заметить, сразу же… Мы с Мун делаем три шага, очень тонкие и холодные руки ложатся мне на глаза: это Коко Шанель. Излияния чувств… более сдержанные:
– Пойдемте обедать в „Эскаль“ с… и т. д. и т. п.
Я отказываюсь все решительнее и решительнее и в сторонке замечаю Ириба, посылающего мне потшелуи. Потом он обнимает меня раньше, чем я успеваю прошептать необходимые заклинания, нежно зажимает мою руку между своей щекой и плечом:
– Как вы были злы ко мне… Вы обозвали меня демоном!
– Да этого еще мало! – говорю я. Он переполнен радостью и нежностью. Ему одновременно шестьдесят лет и двадцать весен. Он строен, морщинист, сед и смеется вовсю своими новыми зубами. Он воркует как голубь, что, кстати, любопытно, ибо ты найдешь в древних текстах упоминание о том, что демон заимствует голос и силу птицы Венеры…»
Почему Колетт боялась Ириба вплоть до того, что совершала заклинания при его приближении? Ясно, что новый «жених» Габриэль внушал ей живейшие подозрения. Нечто вроде звериной недоверчивости по отношению к чему-то поддельному? Она не была бы Колетт, не обладай она этим темным инстинктом.
Ириб был псевдоним, который взял себе Поль Ирибарнегаре, когда дебютировал как художник-сатирик в 1900-е годы. Почти ровесник Габриэль, он родился в 1883 году в Ангулеме в семье басков. И хотя приобретенный светский лоск, а также определенный космополитизм уничтожили всякую печать местного колорита, у него сохранился едва уловимый акцент, отсюда появившиеся под пером Колетт потшелуи, намек на выговор Ириба, на шепелявость, которую не сумели стереть тридцать лет парижской жизни.
Начало его карьеры напоминает Кокто: он так же был покорен тогдашними знаменитостями и глубоко поражен «красно-золотой болезнью», то есть безумной любовью к театру. Впрочем, к театру особому, которым тогда упивался Париж, – к водевилю. Но начинал Ириб тяжелее, чем Кокто. Его отец, журналист, противился призванию сына. Поль же мечтал только о рисовании. В шестнадцать лет его устроили в типографию «Тан». Через два года он бросил работу и записался на архитектурные курсы в Школу изящных искусств. Ирибу было всего семнадцать лет, когда «Ассьетт о бер»[113]113
Знаменитый сатирический еженедельник начала века.
[Закрыть] напечатал его первые рисунки, и двадцать три, когда он основал собственную газету, «Темуен»[114]114
Основанная в 1906 году, «Темуен» выходила в течение четырех лет.
[Закрыть]. Никто не умел лучше него одним штрихом, одной линией ухватить событие, и неважно, каким оно было, – серьезным, пустячным или несуществующим. Линия сделала его известным. «Темуен» публиковала также рисунки одного начинающего художника, который не уступал Ирибу. Он подписывался Жим. Два денди встретились. Жим был не кто иной, как Кокто. Иллюстрации обоих отличали решительность и резкость, предвещавшие холодную эстетическую дерзость середины двадцатых годов. Можно догадаться, чтó они давали друг другу. Старший, Ириб, мог обворожить Жима своей ненасытностью. Он был охоч до всего: до денег, почестей, женщин. Тогда как Ириба Жим привлекал тем, что был буржуа с прочными устоями и «трудился как бы ради удовольствия» (слова Колетт). Кокто поражал Ириба. Будь у него та же непринужденность! Как не повезло ему, что у него такое невозможное имя! Ах! Если б он мог провозглашать, как Кокто: «Я родился парижанином, я говорю по-парижски, у меня парижское произношение!»
Ириб отдал бы все, лишь бы раз и навсегда забыли, что он зовется Ирибарнегаре.
«Темуен», «редактируемый с большим остроумием и в новом духе», обеспечил Ирибу приглашение к Пуаре, это был первый этап столь желанного «опариживания». История известная, тот, кого звали Пуаре Великолепный, в деталях рассказал ее в своих воспоминаниях.
Но, возможно, на портрет Ириба, служащий преамбулой к тексту, не обратили должного внимания. Он интересен тем, что в большой степени подтверждает впечатления о нем Колетт. «Это был чрезвычайно любопытный молодой человек, баск, пухлый, словно каплун, похожий одновременно на семинариста и на старшего мастера из типографии. В XVII веке он был бы придворным аббатом: он носил золотые очки и широко распахнутые пристежные воротнички со слабо завязанным галстуком… Говорил он очень тихим, как бы таинственным, голосом и выделял некоторые слова, отчеканивая их по слогам, например: „Это ве-ли-ко-леп-но!“»
Ириб, стало быть, говорил, подражая элите, людям с достатком и хорошими манерами, которым он завидовал.
И вот знаменитый модельер объявил о своем намерении поручить Ирибу сделать рисунки по моделям его коллекции. Задание было невероятно престижно, ибо альбом предназначался в качестве дара «знатным дамам со всего света». Ириб попросил показать ему платья и тут же «едва не лишился чувств», воскликнув: «Это вели-ко-леп-но! Я хочу взяться за работу не-мед-лен-но». После чего объявил, что приведет к модельеру одну из своих приятельниц, «женщину у-ди-ви-тель-ну-ю», некую госпожу Д., которая в его платьях будет выглядеть «бо-жест-вен-но».
Полвека спустя поражает то, что, несмотря на две войны и несколько революций, язык, на котором изъяснялись в определенных кругах, так мало изменился. Значит ли это, что он неразрывно связан с определенным образом жизни и передается по наследству точно так же, как имущество и амбиции? Чтобы его услышать, достаточно заставить заговорить нынешних щеголей, – не надо менять ни одного слова, ни единой интонации. Любопытно, что Ириб, так мечтавший стать горожанином, по духу своему был перекати-поле. Поэтому операция по «опариживанию» не сразу дала свои плоды. Именно об этом и пишет Пуаре: «Надо же было такому случиться, что Ирибу понадобились деньги. Я заплатил ему некую сумму за первые рисунки, и он исчез. Мне показалось, что он не возвращался довольно долго. Я забыл спросить у него его адрес. Когда он принес мне кроки, я был в восторге от того, как он понял и интерпретировал мои модели, и попросил его побыстрее закончить работу… И прежде всего, сказал я ему, дайте мне ваш адрес, чтобы я мог писать вам. Он ответил мне, что у него нет постоянного адреса в Париже, но что он каждое утро завтракает у госпожи Л. Получив новый аванс, он снова удрал. На сей раз мне удалось с большим трудом отыскать его и добиться от него окончания работы. Помнится, мне даже пришлось прибегнуть к серьезным угрозам… Наконец он прислал мне последние оригиналы, и работу можно было сдавать в типографию». Нам известен этот труд, находящийся сегодня в библиотеках артистов и любителей искусства. Он называется «Платья Поля Пуаре, глазами Поля Ириба» (1908 год). Каждой государыне Европы был адресован один экземпляр. Все положительно отнеслись к великолепному подарку, за исключением английской королевы, которая вернула его отправителю с письмом своей статс-дамы, где модельера просили впредь воздерживаться от подобных посылок…
Ириб без гроша в кармане, Ириб без постоянного места жительства, ожидающий авансов, чтобы отправиться в богатые кварталы, где им восхищалась и где его кормила госпожа Д., – все в этом описании вызывает противоречивые чувства. Кто он на самом деле, соблазнитель или жиголо?
Только оформив свое сотрудничество с Кокто как ассоциацию, Ириб окончательно приобрел прочное положение в Париже. В 1914 году они вместе создали «Мо», отойдя таким образом от обычной журналистики, чтобы испробовать новую, пока еще мало изведанную форму «шикарной» журналистики, где главное место отводилось рисунку. Два года ученичества, проведенные среди типографских рабочих, принесли свои плоды: Ириб был несравненным специалистом. Оформление «Мо» явилось событием. Помешала война. Она лишила «Мо» всякой надежды на выживание. Год спустя газета перестала выходить. Но для Ириба наступил поворот в карьере. Роскошь во всех ее проявлениях становилась единственной его заботой, и это несмотря на то, что наступивший мир не только не стал новым золотым веком, но и явился его отрицанием. Европа удовольствий была мертва? Париж такой, каким он представал на страницах «Мо», не существовал? Неважно! Единственный в своем роде, Ириб, любивший только богатство, искал спасения в отрицании реалий времени. Это не помешало ему числиться среди лучших творцов форм и материй тех лет. Ибо ему удалось сделать невозможное: он создавал мебель, ткани, ковры, украшения, категорически отказываясь приносить жертвы принципу геометрического упрощения, столь привлекавшего его современников[115]115
В частности, он – автор необыкновенно пленительных тканей. Крупные коллекционеры, такие, как Робер де Ротшильд и Жак Дусе, заказывали ему мебель.
[Закрыть]. Он не мог смириться с тем, что искусство посредством и ради роскоши потеряло свою привлекательность. Что касается изменений, происшедших с Парижем, потери Францией «морального контроля над миром»[116]116
Paul Morand. Venises.
[Закрыть], он не хотел их признавать. Ириб тосковал по «французскому величию», даже если внешне оно принимало формы самые ничтожные. Роскошь была для него национальным достоянием, которым ни в коем случае нельзя было делиться, и он находил символическую ценность в любом творении ремесленника. Одежда, украшения, прически, вышивки, всякого рода аксессуары – неважно что, главное, чтобы в них была прелесть, – являлись частью национального престижа, и он был их воинствующим хранителем. Отсюда – до того, чтобы считать элегантность символом определенного образа мыслей (разумеется, высших классов) и врожденным качеством (подразумевалось, что она недоступна людям скромного положения, могущим претендовать только на шик), оставался всего один шаг. Этот шаг был с легкостью сделан как в раз в то время, когда начиналась его идиллия с Габриэль.
Самое удивительное в их отношениях было то, что, выбрав Ириба, Габриэль, казалось, захотела передать ему часть своих полномочий. Не это ли заставило Мисю говорить, что Габриэль любит впервые в жизни? Нельзя было не видеть, что определенным образом Ириб удовлетворял одновременно всем ее пожеланиям. Наконец, рядом с ней был человек, для которого вопросы социального происхождения не имели значения, в отличие от того, что ей пришлось перенести с Боем; человек, которого не подавляло его семейное прошлое, короче, противоположность Дмитрия и Вендора; человек творческий, достаточно близкий к миру искусств, чтобы она чувствовала себя в согласии с ним, но вместе с тем свободный от проклятия, обычно тяготеющего над артистом и поэтом. В общем, это ей и было надо, чтобы забыть Реверди. Наконец-то Габриэль вырывалась из-под ига гениев.








