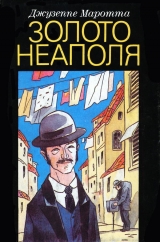
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
Дорогая мама
Как-то однажды в течение целого нескончаемого месяца я писал полные любви письма своей матери. Помнится, было мне в ту пору восемнадцать, я работал в неаполитанской газовой компании, а мать продолжала служить у графа М., который с улицы Милле переехал на Монте-ди-Дио; она стирала и гладила для него лучшие в мире крахмальные рубашки, вытирала пыль, подметала, отвечала по телефону: «Да, ваше сиятельство, господина графа нет дома, но он скоро будет; нет, ваше сиятельство, мажордома тоже нет, это говорит горничная, Кончетта», а когда все дела бывали переделаны, она смотрела из окна в сад Калашоне, который, смеясь и приплясывая, спускался с Монте-ди-Дио к площади Мартири. Сад Калашоне – это кратчайший путь к площади, но путь совершенно безумный: какая-то дикая неразбериха ступенек и клумб, водопад дорожек, обрамленных остроконечными камнями, похожими на зубчатое колесо; этот кратчайший путь ведет к площади, смеясь и приплясывая, но при этом так, что никто не может воспользоваться им даром, то есть не заплатив сторожу одного сольдо дорожной пошлины; правда, говоря «никто», я имею в виду разве что колченогих или тех, кто просто не знает, где нужно срезать угол и в четыре прыжка оставить позади домик сторожа, выкраивая таким образом из кратчайшего пути еще более краткий. Мать часто глядела на зеленую пену Калашоне и думала: «Вот я была бедна, потом вышла замуж и стала дамой, а теперь овдовела и снова впала в бедность. Сад, объясни мне, что это – Бог, который, как и мы, сначала делает, а потом берет сделанное обратно, или просто колесо фортуны, которое вертится себе и вертится?» Думаю, что порой она еще и фантазировала, населяя Пиццифальконе элегантными господами, которые раскланивались с нею, приподнимая цилиндры, и совсем другими, теми, что обращались с ней совершенно иначе – грубо и бесцеремонно. Наиболее реальным из этих последних был сам граф М., который спросил как-то у матери, что она предпочитает – уволиться или поехать с ним на два-три месяца в Монтекарло (там он намеревался отлучить от груди, бросив на зеленое сукно игорного стола полученное наследство); она попросила у него несколько дней, чтобы подумать, и вернулась в тот раз домой с распухшими глазами, она не знала, как ей из всего этого выпутаться.
Мы жили на улице Пурита[10]10
Пурита – чистота (ит.).
[Закрыть] в районе Матердеи[11]11
Матердеи – Божья матерь (лат.).
[Закрыть] в маленькой комнатке с игрушечными окошками, которые выходили в Снежный переулок. В каком смысле он был Снежный? Ведь он сплошь состоял из угольных лавок, сапожных мастерских, грязных подвалов, и населяли его преимущественно нищие продавцы фруктов, которые в качестве витрины использовали два сдвинутых вместе стула, с трогательным искусством раскладывая на них кучки фруктов ценой по лире за каждую: два ореха и мушмула, апельсин и горсть вишен, три миндалины и помятый абрикос. Так почему же, собственно, Снежный? Населяющий его прокопченный народец мог вспыхнуть в одну минуту, затевая ссору: мужчины запросто ломали друг другу кости, а женщины, которых силой удерживали на пороге соседи, часами поносили друг друга: стоя на своем пороге, как на сцене, и воздевая к небу руки, они обрушивали друг на друга целые литании жесточайших оскорблений и ругательств, слыша которые мать бормотала: «Господи, помилуй» и которые ближе к вечеру смешивались с побрякиванием колокольчика, возвещающем о возвращении какой-нибудь степенной коровы в стойла Фонтанелле.
В ту пору мы жили с матерью вдвоем, сестры вышли замуж; мы спали с ней в той самой кровати с медными спинками, на которой я родился; днем я уже чувствовал себя настолько мужчиной, что не боялся вступать в долговые отношения с самыми свирепыми из неаполитанских ростовщиков, но ночью я вновь становился ребенком: мне нравилась ее рука в моих волосах, нравилось ощущать, закрывая глаза, смутный запах колыбели, который еще помнила моя кровь.
Я надеялся, что мать не знает, как глубоко я увяз в своих сделках с ростовщиками. В тот период ростовщики были хозяевами города. Они брали фантастические, прямо-таки разбойничьи проценты. Выходя в дни получки из здания газовой компании на улице Кьяйя, мы оказывались с ними нос к носу: в одной руке они держали книжечку с векселями, в другой – суковатую палку, самый вид которой, казалось, говорил: «Господа хорошие, да кто у вас их когда спрашивал, да и вообще на что они нам, векселя?» Меньше чем за год эти ангелы ограниченного кредита запутали меня так, что после расчета с ними от моего жалованья не оставалось почти ничего; на другой день я снова вынужден был прибегать к их услугам; вынув деньги из облупленной шкатулки или перевязанного веревкой бездонного портфеля, они протягивали их мне с глубочайшим вздохом, словно намекая на то, как они будут безутешны, если им придется набить мне морду.
Тем временем мать обдумала предложение графа М., но не знала, как сказать об этом мне. Наконец однажды, когда мы уже засыпали, она сказала:
– Пеппино, ты почти не даешь мне денег на хозяйство… Нет-нет, я ведь ничего не говорю, пусть, но так можно, только пока я работаю… А вот теперь… граф…
Мы шептались бесконечно долго, и ее рука все время перебирала мои волосы. Она спросила, смогу ли я прожить без нее один-два месяца.
– Ты, – сказала она, – мог бы не тратить свою получку разом, а разделить ее по дням месяца – так, чтобы у тебя всегда было на самое необходимое? Сможешь ты так сделать?
– Ну конечно, – ответил я, – я же не ребенок.
Я сумел в этот момент унять биение своего сердца и его не подхватили чувствительнейшие медные шары на спинке кровати: малейшее позвякивание меня бы выдало. Вот так она и уехала вместе со всеми прочими слугами графа в сказочное Монтекарло; вряд ли она представляла себе, как скоро начнутся мои несчастья, но все равно плакала; так уж она была устроена, моя мать, слезы сразу же находили на ее щеках проложенные раньше дорожки, и откуда, откуда бралось у нее столько слез?
Оставить меня на собственное попечение, меня, который всегда был сам себе отчимом? За несколько недель я промотал сложенные из разных поступлений несколько сот лир, которые сумел раздобыть у старых своих ростовщиков (к тому же я завел еще несколько денежных знакомств – весьма сомнительные лица, весьма сомнительные клички!), и оказался полностью на мели. Для того, кто ест мало или не ест ничего, улицы Неаполя – это настоящая насмешка: повсюду, куда ни глянь, гигантские сыры, полумесяцы окороков, колышущиеся в воздухе, как тела одалисок, горы творожной массы, толстые колбасы, у которых на срезе круглые вкрапления жира кажутся серебряными монетками, связки сосисок, но главное – закусочные и пиццерии с их старинным, вечным, безыскусным запахом – запахом очага и сковородки, тем запахом, что попадает в нас не снаружи, а живет внутри нас, и всегда оживает – то сильнее, то слабее, – стоит нам произнести: «Дом, семья, земля». После работы, чтобы не мучиться понапрасну на улицах, я спешил домой. Помню, стоял июнь, и окошечки наши никогда не темнели, словно никогда полностью не наставала ночь. Пошарив по углам в поисках пищи в безумной надежде на чудо (как-то я выпил, приправив его солью, остатки оливкового масла, найденного мною в какой-то бутылке; с корочками от сыра, обнаруженными внутри терки и несколькими луковицами, завалявшимися в корзине, тоже было покончено; и раз сто, наверное, я все брал и нюхал бутылочку из-под уксуса), я начинал страстно, до болезненности ощущать себя сыном своей матери. Я думал о ней не с тем ленивым поверхностным чувством, что всегда: теперь ее любили сами мои кости, ей воздавало хвалу все мое тело, я благодарил ее за руки, за глаза, даже за голод; наконец-то я не страдаю, я беспокоюсь только о тебе, жалею только тебя. Моя мать в Монтекарло! Вагон люкс, граница, церкви, которые ее не знают, всюду иностранцы; граф М. с карманами, раздувшимися от жетонов, или, наоборот, отвергнутый Фортуной; прислуга, довольная или испуганная, которая исподтишка за ним наблюдает. Неужели это правда – моя мать в Монтекарло, гладит на столе Монтекарло, и, пока гладит, Снежный переулок утюжит ей сердце, как утюг в ее руках – сверкающее белье. Каждый платочек, который она берет из кучи и опрыскивает водой, – это смертная простыня, под которой прячется мое лицо, избегающее ее взгляда, стыдящееся ее.
Да, именно это говорил я ей в полных любви письмах, которые начал тогда писать: я стыжусь самого себя. Мне стыдно, говорил я, что я не заработал себе на хлеб, мне стыдно, что я ем твой хлеб, хлеб, который приходит почтой из Монтекарло в маленьких французских банкнотах. Дорогая мама, говорил я ей, как ты сумела догадаться, что я сам себе отчим, как ты обо всем догадалась? Ничего, наверное, из меня не выйдет, мама, но что будет с тобой? Да-да, не беспокойся, я питаюсь теперь регулярно; ты замечательно мне их посылаешь (по частям, чуть ли не каждый день) – и свое жалованье, и чаевые, заработанные в Монтекарло. Я так тебя люблю, говорил я ей, я никогда этого не забуду, я знаю, что это останется со мной на всю жизнь.
Дорогая сестра
Целую вечность я не видел свою сестру Марию. Я очень ее любил, когда был маленький. Хотя я был младше всего на два года, она учила меня всему, что знала, и плакала и смеялась, когда я смеялся и плакал; она была матери как бы третьей рукой. Однажды, когда мы только что переселились из Ирпинии в Неаполь, следуя за неизлечимым кашлем отца, нас с Марией послали в соседнюю лавочку купить на два сольдо кофе, и мы заблудились в окрестных переулках. Шестилетний мальчик и восьмилетняя девочка ищут дом, в котором живут всего несколько часов; они не помнят названия улицы, они знают только, что к двери ведут три ступеньки и что привратник хромой; каждый жалеет себя и другого, оба плачут, обнявшись, словно пытаясь защититься таким образом от всего, чем чревата случившаяся с ними беда; на каждый жалостливый вопрос они отвечают, что привратник хромой, а ступенек три. Впрочем, этого в конце концов оказывается достаточно. Ведь в Неаполе вам стоит только сказать: «А не видели ли вы волну такую-то посредине моря?» – как кто-нибудь из только что подошедших после короткого раздумья уверенно покажет вам на нее пальцем. Как те зернышки кофе, которые сжимал я тогда в руке, так воспоминания о пережитом страхе еще и сейчас хранят силу и аромат в моем сердце: я мог бы смолоть их, вскипятить и пить сколько хочу. В течение нескончаемых минут мы с сестрой чувствовали себя сиротами, мы подсознательно ощутили то, что нам еще только предстояло пережить, нас словно предупредили тогда на чужом, непонятном языке о том, что скоро мы потеряем все: даже горькое утешение страдать вместе.
Да, но разве любят они друг друга, дети семей, задавленных нуждой? Когда суп разлит по тарелкам (мать всегда разводит его до полной прозрачности, чтобы было больше), когда хлеб нарезан и каждый подсчитывает поры в чужом куске, в этот момент – спрашиваю я вас – в этот момент любят ли друг друга братья и сестры, любят ли они друг друга за столом? «Сегодня умрешь ты, и твою порцию съем я, а зато завтра умру я – хорошо?» – вот какие мысли лезут им тогда в голову.
Под неуловимыми движениями рук девочек еда словно испаряется, их острые зубки даже не пришли в движение – если хотите, можете проверить: их дыхание пахнет лишь конфетами, причастием и надеждой, – и тем не менее лучшего куска мяса уже нет… вот он был, вот еще следы соуса на тарелке, вон какой он был большой, с гребешком жира, или нет, лучше с бахромкой из нервных волокон, которую можно жевать целую вечность и после которой во рту надолго остается вкус жаркого и воскресенья. Больно толкают друг друга выставленные на скатерть локти, сквозь занавеску просвечивает алое солнце, вода в бутылке свинцового света, крошки подрагивают на скатерти от нашего дыхания; тот, кто в этом доме не питался бы еще и завистью, тот оставался бы вечно голодным. Дорогая Мария, я убежден, что вдали от тарелок наша взаимная привязанность была безгранична, каждому из нас следовало бы просить у другого прощения за свое воровское, в ущерб брату или сестре, появление на свет: прости меня за то, что я родился, дорогая сестра, ведь и я тоже, когда мы играем камешками или пуговицами на площадке лестницы, я тоже не вспоминаю о том, как это было несправедливо, что, родившись, я уже нашел в этом мире тебя; я не убиваю тебя, видишь, я даже целую тебя и треплю тебе волосы и засыпаю наконец на твоих тонких, как прутики, коленях. Вот оно, наше детство – каждодневная ненависть и каждодневное примирение: я хотел бы видеть тебя мертвой, черной среди белизны тарелок, и крестик на том месте, где была твоя ложка, но до обеда и после обеда я так тебя люблю!
Но хочешь не хочешь, а человек растет быстро. Сестра стала ужасно длинной, ноги свешивались у нее с кровати, и мать, проснувшись, укутывала их шалью, которая тут же разматывалась и свисала с них, как знамя, держась только на больших пальцах; сколько раз я смотрел на эту серую тряпку, когда утро навевало на меня свой сладкий и непрочный, свой обманчивый сон; солнце в этот час било прямо в лодыжку сестры, как в зеркальце, а на противоположной стороне кровати, на подушке, я видел ее волосы, казавшиеся в полумраке странно синими, и думал: «Какая она красивая!»
Дорогая Мария, в ту пору ты стала настоящей красавицей, стройная девушка с огромными глазами и ртом, испуганным и восхищенным робкой лестью губной помады; все это наполнило меня новой ненавистью, я стал ревнив, я караулил тебя, я тебя тиранил! Я был тогда очень горяч и схватывался со всяким, кто слишком долго смотрел на Марию, я устраивал дома и на улице сцены, вспоминать о которых мне сейчас немножко стыдно и немножко смешно. Закрой это окно, я не хочу, чтобы ты читала Да Верону, а я тебе говорю, перестань дружить с этой Капеццуто и т.д. Она упрямо сопротивлялась. Непослушание так естественно в женщине, она говорила «да», а в самом деле это было «нет»; однажды я схватил ножницы и обрезал ей волосы.
За этим для бедной Марии последовало два месяца домашнего заключения; она отомстила мне тем, что стала притворяться безумной и безучастной! Например, вместо того чтобы есть, она брала макаронину и накручивала ее себе на палец, бормоча: «Завтра я выхожу замуж», а то вдруг начинала петь хриплым мужским голосом, словно пародируя Вивиани, но лицо при этом у нее было серьезное и страдающее, словно отторгнутое от тела, которое существовало само по себе; а иногда она три-четыре часа подряд мыла руки в тазике: окунет и вынет, вынет и окунет. «Не обращайте на нее внимания, – говорил я, – она разыгрывает комедию». Но однажды я заплакал на груди у матери, и Мария наконец выздоровела.
Дорогая моя сестра! Появился мужчина с торжественным предложением руки и сердца, и самые влиятельные из наших родственников сумели оградить его от меня. Вот когда мы расстались уже навсегда, я и Мария; время, когда она учила меня всему, что знала, прекратило свое течение, оставшись за этим поворотом. Я приходил домой все позже, чтобы не встречаться с Анджело; они сидели на террасе, и бабушка сторожила их, перебирая четки. Помню, что как-то раз бедной старухе понадобилось отлучиться, но она столь твердо решила ни на минуту не прерывать своего бдения, что лишилась чувств – потом ей сделали внушение врач и исповедник. По воскресеньям обрученные выходили гулять вместе со всей семьей, целой маленькой процессией; меня тоже приглашали, но я говорил: «У меня есть дело» – и исчезал; однажды мы столкнулись лицом к лицу, когда они выходили из кинотеатра «Зала Рома», я поздоровался, притронувшись к шляпе, и, не обернувшись, прошел мимо; я чувствовал себя одержимым и проклятым, как Отелло, огни улицы Толедо мгновенно потухли, и вскрикнула скрипка в руках у нищего. Когда Мария вышла замуж и уехала, меня то ли не было в Неаполе, то ли я был болен.

С тех пор в течение более чем двадцати лет мы почти не виделись. Разрыв так и остался окончательным; мы знаем друг о друге, что мы живы, но это все. Она живет в городе, в котором мне никак не удается побывать; правда, ко мне часто приезжают ее дети. Ее третий сын, Ренато, учится в миланском университете. Он мне нравится. Мне кажется, он очень похож на моего сына. Мы гуляем, болтаем, но я сам не слушаю, что говорю. В это время я незаметно его рассматриваю, изучаю, расспрашиваю. Расспрашиваю его запястья, его волосы, его походку, его манеру смотреть на людей и на вещи, на свет и на тьму. Дорогая сестра, сейчас у каждого из нас свое собственное небо над головой и своя собственная почва под ногами. Так что же, от этого мы больше не брат и сестра и даже не друзья? Но кто знает тебя лучше, чем я? Мне хотелось бы предъявить тебе какой-нибудь счет, последний счет, который после стольких лет разлуки снова связал бы нас друг с другом. Но я ничего не могу придумать. Может быть, упрекнуть тебя в том, что не мои руки ты будешь сжимать, умирая, и не твою руку я буду искать в такую же ужасную минуту? Какая чушь! Вот разве что Ренато… Ведь когда ты его носила, ты была еще переполнена нашими общими воспоминаниями. Он болтает себе, болтает, а меня так и подмывает прервать его восклицанием: «А помнишь, как тот старичок прищелкнул пальцами и закричал, что хромой привратник – это, конечно же, дон Эудженио, и привел нас домой в один миг? А помнишь, как хотелось есть летними вечерами, когда день все не кончался и не кончался? А помнишь, как я сходил с ума, когда ты сказала, что не бросишь дружить с Капеццуто, и если бы я не заплакал, ты так бы и не уступила? А ты никогда не чувствуешь, засыпая, что со щиколоток у тебя свисает старая шаль? Помнишь? А помнишь?» Прости меня, дорогая сестра. Я сам не знаю, что говорю. Конечно, я никогда не стану так разговаривать с Ренато.
Хлеб с солью и оливковым маслом
Вот что я вам скажу: сегодня мне хочется хлеба с солью и оливковым маслом. Такое желание возникает у меня довольно часто, без особых на то причин, я чувствую, что мне хочется хлеба с солью и оливковым маслом, но не спрашивайте меня почему, я не смог бы объяснить; видимо, хлеб с солью и оливковым маслом так же входит в нашу наследственность, как цвет волос или предрасположенность к туберкулезу. В Неаполе хлеб с солью и оливковым маслом – это предпоследнее из возможных блюд, он идет сразу за супом из требухи, а прямо за ним уже только семечки или просто ничего. Появление хлеба с солью и оливковым маслом в неаполитанском доме означает, что все кончено: кончились деньги, кредит и молитвы, – но и тогда в кухонном шкафу всегда найдется несколько капель масла на дне бутылки, кусок черствого хлеба, щепотка соли в банке и сладкая вода Серино[12]12
Серино – источник в окрестностях Неаполя.
[Закрыть] из ближайшей колонки. В наших краях согласны с тем, что хлеб с солью и оливковым маслом – это фактически суп, но никогда, с тех пор как он впервые появился на столе, его не подают между закуской и вторым блюдом; и тем не менее это, конечно же, суп, тем более что летом его хочется есть холодным, а зимой – горячим; впрочем, в нашем доме отдавали предпочтение нейтральной – ни теплой, ни холодной – воде из бутылки, которая ни то ни се.
Я тоже умею готовить хлеб с солью и оливковым маслом; в 1926-м в Милане я пробовал это дважды, и оба раза получилось очень хорошо. Не нужно обращать внимание на свинцовый цвет, в который окрашиваются, пропитываясь водой и разбухая, куски хлеба; нужно аккуратно полить их маслом и посыпать солью, а в худшем случае просто вообразить, что вы это сделали: в конце концов вы все равно сядете и все съедите. В нашем доме, когда на обед или ужин подавали хлеб с солью и оливковым маслом, было принято не застилать стол скатертью: нам казалось, что для стола это траур даже больший, чем для нашего аппетита, и мы уважали его горе. Мать, правда, говорила: «Ах, если б это видел ваш отец», но и только; обычно она легко плакала, но слезы могли бы испортить суп, а какой смысл был есть его пополам со слезами?
Мой отец был важным господином, хлеб с солью и оливковым маслом достался матери от бабушки, он дошел до нас бог знает из каких бурбонских, из каких плебейских далей.[13]13
Имеется в виду вековая нищета неаполитанского плебса, долго жившего под властью Бурбонов.
[Закрыть] Ребенком я слышал, что мой прадед, Антонио Фиорентино, который и в восемьдесят лет продолжал хвататься за нож, умер на тротуаре около Порта Сан Дженнаро, грызя сладкий рожок: рожок тут же подобрал невесть откуда взявшийся оборванец и вонзил в него зубы за здоровье деда. Мою бабушку звали Тереза. Сейчас я коротко расскажу вам о ее жизни, от начала и до конца заполненной битьем поклонов в церкви и хлебом с солью и оливковым маслом; если ее образа еще нет в алтаре, то только потому, что о ее добродетелях знаем лишь мы; но когда-нибудь я расскажу о них в анонимном письме епископу, и посмотрим, посмеют ли они не причислить ее к лику святых! Осиротев в пятнадцать лет и не получив в наследство даже сладкого рожка, который стал последним ужином дона Антонио, бабушка посвятила себя святым и работе. Она шила солдатские мундиры, одевая наши войска для всех войн от эритрейской до ливийской, но те часы, когда колесо швейной машинки останавливалось, потому что уже не было света или потому, что его еще не было, она неизменно проводила в церкви. И если не попадет на небеса человек, выстаивавший от начала и до конца все богослужения – и великопостные, и страстные, и майские в честь Девы Марии, и двухдневные в честь Священного Писания – и способный твердить одну и ту же молитву по три дня кряду, то, значит, на небеса вообще нельзя попасть!
Спрятавшись, как сверчок, среди свечей и статуй, моя бабушка в течение пятидесяти лет оглушала господа бога своими неутомимыми «Tantum ergo»,[14]14
Начало католической молитвы.
[Закрыть] она молилась и просила прощения за то, что не знает смысла латинских слов, которые произносит, и молилась она, разумеется, с куда большим рвением и куда более твердой верой, нежели те, кто говорит богу в точности то и только то, что говорит.
Однако и это, и колючее сукно солдатских мундиров, и отполированные ее коленями ступени перед всеми алтарями не помешали ей в свое время быть красивой и внушать любовь. Дон Фердинандо Аволио был тоже беден и жил шарманкой, на которой восседала обезьянка по имени Асмара, чьей единственной пищей были, по-видимому, собственные ее блохи. Бабушка и слышать о нем не хотела, покуда он не пригрозил, что покончит с собой; но я-то живу на свете только потому, что спустя несколько дней после свадьбы дон Фердинандо обратился с последней своей жалобой к исповеднику невесты, который, как умел, вмешался в происходящее и все уладил. Однако брак оказался несчастливым, дон Фердинандо вскоре куда-то исчез вместе со своей четвероногой подругой, и никто о них никогда больше не слышал. Бабушка поведала о случившемся Мадонне Семи Скорбей, выкормила дочь хлебом с солью и оливковым маслом, выдала ее замуж, потом получила обратно вдовой, была счастлива, когда брала меня на руки и учила именам святых, и целовала меня в лоб, когда на вопрос: «Как жила Дева Мария до семнадцати лет?» – я безошибочно отвечал: «Голодала».
От ее шали и бесчисленных юбок исходил запах, который я помню до сих пор – слабый, простой, здоровый, как у хлеба с оливковым маслом: так пахнут несправедливость, с которой пришлось примириться, долги, которые пришлось простить, отвергнутые искушения – в общем, то был запах, который говорил: «Да будет воля всех!»
Никто не мог сравниться с моей бабушкой в искусстве приготовления хлеба с солью и оливковым маслом: только что мы заглядывали в буфет и ничего там не нашли, но стоило пошарить там ей, как откуда-то тут же появлялось несколько огрызков хлеба; пустую бутылку она выжимала до тех пор, покуда та не давала хотя бы одну каплю масла толщиной с волосок; затем надо было, чтобы вода пропитала каждый кусок, но при этом не лишила его плотности – речь, собственно, шла о своего рода воскрешении, обновлении хлеба; и, наконец, оставалось только распределить несколько капель масла так, чтобы ни одно не пролилось на блюдце и все они остались внутри хлеба и таким образом пошли на смазку петель нашего молодого голода: эти петли так легко ржавели и начинали скрипеть!
А кто лучше моей бабушки умел отказываться от своей доли еды? Мы слишком поздно узнали, что она еще помогала чужим людям, каким-то беднякам; смешно даже подумать, какую она могла подавать милостыню, но в последние годы она жила именно так, как Дева Мария до семнадцати лет, и кое-что ей поэтому удавалось сделать. Бабушка умерла в 1916 году от недоедания и долготерпения: она уже было проснулась, вздохнула, но тут же снова закрыла глаза. И только тут мы узнали, что, оказывается, она продала свое старое стертое обручальное кольцо для того, чтобы иметь возможность давать мне время от времени какую-нибудь мелочь – ей хотелось быть во всеоружии перед моим шантажом. В ту пору, ожесточенный хлебом с солью и оливковым маслом, я стал грубым и наглым парнем. Но стоило мне только произнести первый слог бранного слова или выразить малейшее сомнение в добродетели какого-нибудь святого, как бабушка, заплакав, спешила извлечь монетку из недр своих юбок.
Бабушка, молишься ли ты сейчас за меня? Если о твоих добродетелях я хочу сообщить епископу анонимно, то это только потому, что сам я никогда не был достойным человеком, не был даже тогда, когда ты покинула нас навеки. В тот день я написал в твою честь стишок, где «старушка» рифмовалась с «подушкой» и «верхушкой», но когда вечером оттуда, где ты лежала, окруженная свечами, донеслось вдруг легкое детское дыхание (разумеется, и это чудо тоже было разыграно в лотерею всем районом Матердеи, разве я мог о нем промолчать!), я выскочил за дверь и пошел на улицу Партенопе, чтобы посмотреть последнюю серию фильма «Серые мыши». Добавлю еще, что, обряжая тебя для погребения, мать обнаружила, что вокруг бедер ты носила вериги с толстенными узлами; и вот на этом, бабушка, твоя история заканчивается, хотя, если бы тебя подвергли еще и вскрытию, я уверен, оказалось бы, что позвоночник у тебя сделан из четок, из пятнадцати четок со всеми изображенными на них чудесами.
Повторяю – случается, что я думаю: «А поел бы я сейчас хлеба с солью и оливковым маслом». Годы, прошедшие с той давней поры, привели меня к совсем другой жизни и другим блюдам. Мой стол не ликует, но и не скорбит: на нем регулярно расстилается скатерть. Видимо, я не передам моим детям хлеба с солью и оливковым маслом, как передали его мне мои предки по матери: мои сыновья, вероятно, будут к нему равнодушны. Хорошо это или плохо? Когда я думаю, что охотно поел бы хлеба с солью и оливковым маслом, я не только сразу же ощущаю его вкус, я чувствую свою связь со всеми, кто ел его вместе со мною, связь гораздо более прочную, чем естественные узы крови. Моей первой семьи уже нет, старики умерли, сестры живут теперь своим домом. Но если я скажу: «Поел бы я сейчас хлеба с солью и оливковым маслом» и они меня поймут (в этом я не сомневаюсь), то можно ведь и попробовать! Давайте, Мария и Ада, давайте соберемся за моим или за вашим столом и расстелем скатерть.
Одна из вас разломит кусок черного хлеба, он такой сухой, что скрипит, когда его ломают. Потом положит кусочки в супницу и нальет туда воды, стараясь не перелить лишнего. Немножко соли, очень немного масла. Вы не можете ошибиться, ведь вы родились с этим умением. И вот мы начинаем есть. Нас затопляет ощущение свежести и грусти и соединяет нас воедино. Мы опять, как когда-то, сестры и брат, мы опять – один дом, и нам одновременно чудятся приближающиеся легкие шаги, родная рука перебирает нам волосы и по кухне разливается свежее детское дыхание.








