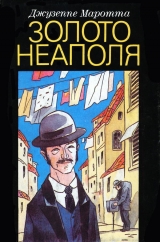
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Ветер в Генуе
Март в Генуе – месяц ветров. Человек просыпается раньше обычного, смутно встревоженный – так бывает, когда в прихожей вдруг прозвонит звонок и ты подумаешь: «Уж не телеграмма ли? Что-то случилось». Еще вчера, смыкая на ночь глаза, мы наслаждались полным покоем, тишиной и темнотой, превращающими вселенную в крохотную коробочку, которая может поместиться на ладони; но прошло несколько часов; на дворе март; в едва заметную щель в ставнях просачивается первый солнечный луч, завывая, как пламя в паяльнике; он втягивается в комнату и одну за другой расплавляет в ней все тени; это – ветер, это поднялся ветер.
Ах, эта наша привычка жить невнимательно! За словами «сегодня», «завтра», «время года», «снег», «море» в памяти у нас чаще всего возникает название гостиницы или просто конверт с нашим адресом (мы даже не смотрим на него: раз почтальон принес письмо нам, значит, оно наше), который мы, скомкав, выбрасываем сразу же после того, как пробежим взглядом лежавшие в нем листочки. Но, Иисусе, разве мартовский ветер – это тот же ветер, что дует в январе или октябре? И ветер Генуи разве похож на ветер Одессы или Парижа? Нет, к нам прибывает наш собственный, совершенно особенный, скоростной ветер, ветер экстракласса, а мы не удосуживаемся даже толком его разглядеть. Настанет день, когда господь бог выглянет из-за туч и крикнет: «Тысячи лет я ждал вашего суждения о ниспосланных вам мною северных сияниях, приливах, отливах, радугах, бурях, зверях, деревьях… Все, хватит!» – и тут же все отнимет: и только тогда мы внезапно и с горечью наконец все это увидим. Но подожди, господи, не надо обобщать, я, например, получив от тебя мартовский ветер, внимательно его изучил, я знаю об этом ветре все, что только можно знать.
Это не равнинный и не речной ветер, прямой, как автострада; это не ветер Вогеры или Феррары, который летит над широчайшими речными руслами, над маленькими, едва различимыми плотинами, летит бесконечно долго, меняя место своего обитания; но это и не массовый исход серой пыли и листьев, перемешанных с черепицей и кольями, вырванными из заборов; это ветер многообразный, переменчивый, прихотливый, который заключает в себе, резюмируя их, самые разные виды ветров. Лучше всего поджидать его появление на автостраде: сесть в кабину к Дацио и смотреть в окно. Огромные грузовики с раздувающимся брезентовым верхом везут ветер из Бузаллы, из Ронко, из Вольтаджо, из Александрии. Ветры пьемонтские и ломбардские обрушиваются на Геную с убийственной яростью, вылетая со стремительностью пули из нарезных стволов бесчисленных туннелей: их траекторию и проникающую способность может рассчитать разве что генерал артиллерии. Но город с его неровной, хаотической поверхностью – сплошные подъемы, впадины, пики – выступает либо как баррикада, о которую они вдребезги разбиваются, либо как огромная губка, которая поглощает их и утихомиривает. Ветер теряет здесь свою свирепость и выглядит иногда даже смешно. Тот, кто путешествовал вместе с ним из Милана или Турина, улыбается, видя его на улицах и площадях Генуи. За то время, пока он спускался к Генуе и лавировал вокруг горных вершин, в излучинах долин, над высокогорными тропами, под пролетами мостов, он испытывал примерно то же, что испытывает биллиардный шар, стукаясь о борт стола; вот почему тот священник входит на Римскую улицу боком, как разрезной нож в книгу; вот почему может показаться, что у прохожих на улице Ассароти только одно плечо, вот почему трехколесный велосипед на площади Фонтане Марозе каждые три минуты поворачивается вокруг собственной оси, вот почему такому множеству людей соринка попадает в левый глаз, а не в правый, хотя желают они в данный момент не любовницу, а собственную жену. Ветер пьяный, ветер свихнувшийся, ветер, ковыляющий на костылях – ты узнаешь себя во мне? Я родился на твоих коленях и от тебя унаследовал стремление к сглаживанию углов и неумение удержаться на ровной поверхности, и даже смерть мне из-за тебя представляется в виде трапеции из свечей, на которой я когда-нибудь повисну и буду раскачиваться, пугая мать и изумляя святых.
Куда только не проникает мартовский ветер в Генуе! Стонет в домах мебель и посуда, трепещет висящий на крюке халат, топорщится в комоде белье, вибрирует ус у кота, а в голове у вас щебечут мысли. Сколько забытых картин воскресает вдруг в памяти: вот я, девятилетний, торжествуя, выхожу из школы, ветер ищет и находит в табеле прекрасные отметки за вторую четверть; ветер перебирает волосы девушки, с которой я много лет спустя стою на лестничной площадке с настежь распахнутыми окнами; я судорожно целую ее платье, она прижимает его к груди жестом героя, обнимающего знамя, и так до тех пор, пока мы, разнеженные и исцарапанные, не свесимся из окна над лежащей внизу улицей и, слыша успокоительное утробное гудение осы, почувствуем себя почти как в деревне. Вообще, ветер следовал за мною или бежал впереди меня столько раз – и в горестях, и в радостях, и в прегрешениях, и в добрых поступках, – что теперь, когда я вспоминаю обо всем, что было, мне кажется, будто я прожил свою жизнь на карусели.
В марте на улицах Генуи бесполезно застегивать пальто даже на все пуговицы: ветер все равно до вас доберется, ваша одежда для него то же самое, что пробитый шлем храброго Ансельма; вы дрожите и правильно делаете – такой ветер охладит что угодно, будь то парочка влюбленных на горе Риги или доменные печи Корнильяно. Я говорю о свежем, только что прибывшем ветре, когда он не обрел еще прав гражданства и пока не начались тысячи его превращений. А не стать ли мне дегустатором генуэзских ветров? Я хорошо научился различать их разновидности, вот послушайте.
Есть ветер, расходящийся пучком: он взрывается в одной точке и раскрывается, словно веер – так разбегается испуганное стадо, и регулировщик на площади Феррари, который с заботливостью пастуха опекает то автомобилиста, то зазевавшегося пешехода, тоже стоит как будто в эпицентре такого ветра. Есть ветер, который к концу порыва как бы концентрируется в одной точке, словно заостряется: это ветер-рапира, он играет в прицельное попадание, стремясь поразить, скажем, только одну занавеску в кафе, только одну гвоздику в корзинке цветочника, только одну висюльку в единственной люстре в лавке электротоваров. Есть ветер, который подпрыгивает как блюдечко, горизонтально пущенное над водой: каждый удар о землю добавляет ему упругости и веселья; этот ветер делает женщин еще изящнее, заставляя их все время приводить в порядок и прямо-таки вынуждая их к скромности (это когда он ударяется в землю; а когда подскакивает, то наоборот, преследуя те же самые цели, он может объединиться с самим дьяволом). Есть ветер шершавый, колючий, а есть такой, как будто его отполировали ювелиры с улицы Лукколи. Есть ветер-дуновение, нежный, как пух, его так приятно подержать в пальцах. Есть рваный ветер, который дует порывами: тут абсолютная тишь, а в каких-нибудь ста метрах отсюда юбки и брюки кажутся нарисованными кистью художника, пребывающего в delirium tremens.[54]54
Белой горячке (лат.).
[Закрыть] В общем, в Генуе столько ветров, сколько ароматов и привкусов способен различить в хорошем вине человек, который знает в нем толк; потому-то я и хочу стать дегустатором ветров, а бокал, из которого я предпочитаю их пить, это морской берег.
Фоче и Лидо – это те места, где собираются ветры, уже разбитые Генуей. Никакой волны: неподвижная вода даже не колышется под ударами трамонтаны, лишь местами появляются на ней белые пенные гребешки – словно стая чаек опустилась на море. Под порывами ветра кое-где посреди синевы появляются, медленно растекаясь – так растекается кровь на биче, – темные пятна. Побледневшие паруса издали наблюдают за экзекуцией, которая и совершается, и принимается с одинаковым стоицизмом. Парусники, куда же вы? Эй вы, чемоданы, набитые ветром, возьмите меня с собой! А вот отважные туристы без пальто; солнце делает вид, что греет их, они делают вид, что не дрожат от холода. Грузовик сбрасывает землю в воду. Рыбак с удочкой возвращается домой. В том месте, где возводятся пляжные постройки, слышен стук молотков: пролетая над кабинками, у которых еще нет крыши, ветер высвистывает: «Это не я!» Какой-то человек положил на скамейку свою ношу: это контрабас, сойти с ума, это контрабас! Я бегу, насторожив слух и не веря своим глазам: я слышал голос ветра и моря в раковине, но как он будет звучать в самом тяжелом и торжественном из инструментов? Большой корабль берет курс на маяк, лоцман выходит ему навстречу на своем катере, ему сбрасывают лестницу, но ветер все время выдергивает ее у него из-под ног, превращая в подобие игольного ушка. К парапету подходит старик, вытаскивает из бездонного кармана обшарпанный бинокль, тщательно наводит на фокус и смотрит, смотрит. Кто он – престарелый переписчик, всю жизнь просидевший за бумагами, или, напротив, бывший моряк? Смотри, дедушка, смотри, разглядывай горизонт; та, которую ты ожидаешь, может быть, как раз оттуда и появится – против ветра, против ветра.
Неохотно опускается вечер. До какого часа продлится танец электрических фонарей на берегу моря? Успеет ли тень от клумбы перепрыгнуть через решетку и нырнуть в воду? Уже глубокая ночь, но генуэзцы спят вполглаза, так как ветер продолжает тоненько посвистывать у них в подушке.
На лужайке в Стурле подле стоящей особняком маленькой виллы никак не могут утихомириться несколько пустых консервных банок и бумажный сор: это сплошная, нескончаемая жалоба, печальное и тонкое стенание; хозяин дома к ним уже привык, как привыкли и мы с вами к мысли о смерти.
Святоши
Мы с художником Ченни поднимались по крутой лестнице в его студию на улице Святого Винченцо в Генуе. Это невзрачная, но многолюдная улочка, где что ни шаг, то лавка. «Нет уж, поровну так поровну, – говорило время от времени солнце осеннему дождю, начинавшему вдруг барабанить по крышам, – теперь моя очередь». Что ж, и в Неаполе в октябре происходит то же самое – тот же нескончаемый и неразрешимый спор, а что касается картин Ченни, то я и сам не знаю, почему мне захотелось на них посмотреть; я приохотился к живописи слишком поздно и похож в этом смысле на тех старых греховодников, которые в отчаянии призывают священника лишь после того, как врачи подтвердили им, что они обречены. Ну, в общем, Ченни сказал мне, что закончил недавно своих «Святош», и вот мы, слегка запыхавшись, поднимаемся по крутой лестнице; наконец мы добрались до полутемной площадки, где сидел кот моего приятеля, буравя темноту настойчивым вопрошающим взглядом, а из-за закрытой двери, словно ответная исповедь, пробивался к нему слабый свет. Ченни открыл дверь, мы вошли, и я увидел на мольберте картину – поразительную, но при этом совершенно простую, даже простодушную. Задача живописи состоит в том, чтобы побудить людей любить друг друга, а также предоставить возможность целенаправленного воздействия всем цветам, всем краскам как внутри нас, так и снаружи, которые без этого пребывают в состоянии бессмысленного бездействия или столь же бессмысленного, хаотического борения; вот почему хорошая картина поражает нас и в то же время успокаивает. Я смотрел на двух святош, написанных Ченни, и думал: «Да-да, это они, святоши, с их стертыми от поклонов коленями; это их потухшие лица, смешные и в то же время зловещие, лица той восковой желтизны, какая бывает у соломенных сидений церковных стульев; каменные лица, на которых застыли страх и решимость, а вокруг – тусклый свет исповедальни, и все остальное как будто прикрыто краем пыльной шали; да, это действительно святоши, все святоши, которых я знаю».
И я хочу о них поговорить. Потому что для меня настала пора их понять. Я не делаюсь святошей сам только потому, что этому противится пол, к которому я принадлежу; мой пол привык к сдержанности перед алтарями: он легко преклоняет колени, но сразу же после твердым шагом выходит из церкви; и хотя его взаимоотношения с Небом носят регулярный характер, они торопливы и чувствуется в них какая-то едва заметная уклончивость; в расцвете лет, платим ли мы налоги или веруем в бога, мы делаем это с одинаково вежливой добросовестностью. А вот святоши – нет, святоши рассуждают так: «Кто подарил нам дни нашей жизни? Ему мы и должны их вернуть». Церкви закрываются на ночь только для того, чтобы заставить святош отправиться спать, но достигают ли они этой цели? Так же как скульптурное изображение святой на собственном ее надгробии не покидает церковь даже глубокой ночью, так же в тиши дома рядом с робкой хвалой, которую возносит лампадка священному изображению, продолжает звучать и молитва святоши. Зимними утрами, когда, кажется, оледенело все на свете, только коралловые четки святош и сохраняют тепло; живым, находящимся в непрерывном движении, им не холодно, и чудится, будто каждая из святош держит в руке собственную аорту; облачко ее дыхания смешивается с кадильным дымом, и, слившись, они поднимаются вверх. Кто оплакивает мертвого за два часа до того, как гроб появится в церкви, и спустя два часа после того, как его вынесли? Святоша. Кто просит бога охранить невесту, которая слишком отвлекается звуками органа? Святоша. Кто говорит «Блажен ныне и вовеки веков» младенцу, который плачем протестует против воды и соли во время церемонии крещения? Святоша. Она везде, она всюду, со всеми своими юбками и вздохами, с бесконечными своими изъявлениями благодарности. А как вы думаете, почему все-таки настает минута, когда она встает и, рассыпаясь в извинениях перед каждым святым, самым длинным кружным путем пробирается к выходу? Повиновалась ли она скрежету ключа, которым в темноте орудует в дверях церковный сторож, или самому богу, которому пришлось специально явиться сюда, чтобы закричать: «Хорошо, хорошо, я все решу потом, а сейчас хватит, можете идти». Бог вынужден быть резким – иначе святоша умерла бы прямо в церкви от голода и усталости.

Я хорошо знаю святош, Ченни, знаю их платья, их черные покрывала. Сколько же пришлось им молиться, если отсчитывать от эпохи катакомб до сегодняшних дней; море могло сто раз заполниться их слезами! Святоши – это определенный сезон человеческой жизни, и как приходит осень на улицу Святого Винченцо, так для каждого из нас приходит пора их понять. Чего они хотят от бога, эти смиренные батрачки молений? В религиозных церемониях они занимают самое последнее место. На самом верху сияет белая звезда святого духа, за ним следуют Дева Мария и апостолы, святые и блаженные. У подножья алтаря епископ со своей свитой, священники, дьяконы, протодьяконы и небольшая группа лиц низшего ранга. Потом монахини, монахи, те, кто, не имея духовного звания, работают в монастырях, семинаристы, слушатели духовных академий. Затем знатные прихожане, затем верующие из случайных посетителей. И после всех – святоши. «Ite, messa est»,[55]55
Ступайте, служба окончена (лат.).
[Закрыть] – провозглашает отправляющий богослужение, но святоши не уходят. Скорее уйдет, поднявшись с крышки своего саркофага, мраморная святая. Они не только не уходят, именно этот час, когда гасильник, дотянувшись до каждой свечи, гасит один огонек за другим, и есть их час. Сгрудившись в каком-нибудь одном углу, они запевают литанию или гимн. А если близка пасха, то переходят от изображения к изображению, заново переживая все этапы крестного пути: вот в Гефсиманском саду на теле Иисуса выступает кровавый пот; вот он воскресает на третий день; он глядит на неутомимых служительниц благочестия из каждой старинной рамы, и совершенно очевидно, что только благодаря им он и добрался до той горы, где принял положенную ему муку и славу, разрешив смерти коснуться своего тела.
Год состоит для святош из пасхальной недели, месяца Девы Марии,[56]56
То есть мая, во время которого происходят богослужения, связанные с культом богородицы.
[Закрыть] рождества, поста, вознесения, праздником Двенадцати Евангелий и не менее изнурительных будничных богослужений; о существовании остального мира они знают только потому, что иногда в церковь заглядывают миссионеры, которые рассказывают с амвона о Китае, или Боливии, или Австралии; это им, вновь открытым людям и землям, посвятят они отныне ежедневные дополнительные «Да святится» или «Хлеб наш насущный».
Не думай, Ченни, что, когда бронзовые врата затворяются, все они, до последней, выходят из церкви. Кто чистит медь вместе с церковным сторожем? Кто снимает паутину с ушей и пальцев святых? Кто заботится о хлебе для празднества святого Антония и оливковой ветви для вербного воскресенья? Это они, святоши, снуют по церкви с тряпкой в руке, без устали преклоняя колено перед каждым алтарем. Иногда любопытная луна, заглядывая в высокие окна, ищет и находит их здесь даже ночью – так лунный луч вдруг освещает в лесу мертвое тело.
В сущности, что мы знаем о святошах? Среди них есть здоровые и больные, много старых и уродливых, но есть молодые и красивые; та – девственница, а у этой было десятеро детей; одни из них бедны, другие богаты; у этой нет никого, кто бы о ней позаботился, а ее соседка по скамейке упрямо, даже яростно сопротивляется всем изъявлениям любви со стороны бесчисленных родственников. Отчего это, Ченни? Ты, который так хорошо нарисовал двух своих старушек, показав нам их восковые желтые души (такая желтизна бывает у соломенных сидений церковных стульев), можешь ты догадаться, почему они стали святошами?
Так вот, это знаю я, с тех пор как года мои устремились к пределу, который я еще не ясно различаю, но который не может быть слишком далеко. Так что же, в сущности, со мною происходит? Да, конечно, у меня есть дети и работа, а еще планы, надежды, знакомства – все это так. Конечно, мне не все равно, день сейчас или ночь, холодно мне или тепло, сладко или горько. Но ко всему, чем я занимаюсь, я отношусь теперь как-то отстраненно – без прежней пылкости, без прежней страсти. Я сижу на крыльце и молчу, и мне все равно, что я держу между коленями – лопату ли, двустволку или гитару: я смотрю на них и не двигаюсь. Солнце может остановиться, или вернуться вспять, или упасть – напрасно вы будете стараться обратить на это мое внимание, напрасно будете звать меня бежать вместе с вами, вместе с вами кричать. Или наоборот – какая-то неожиданная удача, нужно радоваться, и я согласен: да-да, я тоже приду, непременно, но попозже… завтра. Повторяю, что же все-таки со мной происходит? Я так изменился, и мне кажется, что и у хлеба с водой тоже изменился вкус; и на всех лицах совсем новое выражение, которое мне не интересно – такое выражение бывает у людей, пересекающих границу, когда во время бесконечных перемещений на таможне их чемоданов они смотрят друг на друга, но не видят.
Ну, а потом – будущее. Куда клонится история моей жизни? Хорошая или плохая дорога откроется мне за поворотом? Может быть, там я низвергнусь, как низвергнулся тот луч, который миллион лет назад оторвался от далекой звезды, но миновал пока лишь коротенький отрезок своего пути к нам. Вот так и Адам, может быть, еще не добрался до конца своей смерти. Может быть, каждый мир и каждый человек закончатся в одну и ту же минуту, прибудут вместе. Вот о чем я думаю, когда сижу на крыльце и молчу; лопата ли, двустволка или гитара у меня между колен – я даже не вижу.
Ченни, я стал бы сейчас святошей, не будь я мужчиной. Сделаться приятелем, чуть ли не родственником церковным святым, всем этим статуям и картинам, которые не принадлежат ни земле, ни небу, – это именно то, что подобает моему возрасту и переживаемой мною тревоге. И у святош тот же самый страх перед жизнью и смертью и такая же от него усталость. Они совсем как я, святоши. И еще неизвестно, молятся ли они, когда молятся, и молюсь ли я, когда мне случается молиться. Застыв в растерянности на этом пороге, мы не знаем, что делать дальше. Помоги нам, господи.
Переулки Генуи
Я нырнул с площади Феррари в переулок Казана, как камень ныряет в колодец; красивая девушка на высоких каблуках, которая, покачивая бедрами, шла шагов на двадцать впереди меня, сразу превратилась в отдаленную, едва различимую фигурку – такими предстают изображения в хрустальном шаре ясновидящей. Генуя, твои переулки похожи на источенные жучком декорации, которые чем изодраннее, тем прекраснее: каждая новая дыра, если посмотреть на нее с соответствующего расстояния, становится рисунком. Не доверяйте сверкающим лавчонкам переулка Казана, которые воображают, что они не хуже магазинов Портичи; круто поднимающаяся улочка кончается быстро, как кончаются все прологи (забавно было представить, как за моей спиной усердные рабочие сцены быстро свернули ее в трубку и отложили), и с металлического столбика, запрещающего проезд (эдакий черный указательный палец, поднятый для того, чтобы предупредить: в переулок Лаванья в ландо не въедешь!), начались настоящие переулки. Титульным листом к ним служил старичок, сидевший между корзиной с лимонами и тарелкой от весов, в которой лежала кефаль с таким обиженным видом, словно хотела сказать: «Будь я жива, не имела бы я с вами никаких дел»; из-за какой-то двери вылетел веник; проехал, наплевав на запретительный знак, велосипедист, пряча под раздувшейся рубахой, словно узел с краденым, охапку ветра.
Пляшущие на стенах солнечные пятна свидетельствовали о том, что встревоженное солнце никак не может попасть в игольное ушко переулка Лепре, или Дука, или Папы; я и сам принужден был остановиться, потому что грузовичок, который развозил товар по бесчисленным мясным, полностью загородил, прямо-таки закупорил пересекающую переулок Лаванья улицу, куда я хотел пройти: алые четверти туш летели с грузовика в лавку, распространяя вокруг себя древний запах жертвоприношений; моей щеки коснулся череп теленка, он болтался в воздухе, подвешенный ко всему и ни к чему, как простодушный и в то же время ужасный вопрос.
Площадь Лаванью[57]57
Лаванья (lavagna) – по-итальянски значит прачечная.
[Закрыть] порекомендовал мне скульптор Мессина, который любит этот нищий район Генуи. Я очутился в каком-то подобии двора, окруженном очень высокими и очень старыми домами, посреди которого, словно огромный черный зонт, высился круглый навес общественной прачечной. Женщины, склонившиеся над цементными корытами, терзали в них свое белье с любовью и ненавистью, без которых невозможна ни настоящая мука, ни настоящая стирка: я представил себе, как интерпретировал бы и показал эти резкие движения Франческо Мессина. А вокруг стояла нерушимая и недвижимая тишь деревенского лета. Парикмахер так держал в руке голову клиента, словно задавал ей гамлетовский вопрос; подпрыгивал мешок на спине парня, входившего в пломбированный пещерный полумрак экспедиционной конторы; облако мух и ос, то поднимаясь, то опускаясь, подрагивало над винными ягодами в лавке продавца фруктов; вывеска «Скупаю металл и тряпье» наполовину скрывала лицо старьевщика, дремавшего среди печных труб, старых башмаков и всякого железного лома; на пороге таверны какой-то человек, воплощенное терпение (если, конечно, он не вынашивал при этом замысел преступления), заставлял кусок сыра пройти через угол и короткую центральную часть огромной терки. И разве мог я пропустить, уже оставив позади площадь Лаванья, дверь, на табличке которой было написано: «Сберегательная касса. Отдел закладов. Филиал Б». Все неаполитанские переулки тоже начинаются и оканчиваются точно такими же табличками, но так как алфавит беден, мы, чтобы отличать одну кассу от другой, положились на цифры и на бога, который дал нам их столько, сколько нам может понадобиться.
В переулке Кампаниле делле Винье, куда вытолкнула меня чистенькая и глянцевитая, как конфетка, лавочка, которая торговала платьицами и вуалями для первого причастия, я нашел уже совсем другую тишину. Там, вплотную к церковной стене, такой легкий на хрупких колоннах, стоял украшенный барельефами саркофаг; я принялся разглядывать их, чтобы узнать, кому я должен завидовать, кому пришла в голову мысль уснуть вечным сном в этом невиданном мраморном гамаке; но тут в опасной близости от меня пролетел камень и упал неподалеку, в развалинах разрушенного войной дома. То были мальчишки, преследовавшие своего товарища; очутившись передо мной, они разом заговорили:
– А что, а у него перочинный нож, так что же, пусть нас всех режет, да?
Они говорили на своем певучем мелодичном диалекте и, как бы в ответ им, в церкви вдруг зазвучал орган. Мне удалось ускользнуть, укрывшись за шкафом, который прибыл на спинах трех носильщиков как раз в этот момент. Почему-то переулки Генуи кишат мебелью, которая непрерывно снует во всех направлениях: то вас заденет шкаф, то прикажет уступить дорогу письменный стол. На площади Уток (почему уток? Ведь дай оказаться рядом даже двум уткам, как они тут же затеют драку, крича: «Одна из нас тут лишняя!») я видел самый странный на свете лифт: наружный, укрепленный прямо на стене, он карабкался по фасаду дома, как паук, и я не удивился бы, если рассеянная горничная, выглянув из соседнего окошка, прихлопнула бы его своей выбивалкой.
На улице Орефичи я снова оказался в районе роскошных магазинов – ярко освещенных, элегантных, нарядных. Ювелиры, оружейники, банкиры. Один из банков выставил в витрине свои конторские книги трехвековой давности, там был образец кредитного письма 1720 года: мучительная работа пера, иероглифы, которые – подумать только! – признавались и оплачивались в самых отдаленных уголках мира. Ах, как отражает самый дух Генуи эта витрина! А как много говорит о ней дом, над входом в который написано: «Неотчуждаемая собственность больницы хроников, отошедшая ей по завещанию Маньифико Джованни Батта Сепарега от 10 сентября 1609 года».
А как похожи на Геную камни и люди Сотторипы! Я вообще отказываюсь признать, что площадь Виктории и Сотторипа находятся в одном и том же городе; мне, во всяком случае, больше по душе полумрак этой крепости, это подземелье,[58]58
Сотторипа – это нижняя, береговая, самая старинная часть Генуи. Впечатление подземелья создается многочисленными аркадами и крытыми улицами.
[Закрыть] созданное для того, чтобы осаждать его и защищать, эти бритвенные удары переулков Серрильо, Картаи, Джоварди, из которых крохотная контора по продаже лотерейных билетов взывает и к туркам, и к христианам. А в таверне – ослепительная улыбка негра, серьги в ушах у цыгана, рубашка в цветочек на американском туристе, унылая грудь пожилой проститутки; на стойке лежат какие-то фантастические алые рыбины, их таинственные, их загадочные головы выглядят так жутко, так бесстыдно, словно они умерли от delirium tremens в своей постели, а не в сетях на верхней палубе. В палатках часовщиков, торговцев водой, продавцов требухи и жареной рыбы толпятся боцманы, контрабандисты, аферисты, грузчики, возчики, лоцманы; у одного здесь в кармане миллион, у другого – четыре сольдо, у одного – бриллиант, у другого – револьвер и фальшивый паспорт. И где, как не здесь, смог бы я подобрать письмо, которое воспроизвожу ниже и которое, по-видимому, написано молодым южанином отцу, эмигрировавшему за Атлантический океан. В нем говорилось:
«Дорогой отец, в первых строках шлю вам поцелуи вместе с братом Франко, затем не знаю, как благодарить за вашу доброту. Уж так я доволен пиджаком и туфлями, которые вы прислали, но когда я поглядел, нет ли в кармане пары долларов, там ничего не было. Очень жалко мне думать, что так вы далеко, а пока обнимаю вас и подписуюсь ваш дорогой сын Микеле».
Я подумал: среди сотни молодых парней, которые толкутся вокруг меня, один – это Микеле: он одет, как одеваются в Нью-Йорке, но на его лбу, таком еще юном, уже пролегла та самая морщина, вызванная мыслью о долларах, которая уродует лица финансистов. Я думал: все самого разного масштаба события, происходящие в мире, не минуют и Сотторипу, ее коридоры, ее лестничные площадки. Загудел пароход, я вышел наружу и снова увидел солнце, а прямо рядом с собой – вереницу лошадей и повозок: так заканчивалась Сотторипа – запахами пеньки, пробки, рельсов, водорослей, сладких рожков, бочек, соломы, спирта, все они как будто вдруг вырвались тут из разжатого кулака Генуи.
Но больше всего мне понравились переулки, когда я взглянул на это море плитки, шифера и битума с высоты улицы Лукколи. Казалось, какой-то великан сражался здесь, прежде чем сдаться, месяцами, пуская в ход даже когти и зубы. А может быть, крыши – это живая материя, которая каждую ночь, словно опара, бродит, поднимается, пузырится? По крышам ветвятся изношенные вены водосточных труб со следами многочисленных кровоизлияний. Крохотные балкончики, похожие на плотики или на птичьи клетки, кажется, и раскачиваются на ветру, как они. Коньки у некоторых крыш выстроились по росту, как трубочки свирели, и ждут ветра, который вложит звуки в их уста. Восклицательные знаки громоотводов и антенн. «Какое высокое небо, – восклицают они, – такое высокое, что уже невозможно понять – голубь там или перистое облако!» Слуховые окошки, настороженные, как капканы, выступы мансард – словно набитый рюкзак брошен на крышу; хранилища для воды, прикованные цепью к стене; двери, изъеденные дождем и солнцем, завитки решеток, знамена развешанного на веревках белья, растения в самых разнообразных сосудах: рассевшиеся бочки, канистры из-под бензина, сотейники, миски, ночные горшки; я видел даже мушмулу в старой разбитой ванне: кожистость ее листьев была настоящей, внушающей надежду. А кошки? Рыжие, белые, черные, серые, они неотрывно глядят либо друг на друга, либо в какую-то одну точку так, словно все окружающее им либо снится, либо мерещится.
Время к ним не прикасается: кончиками своих усов они умеют отклонить в сторону, а то и вовсе остановить его течение. Лишь вечером они просыпаются и одним прыжком взлетают к луне, чтобы ее царапнуть. Глядя на них, я снова подумал о людях. «Когда же наконец, – думал я, – перестанем мы подстрекать друг друга к драке оскорблениями и тумаками, не пора ли и нам тоже посмотреть на землю, на вещи?»








