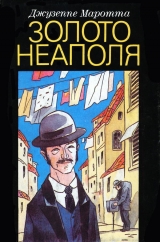
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Богатые родственники
Мой отец умер 3 февраля 1911 года; в ту пору я говорил «Мой отец умер» таким тоном, словно то была его профессия. Мне кажется даже, что во втором классе я почти хвастался перед товарищами по школе своим сиротским положением, свое несчастье я ощущал как нечто редкостное, служившее мне украшением.
Но ребенок растет благодаря, в том числе, и тому, что каким-то образом восстанавливает события, в которых, ему казалось, он не участвовал, пока наконец не становится взрослым и не находит их внутри себя как крохотные, едва заметные шрамы. 3 февраля с неизбежностью повторяется каждый год; и в этот день, где бы я ни был, вокруг меня плавает запах воска и цветов; дома я открываю окна и молчу, а в какую-то минуту и дети мои прерывают игры, сами не зная почему; а вот жена продолжает улыбаться, если приходит ей такая охота, потому что общих смертей у нас с ней нет; я принес ей в приданое покойного адвоката Маротту, который потом перейдет только к детям; в прошлом наши с ней дороги расходятся, ведя нас к разным умершим, которых мы в случае вынужденной разлуки (длительное путешествие, а то даже и вдовство) доверили бы друг другу без особой уверенности.
Мой отец скончался 3 февраля 1911 года от последствий той самой болезни, которой и я потом болел долгие годы. За три месяца до этого мы переехали из Авеллино в Неаполь, употребив на это средства, вырученные от продажи последнего нашего земельного участка. Настал момент, когда отец, неотрывно разглядывая квадратик в рисунке пола, вдруг почувствовал, что его призывает к себе земля; получив подтверждение на этот счет у старого врача, с которым он учился еще в гимназии, он вспомнил о богатых неаполитанских родственниках и решил умереть, держа их руки в своих.
Это была мысль не хуже других, и она-то и привела нас в один старый дом в городе, которому суждено было стать моим.
За три месяца его болезни моя бабушка по матери заселила этот пустой безымянный дом трехдневными и девятидневными молитвенными обетами, а также старушками, взявшимися бог весть откуда и способными твердить с ней эти молитвы ночи напролет. Они молились все вместе с тем сознательным коллективным усилием, с каким тянут сеть рыбаки. Временами молитвенный шепот вдруг начинал звучать с особенным жаром – так эти доблестные кариатиды молитвы, плотно закутанные в свои шали, подстегивали себя, чтоб не заснуть, но все равно наступал момент, когда сон валил их с ног прямо на месте.
Отец и бабушка помирились незадолго до нашего переезда после десятилетней вражды. Адвокат Маротта вторым браком женился на портнихе почти на тридцать лет моложе его; кроме того, еще с тех пор, когда ему улыбались фортуна и здоровье, он сохранил привычку быть независимым от тех небесных владык, которых мать его жены, отполировавшая своими коленями приделы всех неаполитанских церквей, ставила превыше всего. Атеизм отца, основывающийся лишь на его убеждении в человеческих слабостях священнослужителей, был поверхностным и наивным: это было все равно что не верить в существование Времени только потому, что некоторые часы плохо ходят! Однажды утром отец вдруг разволновался, лежа в постели; он сказал, что видел у своего изголовья Помпейскую Мадонну, и тут же возобновил отношения и с Богом, и с бабушкой. Вся насквозь пропитанная святой водой старушка последовала за нами в Неаполь; там она то и дело подстерегала меня в подъезде нашего нового дома, чтобы увести молиться вместе с нею, но господь был на моей стороне, потому что, как правило, мне удавалось укрыться от нее на террасе.
На стенах террасы росла какая-то странная густая трава, влажная, словно губы, а некоторые стебли напоминали подушечки пальцев, и если, поглаживая их, я засыпал прямо на солнце, они брали меня за руку и уводили в страну Сандокана.[8]8
Сандокан и Янес – герои многочисленных книг итальянского детского писателя Эмилио Салгари (1863–1911).
[Закрыть]
А дома тем временем мать наполняла шприцы и настаивала отвары; если бы во время населенного даяками[9]9
Даяки – население Малайзии, где происходило действие рассказов Салгари.
[Закрыть] дневного сна на террасе я не выдыхал бы все лекарства, которых нанюхался дома, я одними только этими запахами мог бы лечить все свои болезни лет еще эдак двадцать. Мама, ты была тогда молода и несчастна, слишком долго шприц в твоих тонких пальцах пахнул гваяколом и слезами, образующими вместе такую же мудреную и такую же бесполезную терапевтическую формулу, как и все другие. Слишком долго длилось твое отчаянное бдение: все то время, пока в ожидании прихода богатых родственников адвокат Маротта отказывался умирать.
Мы едва успели разместиться в новом доме, как отец написал и разослал свои патетические воззвания. Он был доволен. Он считал, что его сестра Луиза со множеством своих процветающих сыновей воздвигнет вокруг нас бастион нежной опеки.
– В сущности, это будет просто возвращением долга, – говорил он. – Ведь я столько им помогал. Я уступил Луизе лучшую часть отцовского наследства. Квирино жил у меня все время, пока учился. Но дело даже не в этом, в конце концов это же моя кровь, не так ли?
Что за странная мысль, адвокат! Вот, например, перед вами родник в долине, который разветвляется на множество ручейков: разве можем мы знать, какой путь каждый из них себе изберет?
И в самом деле, дни шли, а никто из богатых родственников не подавал признаков жизни. Состояние отца ухудшалось с каждым часом, но он все упрямился, пуская в ход бог знает какие уловки, чтобы добиваться у господа все новых и новых отсрочек.
Наконец пришел мой кузен Аурелио, протоиерей; в коридоре он благословил молившихся старушек, посоветовал им несколько молитв, которые, впрочем, были ими уже испробованы, и наконец заперся с матерью в гостиной. Разумеется, я не участвовал в этом эпизоде, но позднее, став взрослым, обнаружил его в себе – как шрам.
Кузен Аурелио начал с того, что он пришел от имени матери и всех братьев. Он рассказал, как они плакали, получив письмо умирающего. Но они не в состоянии взять на себя обязанности, которые хотел возложить на них адвокат. Даже учитывая все эти необычные и прискорбные обстоятельства, они все-таки не в силах прокормить вдову с тремя детьми. Он очень удачно не упомянул о бабушке, которая действительно в ту пору кормилась исключительно молитвами. Мать сплетала и расплетала свои длинные пальцы. Она заметила, что о «прокормить» не может быть и речи, от них требуется только пообещать прокормить. Главное, чтобы адвокат перестал мучиться. Нужно поселить в нем иллюзию, будто он выиграл это свое последнее дело. Ведь имел же он право наконец умереть! Последнее время уже не смесь гваякола со слезами удерживала его в жизни, а лишь эта вот цель, в достижении которой он упорствовал. В этом месте кузен Аурелио вздрогнул.
– Обман? – воскликнул он возмущенно. – И вы, Кончетта, предлагаете это мне, человеку в моем облачении?
Да разомкните же вы стиснутые руки моей матери, разомкните их наконец! Она пела в своем дворике, гладя белье, когда отец увидел ее и пожелал на ней жениться. Он был толстый и лысый, но у него была красивая борода, прошитая редкой сединой, и золотые очки. Разумеется, Кончетта была слишком молодой для него женой, но адвокат – человек благородный: посмотрите, прошло всего десять лет, и он возвращает ее в прежний ее дворик! Как, неужели так и будет? Но нет, в разговоре с доном Аурелио Кончетта неясно намекает на то, что до этого дело не дойдет. После бесконечно длинной паузы она называет имя одного очень зажиточного господина из Ирпинии. Тот всегда имел определенные намерения относительно нее, и если несчастью суждено случиться…
– Вы знаете, кого я всегда любила и почитала… – сказала мать. – Но вот дети… Ради детей я готова снова выйти замуж. Так что, видите, мне вовсе не нужно, чтобы вы о нас заботились. Речь идет только о вашем бедном дяде. Вы можете ему просто пообещать, и все.
Кузен Аурелио машинально разглаживал сутану и размышлял. В жизни этой молодой женщины еще не закончился один роман, а она уже готова начать другой. Впрочем, он привык выслушивать подобные признания в полумраке исповедальни и даже пришел к выводу, что события в жизни женщины происходят так быстро, набегая одно на другое, по-видимому, потому, что очень короток женский век.
– И все равно это обман, то, о чем ты меня просишь, – сказал он устало.
Мать поднялась. Указывая на соседнюю комнату, где лежал больной, она резко сказала:
– Тогда пойдите и взгляните. Всего на минутку. Подите и взгляните, стоит или не стоит ему солгать.
Но облачение, которое носил кузен Аурелио, не позволило ему даже этого. Не пришел он и на другой день, когда все его братья и сама тетя Луиза почтительным полукругом стали вокруг постели адвоката.
Все это был народ плотный, серьезный, все возглавляли доходные предприятия, о чем свидетельствовали эмалированные таблички на их дверях и клиенты, которые, положив на краешек письменного стола толстый конверт с гонораром, удалялись, едва слышно ступая по коврам. Адвокат мог просить их теперь уже одними только глазами, но, к сожалению, ему не хватало прозорливости. Он видел толстые пальцы своих богатых родственников на моих растрепанных волосах и хрупких плечах моих сестер, однако ни разу не подумал, почему это, говоря: «Девочки будут хорошо воспитаны, мальчики получат образование», – они ни разу не добавили: «Об этом позаботимся мы». В какую-то минуту стало ясно, что адвокат ищет взглядом среди всех этих своих светских утешителей кузена Аурелио; но, как я уже сказал, он не пришел, и мне до сих пор внушают уважение причины, которые помешали ему это сделать; более того, я хочу во всеуслышание заявить, что он оказался единственным из моих богатых родственников, кто согласился в 1916 году заплатить за мое школьное обучение. Думаю, что этот неожиданный поступок зрел в нем с того самого вечера, когда отец мой наконец-то мирно заснул, а мать повела к выходу людей его крови с поспешностью, которая не только выглядела, но и в самом деле была чрезмерной.
А назавтра наступило 3 февраля 1911 года.
Мать перекрасила в черное всю нашу одежду и свои платья, нескончаемо перемешивая все это в кипящем котле. Несколько дней мы с бабушкой устраивали в подъезде настоящие состязания в ловкости и хитрости, ну и, разумеется, если проигрывал я, мне приходилось читать вместе с нею молитвы до полного изнеможения, зато в противном случае мне удавалось укрыться на террасе и встретиться там с невозмутимым Янесом. Была продана почти вся мебель, и мы переселились из нашего дома в лачугу, которая и будет фигурировать дальше в моем рассказе. Мать нашла место бельевщицы и гладильщицы и проработала на нем десять лет. Стало быть, у меня есть все основания подозревать, что зажиточный господин из Ирпинии, о котором она говорила кузену Аурелио, был просто-напросто выдумкой хитроумной сиделки. Женщин вообще трудно понять. А в общем, она была хорошая мама, и как вы понимаете, за такой мамой я пошел бы куда угодно, хоть в преисподнюю.
Квартира, в которую мы переехали, представляла собою одну большую комнату в нижнем этаже дома у подножья колокольни Святого Агостино дельи Скальци; застекленная дверь выходила на узенькую полоску земли, усеянную камнями, как русло ручья, – мы называли ее садом. За все это с нас брали шесть лир в месяц.
Как бельевщица и гладильщица графа М. вдова Маротты (эта мать, у которой слезы неожиданно перемежались смехом и от которой я унаследовал не только особенности внешности, но и привычку запросто говорить о своих бедах со святыми) получала еженедельное жалованье в десять лир. Когда за отцом захлопнулись двери этого мира, она заговорила с тетей Луизой о похоронах.
– Вы его сестра, и у вас есть семейный склеп на Поджореале, вы могли бы положить его там, – сказала она.
Тетя Луиза была старушка неприветливая, и, я надеюсь, мне не придется встретиться с ней на том свете. Она укорила мать в тщеславии и посоветовала ей исходить из нашего нового положения, объяснив, что захоронение брата в склепе Нарди потребовало бы огромных расходов, а еще сообщила, что я могу каждый день приходить на их виллу за объедками от обеда.
Таким образом, отец мой лег в общую могилу, и я представляю себе, как долго приходилось богу шарить там всякий раз, когда сироты и вдова начинали возносить молитвы за умершего адвоката; что касается объедков, то я действительно ходил за ними каждый день в четыре часа, и даже сейчас, когда я об этом вспоминаю, я чувствую в пальцах тепло и форму того котелка, а бегущая рядом со мною решетка моста Санита (Нарди жили в Каподимонте) кажется мне совсем не такой ледяной и твердой, как казалась тогда; облагороженная и одухотворенная воспоминанием, она стала воздушной и легкой, как распахнутый веер.
В мой котелок тетя Луиза складывала все подряд – и спагетти, и салат, и даже крошки от пирожных – голод ведь не обращает внимания на такие вещи.
Спустя некоторое время после того, как мама устроилась к графу М., она получила предложение руки и сердца от его пожилого камердинера.
А теперь представьте себе жилище бедняков в нижнем этаже дома под колокольней в тот самый день, когда молодая вдова, отделявшая на ночь сына от дочек одеялами, которые она развешивала на веревке, должна была официально получить предложение стать женой толстого и добродушного камердинера.
Мария, моя старшая сестра, смутно намекнула мне на то, что должно произойти. Целое утро я не мог найти в себе мужества взглянуть матери в лицо; впрочем, думаю, что, будучи точно так же озабочена мыслью о том, чтобы не встретиться взглядом со мной, она не заметила моего смятения.
Было пасмурное мартовское воскресенье, мать принялась прибирать нашу комнату с самого утра, словно ей предстояло еще досуха вытереть весь вымытый дождем город; подышав на стекло, она протерла большой портрет отца, потом так же поступила с нами, усадив всех троих на стулья у стены, и была в особенности озабочена моей прической.
Помню серьезные и замкнутые лица сестер (девочки, в отличие от мальчиков, всегда выглядят так, будто знают о браке все); что касается меня, то я чувствовал себя совершенно одуревшим, мне казалось, что я превратился в какой-то предмет домашнего обихода, один из самых хрупких – таких, как керосиновая лампа, например, или накрывавший младенца Иисуса стеклянный колпак, который, казалось, вот-вот упадет и разобьется. Я все думал про те вечера, когда ходил встречать мать на улицу Милле, к дому графа. Она выходила и легкими движениями оправляла на мне костюмчик. Я брал ее за руку, и мы пускались в путь. Дорога была длинной: на подъемах возле Музея и Санта-Терезы я на ходу почти засыпал, доверившись теплоте милой руки, которую держал в своей. Правда, засыпал я не больше чем на шаг, на два, вздрогнув, я тут же поднимал отяжелевшие веки и снова видел ее белое лицо под вуалью; мы были уже на улице Толедо, и она говорила: «Пеппино, мы пришли». Как можно, чтобы она об этом забыла! «Мама, но ты ведь уже обручена со мной», – хотел я сказать ей и заплакал.
Первым пришел дон Аурелио, кузен-священник, который должен был председательствовать на церемонии; пока мать готовила кофе, вошел, весь в струях дождя, предполагаемый супруг. Он сел и положил шляпу себе на колени. Сутана и кольцо кузена-священника внушали ему робость. Глаза у меня сделались как окна, стены отодвинулись, и все мы очутились в центре образовавшейся пустоты. Мать не смотрела ни на что и ни на кого. Она сказала:
– Дон Аурелио, это дон Сальваторе, о котором я вам говорила.
– К вашим услугам, ваше преосвященство, – сказал толстый камердинер.
– Я не преосвященство, – объяснил кузен-священник.
– Целую руки, монсиньор.
– Я не монсиньор.
– Ну, тогда уж и не знаю. Во всяком случае, лучшие пожелания и сто лет жизни, – мирно заключил гость.
Молчание. Мать не садилась. Она укрылась под портретом покойного адвоката и стояла там такая прямая, маленькая, бледная и бесплотная, какими бывают мамы только в воспоминаниях сыновей.
– Так что же, Кончетта… – сказал кузен-священник.
– Он хочет взять меня в жены, – просто сказала мать, указывая на толстого камердинера.
Дон Аурелио задал необходимые вопросы. Дон Сальваторе объяснил, что уже двадцать лет служит у графа М., сообщил, что имеет кое-какие сбережения и подтвердил свое намерение жениться, и как можно скорее.
– Послушай, Кончетта, – сказал кузен-священник, – дон Сальваторе кажется мне человеком порядочным и серьезным. На мой взгляд, тут не о чем раздумывать.
– Исусе! – воскликнула мать. – А спросите его, почему он не женился до сих пор?
Я не узнавал ее голоса. Слова, казалось, истлевали у нее в горле. Если бы вдова адвоката, сделавшаяся бельевщицей, была способна усмехаться, я бы сказал, что мать усмехнулась. Я видел, что у нее дрожат руки. Она повторила:
– Почему вы не женились раньше?
– Не знаю, – сказал толстый камердинер. – Брак – это ведь как смерть: он случается только один раз.
– Сказать по правде, дон Сальваторе, это не совсем нормально, – сказала мать снова со своим истерическим смешком, – сорок пять лет вы прожили на свете, не женясь, а потом вдруг встречаете меня и…
– Это судьба, синьора, это просто означает, что так должно было случиться.
Толстый камердинер добавил к этому, что не может понять ее враждебности. Что, собственно, имеет она в виду? Он человек порядочный, у него есть дом и немного денег, и это может подтвердить весь квартал Кьяйя.
Кузен-священник молчаливо одобрил все сказанное с высоты своего божественного чина. Заметив это, мать вздрогнула.
– Не в ваших интересах, дон Сальваторе, заставлять меня говорить, – сказала она.
Толстый камердинер побледнел. В конце концов, в жизни всякого толстого камердинера, каким бы образцовым он ни был, всегда можно найти какой-нибудь эпизод с перелицованным фраком, за который с хозяина взяли как за новый. И он сказал:
– Донна Кончетта, что вы имеете в виду?
Мама, я вижу тебя как сейчас. Прислонившись к стене под портретом покойного адвоката, ты все больше цепенела; раздирающая душу гордость делала жестким твое белое лицо, слова словно тлели у тебя в горле:
– А трое моих детей, дон Сальваторе?
– Ну разумеется, они найдут в нем второго отца, – сказал кузен-священник.
– Конечно, – сказал, взглянув на нас, толстый камердинер.
– Могу себе представить! – воскликнула мать. – Только вас мне и не хватало, это для вас я их родила и растила. Чтобы отдать их вам! Может быть, хотите начать прямо сейчас? Пеппино, поди сюда! Дон Сальваторе хочет дать тебе оплеуху!
– Оплеуху? – пробормотал толстый камердинер. – Да я конфет ему принес!
– Не хочет он ваших конфет, – завизжала мать, вставая между нами.
– Падре, посудите сами, что это за обращение, – растерянно сказал толстый камердинер, оборачиваясь к священнику.
– Дон Аурелио, лучше не встревайте, – отрезала мать.
Казалось, она втянула в себя весь воздух, какой был в комнате. Не думая, что говорит, исходя словами так, как исходила бы рыданиями, она кричала и кричала:
– Скажите еще, что у вас от них слюнки текут! Я хлеб вынимаю у себя изо рта, чтобы их накормить. Работаю днем и ночью, и вы это знаете… Я тяну их, как могу, и для чего? Чтобы отдать их дону Сальваторе? Чтобы дон Сальваторе отводил на них душу? Ну уж нет! Мария, Пеппино, Ада – вот ваш второй отец… Он переломает вам все кости…
Толстый камердинер вскочил. Струйки пота текли у него по выбритым до синевы щекам.
– Я? Это я-то бью детей? – сказал он.
– А вы еще и наглец, дон Сальваторе, – парировала мать с яростью, от которой он без сил снова сполз в кресло. – Уж не знаю почему, но вы, видно, вообразили, что вы не такой, как все. Вы думаете, что вы лучше других! Но со мной это не пройдет! Никогда! Вот мой вам ответ. Никогда! Детей трогать нельзя, дон Сальваторе, и я не желаю выходить за вас замуж.
– Скажите хоть вы, падре, – умолял, почти задыхаясь, толстый камердинер.
Но мать наклонилась над ним и говорила так, как если бы стояла перед ним на коленях.
– Отчимом, дон Сальваторе, да, отчимом вы хотели стать? Оставьте в покое вдову с тремя детьми! Ну что вам стоит? Пеппино такой хрупкий, а есть столько вдов с сыновьями рослыми, крепкими, которые могут за себя постоять… Дон Сальваторе, женитесь так, как подобает мужчине.
Кузен-священник и толстый камердинер поднялись одновременно.
– Она сумасшедшая, – сказал дон Аурелио.
– С вашего позволения, не буду мешать, – пробормотал дон Сальваторе и вышел первым.
– Конфеты! – закричала мать и, догнав его, засунула кулек в карман его пальто.
Наконец дон Аурелио коротко заметил, что у матери невыносимый характер, и добавил:
– Ты потеряла замечательную возможность устроить свою судьбу. И я не знаю, как долго мы еще сможем тебе помогать.
– Вы правы, – кротко сказала мать. – Времена нынче тяжелые. С завтрашнего дня я перестану посылать за объедками.
Кузен-священник вышел, шурша сутаной.
Облака рассеялись, солнце хлынуло в застекленную дверь так, словно это дон Аурелио, уходя, уступил ему дорогу, или как если бы в течение всего этого незабываемого приема оно было закутано в его черную сутану.
Мать села посреди комнаты, и было совершенно ясно, что ни теперь, ни потом она не подарит нам второго отца.
Без единого слова, глядя мимо нас, она расчесывала нам волосы и все одергивала, одергивала костюмчики, которые так старательно заштопала и отгладила сегодня утром.








