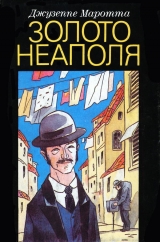
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
«Бородач»
Есть ли у нас в Милане дома из жести, этакая консервная упаковка для горестей и радостей? Есть ли у нас семьи, которые плачут и смеются, как все остальные, но у которых вокруг и над головой не прочные кирпичи и нормальная черепица, а плохо пригнанные листы жести? Конечно, они у нас есть: по крайней мере о существовании одного из таких закопченных и колючих особняков мне известно совершенно достоверно. Может быть, достаточно человеку хоть раз испытать, как с потолка капает ему на подушку, чтобы потом всегда откликаться на зов домов из жести (если такие есть), когда он проходит мимо них? Во всяком случае, хижину Луиджи Н. мне показала кошка, самая, наверно, жалкая из желтых и взъерошенных кошек окраины. Я шел вдоль полоски чахлой травы, животное испугалось промчавшегося мотоцикла, в прыжке пробило пыльную стену кустарника, и из образовавшейся пустоты хвост указал мне, осмелюсь сказать, необычное сооружение.
Может быть, это самый грустный квартал Милана. Он располагается между двумя кладбищами, которые город пунктуально пополняет; большие серые дома чередуются с длинными заборами, окружающими предприятия, и дощатыми изгородями, за которыми пыхтят печи или визжат электропилы; неожиданно на железнодорожном переезде появляется колонна ломовых телег и блокирует движение; красная тряпка, которой размахивает какой-то чернорабочий, заставляет жмуриться велосипедистов, ожидающих возможности продолжать путь, заслоняет далекую колокольню какой-то церкви, распугивает воробьев…
Улица, на которой я увидел дом из жести, пользуется дурной славой, и здесь часто можно наблюдать, как из полицейской машины высыпает усиленный патрульный наряд, слышать крики женщин и звон бьющихся стекол, но в сети остаются только «бородачи» с глазами, полными извинений, удивления и сна. «Мне жаль, что я не совершил ничего противозаконного, но это так», – написано на наивном и суровом лице «бородача». Я понимаю, что избавиться от них невозможно: как в феврале високосного года должно быть двадцать девять дней, так и среди десяти тысяч нормальных обитателей большого города должен быть один «бородач». К этой дополнительной ветви рода человеческого и принадлежит Луиджи Н., иными словами – тот индивидуум, который вышел из жестяного дома, сдул пыль со сколоченной из дощечек скамеечки, стоявшей на траве, сел и устремил взгляд в пространство, а точнее сказать – в никуда. Итак, первым недостатком таких домов является отсутствие привратницкой: все вопросы, на которые они не в силах ответить своими заплатами и ржавчиной, следует адресовать непосредственно жильцам. Луиджи Н. заметил меня только тогда, когда я заговорил с ним о выпивке и закуске, которыми мы смогли бы подкрепиться в ближайшей таверне, обмениваясь – или воображая, что делаем это, – разными мыслями.
– Мы знаем столько людей и не знаем, как все это началось, – сказал я ему. – Вы сразу поймете, что я, не из полиции и не из газеты, не имею отношения к политике или даже к церкви, а просто любознательный человек и ничего больше. Ну, например – вы когда-нибудь получаете письма? А на какой адрес?
Луиджи Н. ответил, что название улицы и номер ближайшего к дому строения представляли собой чрезвычайно ценные для его почтовой идентификации элементы, и сообщил, что три месяца назад ему правильно доставили телеграмму из Треццо д'Адда с печальнейшими известиями о болезни матери.
В устах «бородачей» миланский диалект звучит очень твердо, он похож на железный брус, но, впрочем, становится гибким в тех случаях, когда в нем, подобно раковинам в металле, попадаются названия родных деревень и слово «мама». Мы с Луиджи Н. выпили и закусили в каком-то кабачке, который, если не ошибаюсь, много лет назад пострадал от кровавого столкновения между полицией и бандитами; я догадался, что в противоположном углу зала три собравшихся там посетителя обсуждают план ограбления, и спросил своего спутника, почему они не сменят тему или по крайней мере не говорят потише.
– Из деликатности – чтоб мы не подумали, что нас-то и будут грабить, – ответил он с рассеянной улыбкой.
В невыдержанном вине было много краски, и оно сильно било в голову. Казалось, что нам на плечи легла чья-то теплая рука, и Луиджи Н. рассказал мне, как умирает ребенок «бородача» и почему его отец, если идет прогуляться, должен носить в кармане напильник, которым на следующее утро можно разрезать собственное пальто, выбраться из него и, так сказать, вернуться в мир.
С того дня я часто навещал Луиджи Н. и его дом. Теперь я стал его другом, то есть каждый раз, когда я прихожу к нему, у него делается такой вид, словно он меня узнает. Думаю, что лет ему около пятидесяти. Его мать умерла, как и его сын. Впрочем, жена, которая иногда кажется молоденькой (нельзя исключить вероятность того, что ей и вправду двадцать), опять беременна. Весь луг, который окружает жестяной дом, принадлежит кошкам и Луиджи Н.: он сидит на дощатой табуретке, закрыв глаза и задумчиво перебирая в пальцах траву. Только в таверне он оживляется, начинает говорить, и кажется, будто на несколько мгновений приоткрываются крошечные окошки, через которые можно бросить взгляд на жизнь «бородача».
Во-первых, «бородачами» не рождаются. Луиджи Н. был довольно зажиточным крестьянином, прежде чем приехал служить садовником у какого-то миланского богача; через несколько лет его уволили, возвращаться нищим к себе в деревню было неприятно, новой работы не нашлось, он перестал каждый день бриться и обедать и в тот момент, когда заметил, что превращается в «бородача», уже был им. Каждое утро «бородач», как и любой другой человек, просыпается и потягивается. В жестяных домах имеется койка, которую сразу же свертывают, чтобы «бородач» мог прихватить, отходя ко сну, немного тепла, оставшегося с прошлой ночи. В жестяных особнячках есть также корзина, ящик, чемодан или бочонок – в них хранят одежду; есть свеча, сковородка, кастрюля и несколько тарелок; маленькая печка, ведро с водой; есть даже календарь, дни он показывает неправильно, потому что хранится с сорок второго года, но зато нейтрализует опасную щель, какую-нибудь незаметную дырочку, которую может обнаружить только ветер или свет. «Господи, у меня развился артрит», – пишет в своем отчете богу ангел-хранитель «бородача», но с обитателями жестяных домов не происходит ничего, что представляло бы интерес для врачей. Сын Луиджи Н. умер, кстати, не от болезни. Он был холодный и твердый, как камень. Все мы в детстве, перед тем как уснуть или в первые минуты после пробуждения, с восхищением смотрим, как тени от лампы, косой луч света или просто узоры на обоях образуют на стене что-то такое, что, вызывая в нашем воображении изысканные образы, лишает сил. Мы выросли слабыми потому, что, предчувствуя страдание, звали его, сами того не зная; как часто, заболев, мы понимали, что ждем лихорадку и страх, и вспоминали свои слова: «Приди, смерть, я хочу тебя видеть». Сын «бородача» так не делал. Стена, на которую он пристально смотрел, черная и словно чешуйчатая от сворачивающихся в трубку уголков листов жести. Ребенок чувствует, как они терзают его плоть, и тело его реагирует: очень скоро он способен противопоставить в жестяном доме враждебность враждебности и силу силе; и если небо, как говорится, захочет вновь забрать его себе, ему придется толкнуть его под копыта огромной ломовой лошади во дворе лесопилки. Тряпичный мяч, которым играет ребенок, катится и останавливается под брюхом животного. Давай, малыш, иди, забери его. Лошадь, испугайся. Готово.
Итак, каждое утро «бородач» просыпается и потягивается, потом подсчитывает ту малость денег, которая у него есть. Если этого достаточно на тарелку супа, то он решает, что этот день – выходной, и не двигается с места; в противном случае на полдня отправляется разгружать вагоны, или возить дрова, или расчищать снег, или, если предположить самое худшее, просить милостыню. Он уважает воров не меньше, чем порядочных людей, но сам не ворует; он, как и луна, знает, как другие проводят ночи, но держит язык за зубами; он почитает бога и дьявола, соблюдая в добре и зле строжайший нейтралитет. Для удовольствия он держит огород рядом с железной дорогой. Он, как может, предохраняет жестяной дом от снега и грязи и регулярно платит за квартиру «бородачу» из Монцы, который утверждает, что унаследовал этот дом от того «бородача», который его построил. Когда дождь заливает луг, Луиджи Н. наводит между своим домом и препятствием мостки из досок. Если, поздно возвращаясь домой, он оступится, жена его обсушит и будет смотреть на него, пока отблеск свечи из распахнутой дверки успокаивает воду, по которой еще идут круги от шумного падения. Любят ли они друг друга, эти двое? Одно ясно – не ненавидят.
У «бородача» есть женщина, поскольку она ему ничего не стоит; его три или четыре выходных в неделю остаются незыблемы, если он женится. Будучи «освобожденным от налогов» и сведя до минимума расходы, «бородач» мог бы позволить себе даже двух жен. Он этого не делает из лени: в ясные вечера, когда жена стирает в большом чане белье фруктовщика или молочника, ему нравится шарить в коробке, где хранятся окурки, и молчать, Милан – там, за кустарниками, близкий, но все-таки очень далекий от всего этого. Рука муниципалитета сюда не дотягивается.
– Нельзя допустить, чтоб они сюда добрались, – сказал мне, помрачнев, Луиджи Н., поэтому лучше, что ребенок умер не дома, а в больнице.
– Пейте, – ответил я, и как только наступило приятное, сближающее нас опьянение, мы вернулись к разговору о пальто и напильнике.
Вот эта история, в которой есть над чем посмеяться. Итак, ребенок расстался с жизнью в шесть часов. Наступила полночь, а мать в жестяном доме продолжает его оплакивать. «Бородач» встряхивается, уходит и идет напиться. Через два часа его выкидывают из таверны. Луиджи Н. сбивается с дороги, но продолжает идти, пока не оказывается на площади Диоклетиана. В сквере он видит скамейку и занимает ее. Он заворачивается в старое, сшитое по моде Треццо д'Адда, пальто, и сон наваливается на него, словно огромная глыба. Всё. Конец. Начинается снег. Утром какие-то рабочие, проходя мимо, видят две огромные ноги, торчащие из сугроба. Они начинают копать, стучат по пальто и будят «бородача». У вас сын умер? Ну и что, вылезайте. Легко сказать. Мороз славно поработал, превратив пальто в футляр, в какой-то скафандр, из которого никак не удается извлечь Луиджи Н. ни в качестве «бородача», ни в качестве отца со всем его терпением и болью.
– К булочнику, надо к булочнику, – советуют люди.
Рассеиваются ночные туманы: Милан вырастает и расширяется – он подобен морю, расстилающемуся перед кораблем, который готовится отплыть в дальние страны…
Прощания
Я умираю, приходит священник и говорит:
– Исповедайтесь, сын мой.
– Да, святой отец, – отвечаю. – Так что, значит, ехать придется налегке? Хотите, я выложу вам все дела с начала до конца, без прикрас, в натуральном виде, а грехи вы сами выберете, чтоб без обмана? Послушайте, святой отец, у меня осталось еще немного силы, и боюсь, что не удержусь от соблазна да и применю ее – для самозащиты. Я ведь не дошел до такой степени, чтоб не видеть, что оборотная сторона каждого прегрешения – доброе дело. Но как же так получается?
– Искреннее и глубокое испытание совести изгоняет все грехи, – говорит священник.
Речь идет о последней возможности спастись, которая у меня остается, скоро я перестану принадлежать этому миру и так далее, и тому подобное.
– Да, святой отец, это правда, я слышу легкое шуршание гравия в саду – что это, как не прощание со мной старушки земли? Позвольте мне ответить ей, святой отец, это в последний раз. Я обращусь в соляной столб, если обернусь, но не могу удержаться, ведь рядом в тумбочке еще лежат мои ботинки, сношенные подошвы которых словно продолжают говорить: «Земля, земля!» – и попробуйте-ка заставить их замолчать.
– Сын мой, забудьте о мире, – возражает священник, – считайте, что до сегодняшнего дня вы жили где-то за границей и вот наконец собрались вернуться на родину, так что это за история?
– Думаю, мы слишком горячимся. Что я могу сделать, если подошвы моих ботинок зовут?
Я говорю, говорю, и священник отвечает мне, как может.
– Святой отец, скажите Богу, чтобы он простил меня, но я здесь не чувствовал себя иностранцем.
– Исповедуйтесь же, сын мой.
– Я привязался к этой старой земле, к этой равнине с дорогами, которые ищут друг друга между деревьями, к морю, которое словно свертывается в свиток, и к горам в лихо украшенных пером молнии шапках из облаков; однажды, когда погода менялась, я как раз это и увидел, послушайте, я увидел пик Мортароне в тирольской шляпе, он примерял одно перо за другим, не в силах остановиться. Ну вот, мы и добрались до сути дела. Как раз днем раньше я совершил тяжкий грех, смотря же на гору в то время, когда собирался град, я был охвачен столь сладостным страхом, что признался в этом грехе вслух. Думаю, что я громко кричал, и может даже оказаться, что эхо повторяло мои слова.
– А что это был за грех?
– Не помню. Я был уверен, что он мне будет отпущен, и больше об этом не думал. О, не пеняйте мне, святой отец. Если бы вы знали, как я страдаю. Это ведь только вчера я научился ходить: шаг – падение, шаг – падение; тогда расстояние от одного предмета обстановки до другого в доме нельзя рассчитать, материнские руки кажутся бесконечно длинными, а отцовская борода похожа на дремучий лес; это вчера я плакал, чтобы меня положили на большую родительскую кровать, на том покрывале я тысячу раз совершал кругосветное путешествие. Святой отец, то, что я вам это рассказываю, не бесполезно. Когда мне был отпущен первый грех, мне было пять. Вот послушайте. Это произошло июльским днем. Отец имел привычку часок-другой спать после обеда, а мы – дети и мама – уходили и садились на крыше, да-да, на крыше нашего дома. Мы пролезали через чердак, пронизанный солнечными лучами через щели в потолке и по приставной лестнице преодолевали последнее препятствие, отделявшее нас от нашего бельведера. Там, наверху, всегда чувствовался легкий ветерок, который словно что-то нашептывал в колпаки дымовых труб или в уши кошек. Наступал и отступал меланхолический покой: мать молчала, мы тоже, вокруг, насколько хватало взгляда, были только черепица, стены, парапеты и силуэты громоотводов, похожие на заглавное «А», струйки дыма, часто в небе неожиданно возникали несколько трепещущих воздушных змеев. Обычно мы сидели на горизонтальном участке крыши между двумя водостоками, но в тот день, на следующий день после моего первого греха, я немного отодвинулся в сторону, так, что мать даже не заметила. Короче говоря, я потерял равновесие и свалился бы вниз, не схвати она меня каким-то чудом. Кстати, что любопытно – я не испугался. Напротив, я ощутил нечто вроде сладостных угрызений совести, острейшего сладострастного отвращения от дурного поступка, совершенного накануне: Иисусе, обещал я, я никогда больше так не буду.
– А что это был за грех?
– Я этого не помню, святой отец, простите меня. О, эти дни на крыше! Чистый воздух наверху вызывал у нас аппетит, и зная это, мать всегда брала с собой немного печенья. Мы ели, глядя, как ласточки прочерчивают небо сплошными линиями, непредсказуемыми, словно движения клинка фехтовальщика, и я думал: если бы они оставляли черные следы, как карандаш, то в несколько мгновений заштриховали бы небо. Кстати, о печенье, святой отец: чем заменяют там, в другой жизни, вкус хлеба?
– Подумайте о своей душе, сын мой, – говорит священник. – Покайтесь, время уходит.
Разве это справедливо? Я раскаялся глубоко-глубоко, я готов ко всему: конечно же, не из гордости отвечаю я на прощальные слова земли. Сейчас она станет маленькой настолько, сколько надо, чтобы я расцеловал ее в обе щеки, как делают близкие люди при встрече или расставании. Я говорю:
– Дайте мне проститься с ней, святой отец, в ней ведь скрыта душа.
Итак, прощай, прощай все, что имеет значение на этой земле. Арно во Флоренции и вы, искры, сыпящиеся с трамвайных дуг на корсо Индипенденца в Милане, не забывайте меня; фонтан Треви и крики торговцев прохладительными напитками на вокзале в Пьяченце, Ионическое море и абрикосы на ветке за какой-то калиткой в Тревизо, Этна и колченогий стул на переезде в Пьедигротта, мол в Генуе и хлопья снега, которые ты отряхиваешь с моего зонтика, пока я покупаю газету в том киоске, где всегда, – помните, помните обо мне!
– Давайте лучше о грехах, сын мой.
– Я ничего о них не знаю. Родиться – это грех? Жить – грех? В таком случае я настолько грешен, что умираю. Я должен был постоянно следить, как ищейка, сам за собой, святой отец? Как все на земле, я был и полезным, и вредным. Вода одного топит, а другому утоляет жажду; огонь здесь спасает, а там – разрушает; то, что сегодня – пища и жизнь, завтра становится ядом и смертью. Мои грехи – это грехи травы и облаков, святой отец, а добрые дела такие же, как у земли. И в самом деле, я работал, я был мельчайшей частицей огромного, тяжелого труда, который не прекращается под солнцем. Святой отец, дайте мне попрощаться с моей работой. Я начал ее так рано, когда бритва еще не касалась моих щек, а мои радости и печали были радостями и печалями ребенка. Я стал мужчиной, и взял себе жену, и имел детей, и был прекрасен или безобразен, толст или тощ, счастлив или печален, но всегда на одном и том же месте, как январь или апрель на своем месте в календаре; сегодня я завершаю не настоящую жизнь в полном смысле слова, а долгие сезоны моей работы. Дайте мне проститься с ней, сказать «Прощайте!» моим дедам, моим внукам и моим потомкам. Работа, я сожалею о тебе, хотя ты меня и обманула. Ты не принесла мне пользу, как я – тебе, ты казалась средством, а на самом деле была целью, вот и все. Но ты мне нравилась. Да, святой отец, не существует никакой другой работы, кроме писательства, которая бы до такой степени была похожа на того, кто ее делает. Мастерство значения не имеет. Портрет – всегда портрет, неважно, жалок он или величествен, принадлежит ли кисти мастера или ремесленника.
Я не перестаю работать, я прощаюсь с жизнью, святой отец: вы оправдаете мою боль? Говорят, что у мертвецов еще несколько часов продолжают расти ногти, если это так, положите мне на грудь не только распятие, но и все, что нужно, чтобы писать, не лишайте меня из ложного почтения моих последних часов работы.
– Вы задыхаетесь, сын мой. Настало время – помолимся.
– А что же я только что делал, святой отец?
– Сын мой, признайтесь в своих прегрешениях.
– В другой раз, святой отец.

Из книги «Камни и облака»

Коррида
Дон Пабло Имера, молодой атташе испанского посольства, приехал в Берлин двадцатого мая одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Город, восстановленный из руин сорок пятого, сверкал под весенним солнцем, как элегантная новинка в витрине магазина. Дон Пабло был знатен, остроумен и хорош собой, он быстро включился в светскую жизнь столицы.
Уже несколько десятилетий планета Земля была для всех ее обитателей радушным домом; специальная международная организация пеклась о мире, а бог пекся об этой организации; трава и мысли росли на свободе, призывников неизменно просили явиться на следующий год, ружья и ножи изготовлялись только для охоты.
Тридцатого июня одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года дон Пабло, сделавшийся к тому времени членом «Кружка гребли на Шпрее», отложил весла и сказал рулевому:
– Не скрою, барон, мне становится жарко.
Барон К. улыбнулся.
– А может быть, и немного скучно? – сказал он. – Завтра я еду в свое имение и как раз собирался вас пригласить.
Компания выехала из города в пяти больших автомобилях; кроме Пабло и барона, в нее входила еще красивая жена последнего и с десяток дам и господ из высшего света. Путешествие было веселым; несколько раз дон Пабло почувствовал в своих спутниках какое-то подавленное возбуждение: их глаза блестели так, как блестят они только во время танцев, – ночным чувственным блеском. Машины свернули с шоссе и ехали теперь по территории бескрайних поместий барона.
– Так что, может быть, приобщим дона Пабло? – неожиданно сказала баронесса К.
– Я так и знал, что тут какая-то тайна, – пошутил молодой дипломат. – Куда вы меня везете?
Барон К. сделался серьезным, в нем появилась даже какая-то напряженность.
– На войну, – сказал он.
Будучи воспитанником Оксфорда, Имера не смутился.
– Воевать? – спросил он.
– Нет, только посмотреть.
– Но какая сейчас может быть война?
– Самая настоящая.
– Почему же о ней никто не знает?
– А она по разным причинам ведется тайно и в небольших масштабах. Бывает это раз в году и длится всего около месяца. Мы пользуемся при этом территорией в тридцать квадратных километров; там есть речки, возвышенности, несколько деревень, небольшой городок. В каждой армии около тысячи человек, их выращивают специально для войны.
– Как у нас быков для корриды? – прервал его испанец.
– Совершенно верно. Кроме того, там есть еще и мирное население, тысяч эдак пять. Сражающиеся пользуются хотя и мелкокалиберным, но очень эффективным оружием. Безопасность зрителей, а их очень много, почти гарантируется: об этом заботятся боковые судьи, а кроме того, построены специальные укрытия. Впрочем, вы все увидите собственными глазами. Военные действия только начались.
Дон Пабло, воспитанный в Англии, и глазом не моргнул. Он представил себе что-то вроде больших маневров, бескровных или почти бескровных; а честно говоря, он ничего толком просто не успел себе представить, так как они подъезжали к полю боя. Уже доносился до них приглушенный расстоянием безостановочный стрекот пулеметных очередей, слышался гул самолета. Дон Пабло и его спутники вышли из автомобилей и углубились в просторный туннель; по туннелю текла разгоряченная толпа, напомнившая испанцу праздник Пьедигротты, на котором он присутствовал однажды, будучи в Италии. Поле битвы было окружено галереей, отходившие от нее боковые проходы вели к многочисленным бронированным башням, которые служили зрителям для наблюдения. Все это было похоже на большой автодром с той только разницей, что здесь, по мере того как сражение перемещалось, публика выбегала на поле, а то даже устремлялась прямо к месту, где бой был в самом разгаре. Дон Пабло видел пылающие разрушенные дома, обломки стен, на которых ветер трепал пробитые пулями афиши или хлопал оторванной ставней; видел висящие на деревьях или горящие тела крестьян, обложенные бензиновыми канистрами; видел, как, размахивая детским башмачком, смеется, не в силах остановиться, какая-то женщина; видел, как брызнули в разные стороны ящерицы из-под сутаны, прикрывавшей останки священника; видел старика, прибитого к кресту, в буквальном смысле распятого, с надписью над головой: «Шпион»; видел трупы прекрасных белокурых юношей, застывших в позе борьбы: смерть только обездвижила их и выбелила их лица. В полевых госпиталях лежали солдаты без рук, солдаты без ног, солдаты без лица; какой-то лейтенант медицинской службы совершенно невозмутимо сообщил дону Пабло, что применяет автаназию.
При виде тела бойца, который в течение трех дней один удерживал целый плацдарм (вокруг него было разбросано несколько десятков трупов вражеских солдат), баронесса К. вдруг забилась в истерике.
– Ах, красавец, какой красавец! – кричала она, пытаясь броситься на тело героя.
Приходилось сдерживать и других дам, которые тоже выглядели чрезмерно возбужденными.
– А, вечный этот психоз! – сказал с нервной усмешкой барон.
Несколько недель спустя, после того как оставшиеся в живых генералы побежденной армии обсудили условия сдачи и, обо всем договорившись, покончили с собой, дон Пабло сказал своим друзьям:
– Я вижу, что война, которая с некоторых пор всем народам мира кажется недопустимой, стала у вас национальным спортом. Пока вы занимаетесь ею тайно, но, судя по тому, что я видел, думаю, что в конце концов, сохранив прежние масштабы, вы ее узаконите, как узаконили мы корриду. Лично я, однако, считаю, что коррида – зрелище более благородное.
– Не думаю, чтобы того же мнения придерживались быки и лошади, – сказал барон К., принимаясь фотографировать груду сбившихся в клубок мертвых тел. Из-за облаков вышло солнце: оно было достаточно кровавого цвета.








