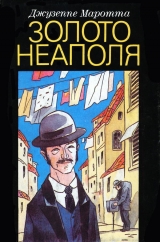
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
Это замечание о религиозности сознания Маротты очень существенно. Ибо именно распахивая в бесконечность наш ближний, такой простой и непритязательный мир, он делал его частью мироздания, наделенной, как и все мироздание, каким-то непостижимым, но несомненным смыслом.
Эта распахнутость в бесконечность, это непременное и действенное присутствие «дальней перспективы» превращает дробный мир коротеньких рассказов Маротты в единое, внутренне организованное огромное полотно – в такое же полотно, в которое складываются, в сущности, все фильмы Феллини.
Эта особенность Маротты, непременно соотносящего часть – не часть даже, частицу – с огромным целым, ясно проступает и в том, как организует он материал своих рассказов.
Ни герои, ни перипетии сюжетов, как правило, не бывают у него «в фокусе». Что касается героев, то мы никогда не имеем у него дела с характерами, с многомерными «образами» – у него есть только «лица», очень яркие, сразу говорящие «за себя» и «за все», и этого оказывается достаточно, как оказывается этого достаточно Феллини, у которого тоже всегда действуют только «лица». И перипетии сюжета тоже всегда поставлены у Маротты на место, то есть на второстепенное место, которое им и положено, если учесть, что они всего лишь часть другого, огромного, непостижимого сюжета.
Характерно, что рассказы Маротты часто обрываются «на самом интересном месте» просто пейзажной зарисовкой. Но в том-то и дело, что эта зарисовка не завитушка орнамента, а часть смысла, часть жизни, дополняющая ту, что выражает себя в сюжете.
Вот, например, Маротта описывает ночную улицу и на ней двух врагов, которые сейчас вступят в смертельную схватку. За происходящим наблюдают рассказчик и жена одного из участников драки, Ассунта. «Я смотрел на живот Ассунты… который мог подарить этим переулкам еще столько нищих и столько несчастных. Из-за облака появилась луна, полил дождь».
И все. Мы так и не узнали, чем кончилось дело, в рассказе оно кончилось луной и дождем.
Так обостренное чувство и широкофокусное зрение Маротты, имеющие своим источником религиозное чувство жизни, расширяли мир современника, возвращая обыденной жизни и обыденному человеку то достоинство, которого они оказались лишены в литературе неореализма.
К середине 1950-х, когда неореализм вошел в кризис и первый блистательный выход из него предложил Феллини своей «Дорогой» (1954), художественный мир Маротты стал выглядеть в контексте современного искусства уже не столь чужеродным. Теперь у него был такой единомышленник, как Феллини! И они действительно похожи: и страстным лиризмом, и широкофокусностью взгляда, создающими единственный в своем роде лироэпический сплав. Но есть и одно огромное различие, которое во многом обесценивает сходство.
Феллини – человек XX века, видящий мир в кризисном состоянии, будь то мир «Амаркорда», то есть эпоха фашизма, или мир «Интервью» – сегодняшняя наша действительность, сегодняшнее наше расколотое сознание. Как и Маротта, Феллини органически метафоричен, ибо видит мир в связях всего со всем, но его взгляд естественно фокусируется на разрывах этих связей, на катастрофе. Само его мироощущение катастрофично.
Мироощущение Маротты восходит к XIX веку, он человек цельного, не разорванного, гармонического сознания. И потому его «чудный» мир выглядит не затронутым современными катастрофами. Это мир, созданный для человека, мир, где все меряется человеком. Человеку как венцу создания соответствует у Маротты необыденный характер окружающей его обыденности; его жизнь, при всей ее заурядности, мечена чудом. И настолько же, насколько обыденность у Маротты возвышенна, настолько природное, космическое очеловечено и одомашнено.
Встревоженное солнце никак не может попасть в игольное ушко переулка. Ветер поднимается к вершине горы с ласточкой на спине. Море скучает по людям.
Эта связь – человек и природа – так крепка, что ее невозможно разорвать.
«В августе, – пишет Маротта, – воздух здесь пахнет деревьями и юной плотью, как если бы листья росли на голове у ребенка». В этом образе-кентавре, в этих листьях-волосах весь Маротта с его благоговейной доверчивостью к окружающему человека миру.
Этот мир весь открыт человеку, весь к нему направлен, он доступен (он должен быть доступен!) самому элементарному восприятию не мысли даже, а руке, глазу.
Ветер невидим? Только не у Маротты! «Проехал велосипедист, пряча под раздувшейся рубахой, словно узел с краденым, охапку ветра».
И даже море, эта огромная свободная стихия, тоже соизмерима с человеком. «Человек, живущий на берегу, – замечает Маротта, – держит море у себя дома, как костюм в шкафу». И не только с человеком! Самое огромное и самое мощное таинственным образом связаны с самым маленьким и беззащитным, и когда Маротта пишет, что «султанчики пены» на морской поверхности похожи на «вспухающее горлышко у поющей птицы», он не только «гладит» море этим сравнением, словно котенка, он еще раз утверждает высочайшую предназначенность человека, через которого и «осуществляется» мир.
«Раздвиньте немного дома, придвиньте море, вот так, хорошо» – так мог сказать только человек, глубоко ощущающий это предназначение. Метафоры Маротты не только всё связывают со всем – сам характер этих метафор, все сводящий к человеку, создает образ мира гармонического и исполненного смысла. И именно потому, что этот образ создается на уровне художественной ткани, никакие трагические сюжеты, а их у Маротты очень много, ничего не могут в нем изменить. Да-да, все так, словно говорит нам Маротта, и все же, и все же у мира есть какой-то прекрасный замысел!
Правда, различать этот замысел становилось все труднее. Маротта не мог не видеть, как резко стала меняться Италия с конца 1950-х годов. Страна, выдержавшая испытание фашизмом, не выдерживала испытания сытостью («итальянское чудо»), преобразовавшей Италию по типу массового общества и поставившей ее на грань духовной катастрофы.
Сознание Феллини вмещало происходящее в том смысле, что эта катастрофа, которую он показал в «Сладкой жизни», была для него не окончательной. За ней, пройдя сквозь нее, снова брезжил, продолжал брезжить свет «прекрасного замысла».
Сознание Маротты этих перемен не вмещало: происходящее застилало ему будущее, и свет «прекрасного замысла» светил ему только из прошлого, из прекрасного прошлого «до 1922 года».
Потому он и сказал: «Мы уходим».
И в 1963-м и в самом деле ушел – умер.
Но его книги все-таки не ушли, они остались.
Маротту всегда восхищал принцип взаимодополнения, царящий в гармоническом мире, где одушевленное дополнялось неодушевленным, природа – космосом, а человек – богом. И его искусство тоже было необходимой частью, необходимым дополнением искусства его времени: они смыкались, накладываясь друг на друга, как смыкаются – не механически, а глубоко проникая друг в друга – прошлое с настоящим. Так, скажем, его вполне можно воспринимать как дополнение картины мира, созданной Феллини, – картины мощной, горькой, трагической.
А у Маротты все не так! В окна, распахнутые в сад, влетают бабочки, навевая счастливые мысли, разговаривает во сне котенок по имени Родриго, успокоительное утробное гудение осы переносит нас в летний деревенский зной, и мать, совсем еще молодая, ведет нас домой, и мы на ходу почти засыпаем, доверившись теплоте милой руки, которую держим в своей. И вполне возможно, что, хорошенько прислушавшись, мы услышим в пустой темной кухне легкое детское дыхание давно умершей бабушки, а во внезапно установившейся тишине нашего плеча вдруг коснется (легко, как лист!) рука матери, которой тоже давно нет на свете.
Да, все это вполне возможно, хотя мы и знаем (как знает об этом и Маротта), что если, отходя от материнской могилы, мы услышим за собой звук знакомых шагов и резко обернемся, мы не увидим там «ничего, кроме горнего света».
Но Маротта вовсе не утешает, он и не собирается нас утешать. Он просто не дает нам забыть, что у жизни есть, не может не быть какого-то высшего смысла.
С. Бушуева

Из книги «Золото Неаполя»

Предисловие
Меня да Неаполь с его домами и с его людьми – вот, пожалуй, и все, что найдете вы в этой книге. В жизни каждого пишущего, будь он рассказчик, или поэт, или бродячий певец, все равно кто, всегда наступает такое время (оно может затянуться надолго, а может быть и коротким), когда, о чем бы он ни заговорил, он говорит о самом себе, ибо оказывается, что говорит он лишь о тех событиях и людях, которые вошли в его жизнь или как-то с ней соприкоснулись.
Много лет я прожил вдали от родного города, общаясь с миром посредством печатного слова, которому на севере внимают гораздо охотнее, и вдруг Неаполь, моя молодость, населявшие ее события и люди позвали меня с той настойчивостью, с какой умеют звать только обитатели партенопейских переулков, – повелительно и в то же время нежно; а может быть, они просто напомнили мне, что мы никогда и не разлучались, что я всегда носил их в себе.
А мое море?
Вот оно накатывает – и тут же откатывается – на пляж Сан-Джованни-ди-Поццуоли; от нескончаемого этого прилива песок то темнеет, то светлеет, как лоб, на который набегают морщины; да и открытое море в тех местах, где оно темно-синего цвета, тоже кажется морщинистым, хмурым; но оно же и смеется – там, где играют на нем белые султанчики пены, вспухающие вдруг над водой, как горлышко у поющей птицы. Именно в этой, веселой воде, а не в той, хмурой, нужно размачивать лепешки. Я имею в виду знаменитые наши таралли с перцем и топленым свиным салом, которым морская соль придает еще более пикантный, пронзительный, я бы даже сказал, волнующий вкус – волнующий так, как волнует покачивание лодки. Лепешки эти и едят именно в лодке, бросив весла и разглядывая берег, скажем, дома Мерджеллины, которое отсюда, с моря, выглядят зыблющимися и подрагивающими, как рисунок на чьей-то блузке. Так вот, оно столько раз входило в нас, наше море, со всеми этими лепешками, моллюсками и рачками – самыми острыми и замысловатыми, что какая-то его часть, наверное, осталась у нас в крови. Порою достаточно плеска фонтанной струи, или бегущего облака, или порыва сирокко, чтобы море забилось в нашем пульсе, а пальцы задвигались сами собою, словно обхватывая весло.
Мы знаем его наизусть, наше море, мы помним его пощечины и его ласки; мы слышали, как оно рычит и как мурлычет; а позади каприйского катера оно вскипало и пенилось, как кружевной шлейф позади невесты; оно было домашним и ручным, как вода из колонки, и мы до сих пор носим его в себе, как носим на груди вытатуированные скалы и фигуры русалок.
Море, переулки, люди, населявшие мою молодость, и заставили меня написать эту книгу, которую я посвящаю своей матери.
«Мама» – это еще одно слово, которое, может быть, слишком часто встречается на этих страницах. Но мы с матерью были друзьями так недолго, что я не хочу упустить ни одной возможности снова побыть рядом с нею. Когда, переехав в Милан, я обзавелся там домом и положением, я сразу же вызвал мать к себе, но она недолго прожила с того счастливого дня и теперь лежит на кладбище Музокко.
Если бы меня привели на Музокко с завязанными глазами, я все равно узнал бы все его аллеи по звуку собственных шагов; зимой льдинки взрываются у меня под ногами так, что мне кажется, будто мои израненные ноги идут по битому стеклу, которое насыпают по верху ограды; а летом сдержанную скорбь кипарисов то и дело нарушает птичья возня, но потревоженные ветки тут же приводят себя в порядок и всем своим видом выражают вам еще более глубокое, чем прежде, сочувствие.
Мы везли мать на Музокко с другого конца Милана, я плакал у Порта Венеция и на бульваре Семпионе, но когда наконец гроб опустили в могилу, я заметил, что больше не плачу; мне самому была ненавистна моя бесстрастная, словно у постороннего, физиономия, к которой лицо матери было обращено со своим последним вопросом. Но у меня все не как у людей, я человек нескладный, и сам об этом знаю. Должно было пройти много лет, прежде чем мать стала умирать для меня каждый день, и Музокко сделался для меня таким привычным, что я могу теперь пройти его насквозь с закрытыми глазами; но тогда, впервые отойдя от ее могилы, я вспомнил первую нашу разлуку, ту, когда я пошел в школу, – никогда раньше она с такой яркостью не воскресала в моей памяти. Помню, мама оперлась на мою парту и несколько мгновений постояла, прижавшись щекой к моим волосам, а потом ушла, и ее тень за порогом стеклянной двери сразу же растаяла в трагически белом, меловом солнечном свете. А сейчас, мама, ухожу я, а остаешься ты, и это уже навеки, подумал я, обернувшись к участку номер семьдесят один; майское солнце било мне прямо в спину, такое же, как тогда, белое, обескровленное солнце несчастья.
Золото Неаполя
В мае 1943 года сестра Ада написала мне из Неаполя:
«Помнишь дона Иньяцио? Ему пришлось перебраться в подвал на Мерджеллине. Но последняя бомбардировка смела у него все подчистую. Можешь себе представить, убегая из дому, он так торопился, что забыл на комоде вставную челюсть! Но ты же его знаешь. Он говорит, что не может оставить своих клиентов. Потому он поселился пока в воронке от бомбы, устроив над ней навес из жести. Раздобыл еще где-то табуретку и столик. Не помню, писала ли я тебе, что в последние годы он живет тем, что переписывает ноты и дает уроки игры на гитаре. В общем, уже через два дня он был готов принять в своей воронке учеников. Но я думаю, ему не разрешат там остаться. Правда, он утверждает, что это только его кабинет, а ночью он пользуется гостеприимством какого-то своего ученика. Что за человек! В заявлении о возмещении убытков он написал: „Прошу срочно достать мне вставную челюсть, потому что без нее я не могу курить трубку“».
Тем не менее он улыбается даже беззубым ртом, наш дон Иньяцио Цивьелло, и, разумеется, я помню его так, словно расстались мы только вчера.
Он был горбун, но не такой, какими бывают обычно горбуны, – выше среднего роста, плотный и крепкий. Должно быть, природа наделила его этим изъяном в самую последнюю минуту, когда была уже готова выпустить его в свет как нормальную, совершенно здоровую особь. Словно забавляясь, она сделала завиток в его спинном хребте, который, развившись, стал похож и формой, и плотностью на ранец, набитый камнями.
Дон Иньяцио не слишком горевал по этому поводу; впрочем, в ту пору, когда ему было двадцать, у него было достаточно много денег, чтобы он мог отвлечься и об этом не думать. «Это недостаток, который составляет человеку компанию» – так в конце концов выразился он относительно своего горба; на вечеринках, где дон Иньяцио прокучивал слишком рано полученное наследство, он, опьянев от плохого шампанского, подмигивая, показывал на свой горб дружкам-прилипалам обоего пола и говорил: «Там у меня заперт мой ангел-хранитель».
Но настал день, когда и в последний из его дедовских домов вошла, как говорит поэт, «гербовая бумага в руке адвоката». И назавтра у дона Иньяцио не было уже ничего, кроме нескольких колечек и сережек его матери; он завязал их в узелок, которым обмахивался, прокладывая себе дорогу между двумя рядами ошеломленных соседей по переулку, где до того слыл богачом. Ходил слух, что он поколотил чиновников, явившихся описывать его имущество, и он действительно был готов это сделать, но, увидев среди арестованных вещей старый пыльный клистир, только расхохотался.
Два часа спустя на площади Каподимонте он обратился к продавцу жареных семечек:
– Позвольте присесть рядом с вами? Мне бы хотелось немного поплакать, чтобы облегчить душу.
Но на самом-то деле листва и солнце к тому времени его уже успокоили.
Дон Иньяцио извлек откуда-то засаленную карточную колоду, и прямо на камне они начали играть в ландскнехта. Это очень популярная у нас азартная игра, не обремененная излишними формальностями, и потому она никогда особенно не затягивалась; к моменту, когда стало смеркаться, она успела лишить дона Иньяцио последних его сокровищ. Выигравший, которого распирали самые честолюбивые планы, удалился, оставив дону Иньяцио деревянную миску, со дна которой подмигивали ему, как сотни желтых глаз, жареные семечки. Некоторое время дон Иньяцио увлажнял их солью своих слез, потом с удовольствием принялся есть и, наконец, растянувшись на полированной базальтовой скамейке, обратился с речью к звездам.
Вполне вероятно, что вплоть до этого момента все свалившиеся на него несчастья дон Иньяцио и заслужил, но проснулся он совсем другим человеком.
Грация, девушка из района Санита, не девушка – сплошные вздохи и веснушки, повисла у него на шее, громко крича: «Я все равно, все равно хочу выйти за тебя замуж».
Дон Иньяцио указал ей на миску с семечками:
– Вот мой дом и все мое достояние, – сказал он и обнял ее.
Однако когда они поженились, навязанную ему торговлю семечками дон Иньяцио заменил взятой напрокат шарманкой. Жена ходила следом за ним с ребенком на руках, жадные губки всасывали материнское молоко вместе со звуками «Фуникули-фуникуля», а дон Иньяцио собирал пожертвования, поставив тарелочку для денег прямо себе на горб. Руки рабочих и портних мешкали, прежде чем бросить монету, и дон Иньяцио подмигивал сам себе, когда чувствовал как суеверные пальцы дотрагиваются до его горба.[7]7
В Неаполе существует поверье, что дотронуться до горба – к счастью.
[Закрыть]

Долгие месяцы на площадях и в переулках эхом отдавался его голос, баритональный в низах, контральтовый в верхах, то был как бы дуэт-соло; от этого голоса начинали дребезжать стеклянные колпаки на статуэтках святых во всех домах округи, от него сбивались с нормального хода швейные машинки и рвались резинки в трусах; от него мутнело вино в бочках остерий и на столах лопались бутылки, и все-таки ему нельзя было отказать в какой-то свирепой проникновенности!
Но как-то раз в ту пору, когда в моде была песенка «Мадонна, за кого ты будешь в споре? Поспорили тут небеса и море: кто дал лазурь глазам прекрасным этим?», наш шарманщик вынырнул из переулка именно в то мгновение, когда с противоположной стороны в него въезжал автомобиль.
Вскрикнули разорванные струны, затрещала юбка синьоры Цивьелло, сидевшей на приступочке инструмента (потом юбку эту нашли лежащей отдельно на тротуаре, всю красную от крови); ребенок же проснулся прямо на небесах.
– А ведь у него даже горба не было! – всхлипывал дон Иньяцио, кладя сына на мраморный стол в морге больницы Пеллегрини. – Вот, профессор, посмотрите, сами убедитесь.
Чтобы успокоить его, врачи сделали вид, что осмотрели крохотное тельце, признав, что ребенок был совершенно нормальным.
В течение последующих дней соседи серьезно беспокоились за дона Иньяцио. Он все бродил и бродил по двум своим комнаткам, держа в одной руке колыбель, а в другой – окровавленную юбку. Он рычал на всякого, кто пытался войти и заставить его поесть и поспать. «Пропуск! – кричал он. – Докажите сначала, что вы так же несчастны, как и я, а не то – вон отсюда!»
Соседи ограничились тем, что днем и ночью следили за ним из окошек, выходивших на общую галерею; один из наблюдателей доложил, что маниакальное хождение дона Иньяцио взад и вперед по комнатам облегчалось тем, что стены и мебель сами от него отодвигались. Но номер лотереи, который был выбран в связи с этим сообщением, принес в ближайшем розыгрыше убийственное тому опровержение; видимо, на итоге наблюдений сказалась пристальность, с которой они велись, а также переменчивость света неаполитанской зари, скрадывающей объемы и размеры. Впрочем, как раз в тот самый день Цивьелло свалился без чувств и стал доступен проявлениям людского сострадания.
Но еще целительнее подействовало на него ремесло, которому решил он теперь себя посвятить, действительно одно из самых шумных и самых бодрящих. В течение нескольких лет дон Иньяцио слыл одним из лучших мастеров фейерверочного дела в Неаполе. Во время больших праздников, когда святые под шелковыми балдахинами покидают церкви, смешиваясь с простолюдинами, которые тащат их на своих спинах, сгибаясь под тяжестью их драгоценностей и золотых покровов, но зато и обращают к ним в эти дни самые трудные свои просьбы, дон Иньяцио поджигал бесконечно длинную связку ракет, которая колыхалась в воздухе, как виноградная лоза. Но это было всего лишь начало процедуры, требующей искусства и ловкости, потому что, как только догорал фитиль, дону Иньяцио следовало немедленно вмешаться. И вот тут-то спокойный и невозмутимый дон Иньяцио буквально творил чудеса. Он подпрыгивал вслед за каждым взрывом, то есть как бы шел с ним под ручку, как истый дьявол появляясь и исчезая в дыму; он вставал на пути большой взрывной волны, и она опадала, увязнув в нем, как в желеобразной мякоти моллюска; от неожиданных взрывов он уворачивался посредством финтов, достойных тореадора. Если бы однажды дон Иньяцио посреди оглушительных взрывов воззвал к жене и сыну, о которых, казалось, позабыл, это прозвучало бы контрапунктом всему этому шуму, ужасным диссонансом; но это одно лишь наше предположение, развить которое мешает то обстоятельство, что на празднике в честь Мадонны дель Кармине какой-то кол, вырванный из земли взрывом, вонзился дону Иньяцио прямо в живот.
Три месяца спустя, когда неутомимый горбун снова мог зажать в зубах свою трубку, он выглядел весьма плачевно. Пришлось ему наняться теперь швейцаром в один старый дом в аристократическом районе Аренелла.
Усевшись на пороге, на самом солнышке, он учился играть на гитаре. Стена, к которой он прислонялся, становилась весной мягкой от множества желтых цветов. «Да-да, именно так», – казалось, говорили головки вьюнков гитарным аккордам, которые день ото дня становились все более сложными, все более виртуозными; скрежет трамвая на ближайшем повороте, треньканье стаканов в соседнем лимонадном киоске тоже по-своему аккомпанировали резковато звучавшей гитаре старательного дебютанта. Чтобы округлить свое ничтожное жалованье, дон Иньяцио завел себе еще и приработок: то были чаевые, которые он получал от жильцов, возвращавшихся домой за полночь и застававших дверь запертой. Жильцы, которые в предвидении близости этого часа начинали поспешно одолевать ведущий к дому подъем, частенько встречали там какого-нибудь знакомого, который задерживал их увлекательной беседой и в котором поэтому нетрудно было угадать старательного пособника дона Иньяцио.
Но тут настала безумная наша зима, если не ошибаюсь, последняя, которую я провел в Неаполе.
Сирокко и трамонтана что ни час сменяли друг друга, угрожающие, словно ультиматум; ночью в густой пещерной темноте слышались какие-то тревожные звуки, похожие на пощечины, и вот наконец разверзлись небеса. Сотни мест в городе оказались затопленными и случился один обвал – разумеется, в Аренелле. Комнатка под лестницей, где спал Цивьелло, уцелела, но он просидел там пятнадцать часов. В результате люди сошлись на том, что у Цивьелло, как у кошки, семь жизней, то есть что он практически бессмертен.
А почему бы, собственно, и нет?
Приходит время, и я уезжаю на север, теряя дона Иньяцио из виду. Его гложет артрит, волосы и зубы прощаются с ним навсегда, но при мысли об этом он разражается смехом, как в ту пору, когда чиновники конфисковали у него старый пыльный клистир. Он сделался замечательным гитаристом. Играет на свадьбах, выделяясь там из всех своим остроумием, а также ловкостью, с которой он незаметно запихивает в карманы содержимое подносов с пирожными; он выдумывает забавные словечки и фразы, а также невинные с виду, но ядовитые анекдоты, которые таинственным образом распространяются по всему Неаполю и которые разный сброд развозит на трансатлантических пароходах по всему свету. И вот он вновь неожиданно возникает в письме моей сестры Ады.
Я, дон Иньяцио, могу представить себе буквально все. Перед развалинами своего бог весть какого по счету разрушенного дома ты, конечно, отчаянно заламывал руки и плакал. И кто-то, глядя на тебя, наверное, подумал: нет, этот человек – а ведь он еще и горбун! – не переживет такого несчастья. Но как бы не так! Прошел всего час, и ты уже нашел воронку от бомбы и кусок жести. Кроме того, ты сумел раздобыть столик и стул. Бьюсь об заклад, что сестра забыла упомянуть о циновке, о которую твои ученики, приходя брать уроки, вытирают ноги, прежде чем войти. Да, это всего лишь твой кабинет, который то ли тебе оставят, то ли нет, но ты, не дожидаясь, когда тебе выдадут искусственную челюсть, уже улыбаешься своим беззубым ртом. Это очень важно, Цивьелло. И даже наводит меня на некоторые размышления.
Вот жестоко пострадавшие от войны город и люди, говоря о которых часто произносят слово «героизм». Но любой из наших Цивьелло наделен одной способностью, значение которой далеко превосходит смысл этого мраморного термина.
Способностью вставать на ноги после каждого поражения; уходящим в глубь веков, наследственным, глубоким, благородным, высшим терпением. Переворошив века и тысячелетия, мы, может быть, обнаружим его истоки в конвульсиях здешней почвы, неожиданных взрывах смертоносных паров, в морских валах, затопляющих долины, во всех опасностях, которые подстерегают здесь человеческую жизнь: золото Неаполя – это его терпение.
Они уходят в глубину веков, эти семь жизней дона Иньяцио, и именно потому он не может покинуть Мерджеллину, где живут ученики, которых он учит играть на гитаре.
Море тут – в двух шагах, оно спокойно и торжественно, как чаша со святой водой перед лицом нечеловеческих мук. Но стоит только небу проясниться – так думал я в мае 1943 года, – как неаполитанцы окунут пальцы в эту благословенную милую воду и, осенив себя крестным знамением, снова начнут работать и смеяться.








