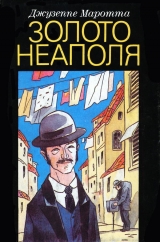
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Мандолина
В Неаполе, Каподимонте, Вомеро Арнеллу называют холмами, но на самом деле это не холмы, а огромные перевернутые мандолины, только без грифов. На миг я прищуриваю глаза, пристально смотрю на город, простирающийся за плавной округлостью корпуса мандолины (внезапный наплыв изображений, трудно сказать – реальных или рисованных), и сразу же убеждаюсь в том, что Неаполь образует продолжение и завершение моей мандолины. А может быть, и наоборот. Сколько в нем лестниц, похожих на звукоряд, лестниц, ступени которых убегают вверх, постепенно сливаясь в одну точку и как бы превращаясь в высокую ноту, захватывающую дух. Виа Реттифило, основательная и вся черная от публики, – это парная струна «ля»; виа Караччоло и набережная Кьяйя, два низких тона света и шума моря, словно текут по позолоченным или посеребренным парным струнам «соль» и «ре», это, несомненно, их тональность; и что, наконец, вы скажете о «ми» – виа Толедо, пронзительной, прозрачной, я бы даже сказал, сардонической ноте, совершенно такой же, как эта самая неаполитанская из всех улиц Неаполя? Боже мой, вот инструмент, который прыгает к вам на колени, как ребенок! Инструмент, на котором вы еще лучше сыграете спичкой или ногтем мизинца, если потеряли медиатор! Инструмент, который любому, кто только взглянул на него, отвечает: «Я здесь!» – и уже поет про себя: «Мария…» Печальный инструмент, который скрашивает одиночество и вселяет веселье, как горбун, приносящий счастье. Боже мой! Где еще он мог появиться и войти в употребление, если не в Неаполе? Для вас мандолина – это серп луны, проглядывающий среди облаков над Кастель-дель-Ово; для меня же, знающего толк, мандолина и есть мандолина из кудрявого клена – белокурая, живая, изящная, проворная, так что едва я поднимаю руку и прикасаюсь к струнам, как вы уже слышите ту самую серенаду Тозелли, которой бродячие музыканты из Санита в 1912 году довели до изнеможения в Кремле русскую императрицу.
Те мандолины, у которых нет изысканного яркого лунного блеска клена, бывают непременно темными, темнее самой темной ночи. Это мандолины из палисандра, лиловатого, как гладкие или развевающиеся на ветру волосы девушек в Кьятамоне. Более прихотливая и более женственная, темная мандолина требует украшений. Она должна быть испещрена перламутром и сверкающими блестками, на которых во время народных праздников переливается свет ацетиленовых огней и в которых, перед тем как замереть, на миг успевают отразиться даже шестнадцатые. Я никогда не видел, чтобы длинные грязные пальцы моего учителя музыки дона Аниелло Апонте испачкали хоть какой-нибудь завиток несравненного творения Виначчи – так звался в мое время Страдивариус среди мастеров, делающих мандолины. Я всегда отдаю должное этим пальцам, которые не оставляли струн в течение целого дня; пальцам действительно грязным, но грязным от музыки. Когда я говорю: «Виначчи», я говорю о малиновом переборе струн с последним безумным аккордом, расположенным бог знает на сколько строк выше нотного стана и недоступным никому, кроме Апонте или его призрака; я говорю о нежной, мягкой, даже сладострастной тени в полости корпуса мандолины; я говорю об острых колках, на которые, если они заржавели и ослабли, достаточно поплевать, чтобы они вновь натянули струны; я говорю о плавном и размеренном звучании струн, которое от шепота переходило к рычанию, нисколько не утрачивая своей чистоты; я говорю о подлинно великой мандолине, которой в течение сорока лет здесь, в Италии, и за границей отдавал свою жизнь дон Аниелло Апонте, по прозванию Несуразный, до тех пор пока на празднике святого Рафаила он, не желая прервать польку, поднес ко рту мандолину и украдкой, из уст в уста, перелил в нее свои последние силы. Было это двадцать четвертого октября 1918 года.
У моей первой мандолины не было ни имени, ни родословной, и она обошлась мне в девять лир, что составляло, однако, мой трехдневный заработок подростка. Я заставил ее вдохнуть запах моего дома, мы посидели во всех его уголках, где было хоть немного места и покоя для нас обоих. Я помню, как ей досаждали молитвы, которые мать и сестры шептали на кухне, перебирая четки, те молитвы, которые из-за нее звучали как таинственный сговор. (Мама, ты ведь простила нас за то, что мы, мандолина и я, разучили песенку: «Надеемся на небе увидеть наяву святых и херувимов – всю местную братву!») Какое утешение! К тому же дерево мандолины – плохой проводник аппетита. Когда я держал ее на коленях, то даже забывал о положенной мне по карточке булке из рисовой муки, об этом ослепительно белом, словно саван, хлебном пайке времен последней войны. Я хочу, чтобы меня правильно поняли: мы – мандолина и я – сначала хорошо узнали друг друга, а потом уже стали вместе играть. Я думаю, что у всех в Неаполе точно такие же взаимоотношения с этим инструментом. Я полюбил свою мандолину, когда почувствовал, что от нее исходит мой запах, и когда почувствовал на себе запах ее дерева, этот смешанный и неуловимый запах стружки и лака и даже какого-то терпеливого ожидания. Беру на себя смелость утверждать, что мандолина живая, что от нас, живущих, она берет все, что можно взять, и поэтому со временем впитывает всю соль и горечь существования своего владельца. Я сам убедился в этом. Ночью, на рассвете или при первых шумах начинающегося дня я наслаждался звуком каждой струны до тех пор, пока он не замрет. Я смотрел, как солнечные лучи преломлялись в маленькой розетке, которая поглощала вибрацию звука, лучи, казалось, случайные, но наводившие на вопрос: не образуется ли там, в чреве мандолины, какая-то особая смесь красок и звуков? Меня мучил вопрос о полутонах: ля-диез – это си-бемоль, но почему бемоль оказывается более задушевным и таинственным, чем диез?
– Ты выучи лучше такты и размеры, осел! – недовольно кричал мне дон Аниелло, негодуя при каждом нарушении знаков альтерации. – А то сольфеджио для тебя хуже каторги!
Это был жалкий старикашка, у которого, казалось, остались одни только пальцы; он одиноко жил в своей лачуге, хотя у него было по меньшей мере три живых жены и по несколько детей от каждой из них. Все эти родственники ежедневно наведывались к нему, забирали с собой все, что можно было забрать, и уходили, осыпая друг друга оскорблениями. Налоги, поборы и болезни, одинаково разрушавшие его здоровье, сживали со света моего необыкновенного учителя. Наверное, и прозвище свое – Несуразный, данное ему еще в детстве, он получил потому, что не умел сообразовываться с людьми и с обстоятельствами – словом, со всем миром. И если его странное и беспомощное существование все еще продолжалось, то, думаю, только потому, что ангел смерти никак не мог подыскать души, с которой соединить его душу. Но дон Аниелло с мандолиной в руках! Ему говорили:
– Не в обиду будь сказано, но ради такого случая сделайте одолжение, дон Аниелло, пригласите еще гитару и по крайней мере вторую мандолину.
– Кому вы это говорите? – отвечал дон Аниелло. – Я маэстро среди всех маэстро. И первая мандолина, и вторая мандолина, и гитара – все уже здесь. Это я.
И вот дождь, даже град ударов его пальцев по струнному ряду! Безукоризненное скольжение руки по грифу, порождавшее звуки непостижимой глубины. При этом я невольно вспоминал старого скрягу, извлекающего золотые монеты из длинного чулка. Инструмент работы мастера Виначчи было действительно единственным и многоликим. В самом деле, зачем нужна была вторая мандолина и гитара? Часто празднества заканчивались чем-то вроде гипнотического оцепенения вокруг дона Аниелло. Тогда он начинал импровизировать. То были воспоминания и новые композиции, звукоподражания и вариации, угрозы и мольбы – сама природа, укрощенная и воссозданная в музыкальной фразе. Казалось, сам дьявол смеялся до слез под табуретом маэстро, когда однажды на свадебной пирушке невеста пришла в такое исступление, что бросилась с поцелуями на шею маэстро и тут же получила первые пощечины от новоиспеченного супруга. Дон Аниелло воспользовался суматохой, чтобы дать волю мучившему его кашлю. Обычно на людях он прятал свой кашель в карман, как носовой платок, и пользовался им, когда было нужно.
Когда я стал брать уроки игры на мандолине у безумца, который начал с вопроса, не прихожусь ли я братом какой-нибудь смазливой девице.
– Если нет, – заявил он мне, – то все у нас пойдет на лад, потому что я уже стар и вышел из игры, а ты хорошенько запомни слова «сорелля миа».[44]44
Sorella mia (ит.) – сестра моя.
[Закрыть] Соль, ре, ля, ми – это названия четырех струн. Так ты и должен мне отвечать, если я спрошу тебя об общих правилах игры на мандолине. Ты меня понял?
Такой же сердечный и вызывающий, вычурный и бесхитростный, простирался вокруг нас Неаполь, выглядевший как оркестр в полном составе. Решетки балкончиков напоминали арфы; круглые, как иллюминаторы, оконца походили на раструбы тромбонов, черные вмурованные в стену электрические кабели с фарфоровыми изоляторами казались кларнетами, а трещины в туфовых стенах словно воспроизводили эфы на верхней деке скрипки. Маленькие площади походили на басовый ключ или на половинную ноту: крохотный кружочек на палочке… Подражая своему учителю, я на ночь укладывал мандолину на стул подле кровати, как разбойник свое ружье. От скольких сновидений самых разных людей тихо дрожали у их изголовья струны мандолины! Повторяю, мандолина – это одушевленный инструмент, который или привязывается к вам, или навсегда исчезает, как кошка. Мандолина не терпит забвения: или вы будете играть на ней постоянно, или потеряете ее. Я потерял свою около тридцати лет назад. Когда умер мой незаменимый учитель, я бросил музыку. И при первом же переезде на новую квартиру – прощай мандолина. Пальцы дона Аниелло навеки онемели через три дня после того трагического концерта двадцать четвертого октября 1918 года. С праздника святого Рафаила он вернулся в смертельной лихорадке. Но еще поздно вечером двадцать седьмого, уже лежа в постели, он выслушал и с презрением отверг мои ученические этюды. Его мандолина работы Виначчи лежала рядом с ним на одеяле, и так их обоих и нашли около полуночи – холодными и безжизненными. Я думаю, что смерть за ним явилась крохотная и будничная, тупая и невыразительная, словно выползшая из корпуса мандолины, где она все время скрывалась, как голова черепахи под панцирем. Странные родственники дона Аниелло нагрянули для раздела его имущества и позорно перессорились между собой. Единственной ценной вещью была мандолина Виначчи, но ее сломали в потасовке. Дон Аниелло остался наконец наедине с самим собой в загробном своем одиночестве. Жители переулка принесли на заупокойное бдение только свои слезы. Моя мать, у которой их было хоть отбавляй, накинула шаль и сказала мне: «Пойдем, Пеппино».
Крестный отец
Если я сразу же без обиняков скажу, что дон Эудженио Ланцалоне был либо лучшим, либо худшим из людей, то кто же мне поверит на слово? Однако благоволите прежде всего обратить внимание на дом дона Эудженио в Кристаллини, на единственный в Неаполе бассо,[45]45
Бассо – в Неаполе жилое помещение без окон с застекленной дверью на уровне тротуара.
[Закрыть] украшенный вывеской не только на наружной двери, запиравшейся на ночь, но и на внутренней, застекленной, через которую внутрь бассо проникает дневной свет. Наверное, вывеска – это слишком громко сказано, если иметь в виду маленькую целлулоидную пластинку с надписью «Ланцалоне. Сезонная торговля. Рыба и фрукты». А теперь я просто и не знаю, с чего начать, чтобы дать вам представление о человеке и о его жизни: все здесь перепутано и противоречиво, и ничего толком нельзя понять и выделить из общей картины; одним словом, я вижу перед собой дона Эудженио в его ветхом, как из лавки старьевщика, костюме и сразу же спешу сообщить, что последнее наводнение в Кристаллини (вода низвергается сюда с холмов Каподимонте, образуя бурные засасывающие маленькие водовороты, похожие на пупки) лишило семейство Ланцалоне и вывески, и новорожденного; только мебель удалось чудом отыскать на площади Кавура. Теперь я хочу объяснить, что «сезонные фрукты» – это моллюски и раки, естественное дополнение рыбы, которую продает дон Эудженио, а отнюдь не фиги или груши; и добавлю еще, что мысль о вывеске пришла в голову дону Эудженио на случай, если вдруг кому-нибудь посреди ночи понадобится постная пища; и она в самом деле понадобилась: вот откуда ни возьмись маленький человечек фантастического вида, запыхавшийся и весь белый в лунном свете, срывает дверь с петель и кричит, что беременная срочно требует кефали; рыба появляется так быстро, как будто Ланцалоне спит, держа ее у себя на ночном столике, но она уже попахивает, и дон Эудженио говорит, пожимая плечами: «Будем взаимно снисходительны, уважаемый. И ваша супруга ведь не вполне в порядке». Стрекочет сверчок, и луна безмолвно взирает на них сверху.
При этом дон Эудженио держал в доме лишь «остатки» своего товара: жена и дети – донна Элиза и Дженнарино, Карлуччо, Мими, Кармелла, Сальваторе, Джованнино – и без того так тесно располагались в двух крохотных комнатках, что для камбалы уже не хватало места, не то она была бы обречена сдохнуть от удушья. Лавка дона Эудженио была передвижной: бывшая повозка, которую тащил Дженнарино и сзади подталкивал Мими, или Доменико («Меня зовут Мими, но мое настоящее имя Доменико» – это могли бы пропеть кроме него и многие юноши в Неаполе), и которая со всех сторон обставлялась стульями, выпрашиваемыми доном Эудженио там, где ему случалось развернуть свою торговлю. Сколько я его помню, ему было за пятьдесят, и он был похож на подвешенную сосиску, длинную, как географический перешеек; к нему относились с почтением, потому что в молодости он многим переломал кости на пляжных ристалищах среди перевернутых лодок, вершей и рыболовных сетей, разбросанных по берегу, как плащи и шлемы на арене. Кроме того, он хорошо ладил с блюстителями закона и был непревзойденным в умении подкупить их, так что однажды на площади Латилла он даже закричал: «Громадная скидка! Спешите воспользоваться! Только на сегодня! Полицейского поймали с поличным и арестовали, потому необычайное снижение цен!» Я словно вижу толпу вокруг дона Эудженио под ленивым февральским солнцем, которое светит, да не греет; из корзины подмигивают салака, сардины, омули – настоящие они или поддельные? Я доподлинно знаю, что у розовых моллюсков, выставленных в суповой миске как самый свежий улов, настоящей является лишь оболочка: дон Эудженио просто набил их умело приготовленной начинкой.
Или же вот Кармелина, самая младшая в семье Ланцалоне, отправлялась искать удачи на людную виа Толедо с кульком краснобородок. Безошибочно выбрав в толпе нужную ей даму, она протягивала ей кулек и умоляюще причитала: «Посмотрите, синьора! Вы только посмотрите, какая прелесть!» Даже королева со всей своей свитой не сумела бы избавиться от этой маленькой попрошайки. С одного тротуара на другой, от виа Толедо до виа Кьяйя Кармелина бесстрашно преследовала свою жертву, не обращая внимание на ее гнев и растерянность. «Какие прекрасные рыбки… но как им не везет», – скулила она, словно напевая, до тех пор пока синьора не догадывалась, что ей придется раскошелиться (пусть даже вдвойне за кулек – дружеская сделка!), чтобы вернуть себе утраченное право идти своей дорогой без краснобородок.
При таком положении вещей деньги так и текли в карманы дона Эудженио. Тогда почему же терпело нужду семейство Ланцалоне? Спешу пояснить, что ни карты, ни вино, ни женщины не разоряли нашего замечательного рыботорговца; его тайным пороком была чистая добродетель, его демоном был ангел: он разорял себя ради своих крестников – вот и все. В Неаполе очень серьезно относятся к обязанностям крестного отца, но дон Эудженио превосходил в этом всякую меру как своим безграничным усердием, так и стремлением умножить свои заботы не менее чем на десяток новых крестин и конфирмаций в год. Каждое слово, каждый символ и того и другого таинства наполняли его радостью и восхищением: протяжные низкие звуки органа, как эхо молитвы Христовой, словно замершей в глубоких подземных озерах; слова и жесты священника или епископа; соль и вода купели, а также миро конфирмации; но главное – возвышенные слова всех этих ритуалов. Новорожденный или подросток, эти создания, которым суждено столько испытаний и которым, быть может, недостанет помощи единокровных родственников… Будь ты, крестный, ему последней опорой. «Да, господи, не сомневайся во мне», – неизменно шептал дон Эудженио в ответ на каждую непостижимую для него латинскую фразу. В то время, о котором здесь идет речь, он был крестным отцом половины города и не забывал даже крестников, которых унесла недавняя эпидемия. Я видел, как каждый второй день ноября он направлялся в церковь Поджореале со связкой длинных свечей; он казался с ними ликтором.
Нравится вам это или нет, но этот продавец рыбы, чувства которого, возвышенные и странные, походили на скинии во время процессии на празднике кущей, желал и даже требовал того, чтобы крестники злоупотребляли его добротой. Семейство Ланцалоне целыми неделями питалось одним лишь вареным картофелем, но зато «крестник» Мильяччо каким-то чудом заплатил нотариусу по одному своему давно просроченному векселю; не было недостатка в адвокатах и в ортопедических приспособлениях и у крестника Барреты, которого на Руа Каталана насадила на рог взбесившаяся корова; чтобы укрепить балками лачугу крестника Иаконе (ступени лестницы каменоломни Петрайо совершенно не желали считаться с ней и сотрясались над самой крышей), дон Эудженио вынужден был пожертвовать своими золотыми часами и матрасом, набитым шерстью; что ж, теперь Кармелине приходится спать на матери. Пойдем дальше. Кто вернул в дом, заставив ее выплакать все свои слезы в церкви Санта Мария Оньибене, легкомысленную жену крестника Сорбо, который грозил не оставить камня на камне на виа Мариано д'Айала, если жена к нему не вернется? Кто ухитрился собрать, заплатив каракатицами и угрями (один взнос сегодня, другой завтра), приданое для сестры крестника Ассанте, ничтожнейшего работника прачечной в Фуоригротта? Дон Эудженио предлагал, давал, спешил на помощь, вечно опасаясь обмануть справедливые надежды крестников или, хуже того, вечно страшась, что мстительный орган наполнит колючим хворостом его подушку или заставит протухнуть еще живую рыбу прямо у него в руках. Так дело дошло и до публичного оскорбления, нанесенного крестнику Габриеле Полличе на виа Мандрагоне, которое дон Эудженио немедленно принял на свой собственный счет.
Обидчик, задиристый плотник Ианнелли, и глазом не моргнул.
– Пощечина, данная Габриеле, – заявил ему дон Эудженио, – это пощечина и мне.
– Откуда мне было это знать? – ответил плотник безразличным тоном. – Свой адрес вам следовало бы оставлять на более чистых лицах.
– Мне не до шуток, – сказал дон Эудженио. – Поди-ка сюда, у меня есть срочные вести к тому, кто желает тебе добра, и к тому, кто желает тебе зла.
И так они объяснялись, как испанские гранды, но уже близок был момент, когда дон Ланцалоне, почувствовав прикосновение рубанка своего противника, оторвал от стены кусок водосточной трубы и после двух-трех ударов одержал верх в поединке. За эту победу дон Эудженио заплатил, кажется, месяцем пребывания в больнице и пятью месяцами тюремного заключения, и этого оказалось достаточно для того, чтобы в его бассо воцарились покой и благополучие. Как это случилось? Да очень просто. Донна Элиза и дети отнюдь не впали в бездеятельную скорбь, и поэтому их коляска с товаром делала настоящие чудеса. Всех обездоленных крестников просили наведаться в другой раз, а яства и одежда, казалось, стали опускаться на дом Ланцалоне с парашютом. Правда, какая-то смутная тревога, пожалуй, слегка омрачала несомненное желание семьи вновь увидеть дона Эудженио, но, может быть, я и ошибаюсь? Особенно донна Элиза задумывалась о неизбежном возвращении мужа и всех прежних бед. И я до сих пор не понимаю, каким непостижимым образом синьора Ланцалоне, эта седая распустеха, никогда не слышавшая ни о Шекспире, ни о Пульчинелле, придумала и с совершенством разыграла сложную театральную сцену, которая вызвала перелом в душе дона Эудженио.
Мужчины, подобные дону Эудженио, в семье деспотичны и угрюмы, как усталые воины. От их первого гневного жеста трескается мрамор на комоде, взгляд их становится приговором, от которого трещат обои и зловеще подрагивает паутина на абажуре. Дон Эудженио появился в субботу вечером. Он не заметил в доме никаких перемен, потому что донна Элиза скрыла все приобретения и улучшения. Вокруг была прежняя ветхая мебель, и стоял привычный душный запах волос.
– Только в постель, сегодня мне больше ничего не нужно, – сказал дон Эудженио.
Он залез с головой под одеяло и проспал ровно до одиннадцати часов утра. Когда он открыл глаза, его взору предстала сцена, тщательно декорированная женой. Казалось, даже утреннее солнце, ярко светившее через распахнутую дверь бассо, торжествующее весеннее солнце было удачной выдумкой донны Элизы. Дом стал неузнаваемым. Полочка, новые стулья, вешалка для одежды, новые покрывала на кроватях, множество других вещиц, которых раньше не было. Но еще больше преобразились дети. Одетые нарядно, просто с немыслимой роскошью, Дженнарино, Карлуччо, Мими, Кармелла, Сальваторе и Джованнино, бледные, с застывшими восковыми лицами, неподвижно стояли под пристальным взглядом отца.
– Что это? Что здесь произошло?.. Отвечайте! – требует пораженный дон Эудженио.
И так как дети продолжают молчать, он начинает медленно вставать с кровати… он хочет понять, что же произошло, хочет хотя бы убедиться, прикоснувшись к ним, в том, что это его дети, а не посланные ему в назидание призраки. И только теперь Карлуччо, как и было условлено раньше, решается пробормотать:
– Папа, мы просим вас быть нашим крестным отцом.
О чудо! Кажется, весь Неаполь собрался за дверью бассо и, приподнявшись на цыпочки, с беспокойством ожидает, склонится ли дон Эудженио к согласию или даст волю своему гневу; не могу допустить, что мой снисходительный и сумасбродный город счел бы нелепой просьбу молодых Ланцалоне; растроганный, он ожидает лишь одного слова: «да» или «нет».








