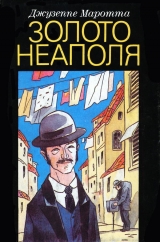
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Май в нашем городе
В каждом городе Севера на одной из просторных и чистых площадей надо поставить памятник Весне. Пусть Милан подаст пример – скульпторы, мрамор, деньги у нас есть, май на дворе – чего же ждать? Здесь пять месяцев в году над равниной грозно высится зима в образе атлета, который сжал челюсти и напряг упругие и гладкие, как обточенные водой камни, мышцы. И если в декабре осмеливается выглянуть солнце, этот гигант одним толчком отбрасывает его обратно за облака. Но вот приходит апрель, сияя улыбкой, и непобедимый доселе герой внезапно ощущает что-то в дуновении ветра, вздрагивает, сбрасывает шляпу и сапоги и обращается в бегство. Чем быстрее он бежит, тем быстрее тает – по мне так пусть пропадает, пусть его поймают продавцы мороженого и до октября безжалостно упрячут на самое дно своих блестящих, бешено вращающихся медных цилиндров. Вот так здесь вспыхивает прекрасное время года, слегка напоминая бунт. «Мы покорно ждали пять месяцев, хватит», – говорят фиалки, появляясь в садах. «Ура!» – кричит вода в каналах, возвращаясь к жизни после столь долгого забытья. «Давай, дело за нами!» – шипит прилепившаяся к бензоколонке на площади Флоренции улитка. Какая-то бабочка с безумной отвагой врывается на виадук Буллоны и берет приступом несколько чахлых белых цветочков – она похожа не на насекомое, а на разъяренного быка, который готов броситься на что угодно.
В первое время город удивляется и не верит: он не верит пальто, тяжело, словно солдатские ранцы, лежащим на спинах, не верит засверкавшему вдали, как рисунок на абажуре, под которым неожиданно загорелась лампочка, шоссе на Монцу, не верит блеску стаканов в кафе, продавщицам, украдкой смотрящимся в блестящую поверхность кофеварок «эспрессо», чтобы попудриться. Милан видит это, но не верит своим глазам. Сквозь колоннаду Пассажа он недоуменно смотрит на солнце, появившееся над Саграто, и ведет себя как робкий купальщик, который отдергивает ногу, так и не дотронувшись до воды. А между прочим, настоящая весна бывает только в Милане, только здесь можно уловить промежуток между зимой и летом. В Неаполе новые листья появляются в январе, в Риме к середине февраля деревца на Прати уже, так сказать, почти одеты, но попробуйте-ка в Милане обнаружить весну раньше положенного срока! Такие перевороты тщательно готовятся в строжайшей тайне, в противном случае их ждет неудача. Тут основной элемент – внезапность: первый луч настоящего солнца падает на столы в конторах подобно телеграмме, нет, чему-то более тревожному – ордеру на арест, например. Спадают покровы с церквей, палаццо, уличных киосков, с любого здания и даже с любого предмета, все то, что раньше было пепельным, становится зеленым или коричневым – стены Арены и сухое дно городских бассейнов; низкое взъерошенное небо, которое еще вчера шпили собора, как зубья расчески, пытались пригладить, поднимается вверх вслед за рывками огромного воздушного змея, который, сверкая, взмывает вверх, все выше и выше, пока не пропадет из виду. Продавец фруктов на ларго[37]37
Небольшой площади (ит.).
[Закрыть] Каироли, я не хочу, чтоб ты писал на корзинах: «Абрикосы с побережья» – нет, эти абрикосы родились здесь и созрели за одни сутки. Ты просто не знаешь, на что способен Милан в мае месяце, и я попрошу комиссара выписать постановление о высылке и отправить эти твои ананасы туда, откуда их привезли. Учти, на усыпанной цветами ветке в садике на виа Маджента я видел самый настоящий лимон! У меня просто слезы навернулись на глаза, я потерял голову и за себя не отвечаю. По автостраде прибывают автобусы с букетами мимозы в окнах, со стороны Порта Генуя появляется, насвистывая, ломовой извозчик. Ядовито-желтые маргаритки вставлены в отверстия упряжи огромной лошади, которая идет с хозяином рядом шаг в шаг – кажется, что человек и животное идут под руку. Художник, в окружении толпы зрителей изображающий кусочек виа Дурини на крохотных размеров холсте, должно быть, по ошибке окунул кисть в чемодан бродячего торговца галстуками, полный несочетающихся друг с другом красок. Сказать ему или не стоит? Лиловые и розовые оттенки бумаги в витринах канцелярских магазинов долго преследуют прохожих. Сегодня Милан ослепляет и обещает удачу каждой своей витриной; ничего, кроме струйки воды, брызжущей из прорванного шланга, не видит мальчишка, который подсматривает через дырку в заборе вокруг строящегося на корсо дома, но весной в Милане все это – часть Природы, оно не повторяется, а каждый раз рождается заново, даже если речь идет об истечении срока платежа по векселю.
Любой человек в Милане в мае месяце неожиданно осознает это, со вздохом признаюсь в этом и я. Я доволен, что прогуливаюсь под чистым небом, а когда, идя вдоль решетки городского сада, я протягиваю руку и исполняю нечто вроде арпеджио на убегающих прутьях, это значит, что любой инструмент годится, чтобы пробренчать воспоминания юности; в мае 1925 года, например, я стоял на этом месте с огромным фибровым чемоданом в руке, совершенно не представляя, на что будет похож корсо Венеция через сотню метров. С тех пор я видел много миланских весен, и мне прекрасно знакомы майские дни, заканчивающиеся гонкой уличных продавцов газет по виа Карло Альберто, разливом служащих страховой компании на пьяцца Кардузио и бурным водоворотом блузок в вестибюле Северного вокзала. Я люблю тебя, миланская весна, и правда то, что в мае 1928 года я поцеловал Ольгу на галерее собора, а неумолимые статуи взирали на меня с упреком, но на Ольге я женился еще и потому, что перед глазами постоянно стояли эти две тысячи указующих каменных перстов. Святые, оставьте меня в покое, теперь я в полном порядке. У меня тысяча самых разных причин быть в эти дни довольным, одна из них та, что кафе-мороженое на виа Данте розовое, как щечки новорожденного младенца, другая – то, что я сам с собой побился об заклад, что перейду улицу, чтобы дойти до виа Меравильи и, значит, до старого города. Попробуйте сами, виа Меравильи появляется и исчезает, как на гребне волны, прорезая, словно удар ножа, транспортный поток на виа Данте; рывок, остановка, еще рывок, и вот я на другой стороне, кругом весна, и я по-прежнему безрассуден, молод и сам себе господин. Какая-нибудь маленькая площадь в старом городе, которая могла бы уместиться на ладони, теперь сама похожа на ладонь, испещренную следами колес. Смотрите, какая линия жизни, какая линия удачи, здесь я мог бы стоять часами, появись такая возможность (кругом ни души, только из хозяйского окна свешивается ковер да у булочника в витрине выставлено несколько засохших пирожных), чтобы погадать Милану по руке. «Вы совершите морское путешествие… Границы ваши расширятся до самой Генуи». Это я говорю все это, говорю в мае месяце, обращаясь к миланским улочкам за виа Меравильи. Не могу понять, иду я по ним или же в них окунаюсь – такое от них исходит сильное и живое тепло. Боже, как я счастлив, что они у меня есть!
Но кого мне благодарить за весну в Милане – мэра, может быть? Надо поставить, поверьте мне, этот памятник весне. Скульпторы, мрамор, деньги у нас есть, май на дворе – чего же ждать? Предлагаю общественную подписку. Я заранее знаю, что старики и больные дадут больше других. Никто не смотрит на весну так, как смотрели на нее из окон павильона Гранелли в госпитале две бледные женщины, забыть которых я не могу. В общем, вы меня понимаете. У памятника будет постамент, который… Стоп, не надо впадать в патетику. Изобразите простую босоногую девчонку, и пусть она сидит и наслаждается сладким вкусом зажатой в зубах травинки, а вокруг – небольшой бассейн с голубым дном, и чтоб признательные посетители расписывались соломинками на воде. Кому нужны все эти авторучки и книги отзывов? Вчера был май 1925-го, завтра будет май 1960-го – в счастливое время года, в счастливый день и час некогда выводить свое имя, пока мы еще не расстались с ним навсегда.
Порта Венеция
Когда Милан доходит до Порта Венеция, он начинает наконец улыбаться. Здесь он хочет нравиться, делается очень милым и даже напоминает очаровательного младенца, пышащего красотой и здоровьем. Не могу представить, чтоб на фотографиях времен моей миланской молодости где-нибудь на заднем плане не была запечатлена Порта Венеция… Вот я иду в сторону чистенькой вьяле Миано или пыльной вьяле Пьяве, фотоаппарат щелкает и – готово, сколько вы мне дадите: тридцать, двадцать пять, двадцать? Наверное, это случайность, но всякий раз, когда мне посчастливится поцеловать хорошенькую женщину, или насладиться в погожий день часом-другим свободного времени, или (ну, это уж совсем исключительный случай) мне слегка улыбнется удача, Порта Венеция оказывается так или иначе причастной к этому. В общем, где бы я ни оказался, воздух вокруг приобретает цвет, который бывает у него в хорошую погоду только на этой площади: чистый, яркий, насыщенный, как у покрывающей подоконник пыли, и который странным образом приближает белые летние облака к витринам магазинов и стеклам проносящихся по улицам автомобилей. Давайте откровенно: иногда мы все-таки бываем вынуждены в кого-нибудь влюбляться (может быть, и в самих себя) или искать новой дружбы – так вот, кто из нас остался бы в Милане, не будь там Порта Венеция? Рядом с этим местом у всех становится празднично на душе. Миланец непроизвольно замедляет шаг, едва начав переходить корсо Буэнос-Айрес, и чувствует, как его охватывает необъяснимый восторг путешественника. Катафалки, впрочем, тоже проезжают со стороны Порта Венеция, но не будем сравнивать их с теми, что встречаются в других районах: здесь и покойник выглядит как-то по-другому, кажется, что он как бы выздоравливает и скоро будет в безопасности. Рецидив наступает у Порта Гарибальди, и только лишь тогда можно утверждать, что все действительно кончено, и лошади понуро склоняют головы, а родственники возобновляют рыдания.
И пусть около Порта Венеция физически нет моря – оно все-таки там есть. Такие яркие газетные киоски я видел только в Рапалло или Сорренто, в одном из них – красные занавески, они задерживают утренний ветерок, и мне кажется, что он мало чем отличается от туристического агентства где-нибудь в Амальфи или Сан-Ремо. Что вы на это скажете? А небо Ломбардии, такое красивое, когда оно бывает красивым и когда на него смотришь от Порта Венеция; в вечерний час оно хмурится, становится пушистым и теплым, как сбившиеся в стайку ягнята; в нем, словно дети, резвящиеся на родительской кровати, кувыркаются несколько самолетов. И тогда у Порта Венеция все становится возможным. Однажды я заговорил с очаровательной девушкой, она прогуливалась вдоль фасада дневной гостиницы и от дыхания проносившихся мимо машин развевалось ее платье. Она рассказала, что несколько дней назад ее бросил любовник и вот она вынуждена будет заниматься этим мерзким промыслом. Тогда я дрожащим голосом сказал: «Идем», уже предчувствуя, что Порта Венеция и нежный июньский вечер обманут меня. Мы поужинали в отдельном кабинете ресторана, в котором она бывала раньше; за деревянной перегородкой двое клиентов беседовали о партии тканей, и в паузах между репликами было слышно тиканье их больших и вызывающе роскошных часов. Мы постарались уйти как можно быстрее. Внезапно меня охватило к этой девушке чувство большее, чем симпатия к случайной знакомой. Я охотно выслушал рассказ о родственниках – владельцах маленькой швейной мастерской в Местре и о том, что она чувствовала, что рождена для другой жизни; в полночь мы решили, что я подыщу ей работу и что мы будем любить друг друга, я поцеловал ее, когда мы простились на углу виа Боскович у какого-то опустевшего бара, и только тогда вспомнил, что женат, и спокойно подумал, что поступил как глупец, что к женщине не подходят с целью утешить в том, что она молода и легкомысленна, что в любом другом квартале я бы либо на это не решился, либо потратил свои деньги так, как подобает мужчине.
Все происходит именно так, как я вам говорю: с корсо Венеция между виа Палестро и виа Сальвини по знаку одетого в белое регулировщика вы попадаете в другой, более красивый город. Вас почти задевает поток велосипедистов и вплоть до начала пологого подъема к Бастиони вы можете видеть за садовой оградой людей, праздно растянувшихся на скамейках и погруженных в чтение газет или потрепанных книжек, а то вдруг какой-нибудь младенец, который еще только учится ходить, выглянет из лабиринта узеньких улочек, протянет к вам ручки и уткнется носом в землю. Подъем к Бастиони плавен и нежен, как очертания женской фигуры, и некоторые водители, преодолевая его, даже делают вид, что переключают скорость, – они уступают искушению проявить свою галантность перед легкими неровностями миланских дорог. Этот отрезок пути к Бастиони у Порта Венеция – место любовных свиданий простого народа: в праздничные вечера сюда приходят прогуляться со своими возлюбленными служаночки-фриуланки. Они затянуты в светлые платья, имеют в голове две-три недавно оформившиеся мысли, а их широкие лица пышат жаром, словно рождественский камин. Они держатся друг от друга на почтительном расстоянии, и молодой человек, ни на мгновение не позволяя своему плечу коснуться плеча девушки, время от времени берет спутницу за руку (в этом движении нет нежности – скорее кажется, что он просто из вежливости хочет избавить ее от такой тяжести) и несет ее руку в своей, сжимая милые пальчики, как какой-нибудь пакет. Эти идиллические сцены вызывают в воображении поезда и маленькие станции, утопающие в зелени: когда наступает время сбора урожая, многие девушки под каким-нибудь предлогом оставляют службу и возвращаются в деревню, и если Порта Венеция больше не увидит их в то время года, когда за идущими к Бастиони машинами долго несутся вереницы желтых листьев, то это значит, что они вышли замуж и спят теперь в одной постели с теми, кто в гордом молчании нес их руки в своих.
Корсо Буэнос-Айрес напоминает Форчеллу и Толедо, смешивает их на каждом шагу. Тележка бродячего торговца книгами и лоток продавца авторучек и темных очков выглядят безжалостной антитезой мрамору, металлу и зеркалам роскошных магазинов, а маленькие лавки отчаянно борются за место рядом с аристократией торговли. Ну скажите, где еще в городе вы можете выложить за рубашку либо жалких шестьсот лир, либо пять солидных банкнотов по тысяче? Где еще, как не на корсо Буэнос-Айрес, вам, когда вы входите в сверкающее кафе, приходится задевать за трехколесный велосипед продавца мороженого, тележку с виноградом или прилавок с арбузами? В каких других общественных местах может случиться, что вы увидите вместе, с одинаковыми чашечками или стаканами в руках или с одинаковыми входными билетами, столько пролетариев и представителей буржуазии? На углу виа Броджи заканчивается строительство небоскреба; сразу за ним выстроились в ряд несколько старых уютных винных погребков. Из них идет запах плесени, который по ночам пробивается через задвижки и настигает вас на противоположном тротуаре. Каждой стеной, каждым кирпичом корсо Буэнос-Айрес спрашивает, что вам нужно: он может предложить замки и гвозди, кастрюли и тарелки, швейные машинки и велосипеды, ткани и ковры, шляпы и ботинки, рыбу и мясо, цветы и фрукты, оружие и музыкальные инструменты, конфеты и лекарства, кроватки и коляски для детей, которые у вас родятся, и похоронные принадлежности для ваших дедушек и бабушек, которые готовятся вас покинуть, молитвенники и клизмы. Ни ваше тело, ни душа не потратят времени зря на корсо Буэнос-Айрес; даже подворотни в палаццо полностью заняты небольшими витринами. Фотографы выставляют в них сотни улыбающихся или озабоченных лиц, которых вы на самом деле никогда не встретите в Милане, так как в его реальности почти совершенно нет места большим полотнам и ретуши, но которые одновременно вставлены в бесчисленные паспарту где-нибудь в Палермо или Тревизо. Но мне на корсо Буэнос-Айрес больше нравятся те скромные лавки, где продаются чемоданы и высятся горы грубо сработанных сундучков – это усталые, но очаровательные лавки, в которых нельзя двигаться, в них можно ощутить атмосферу ночных путешествий третьим классом, представить запотевшие от дыхания стекла и проплывающие вдоль крытых перронов фонари и ощутить, как дрожат колеса в момент отправления. Милан растет, делается более сложным и прихорашивается таким образом каждый раз, когда прибывают новые поезда и с ними – новые надежды, и поэтому на участке корсо Буэнос-Айрес от Порта Венеция до напряженного перекрестка с виа Плинио и виа Витрувио (дальше уже чувствуется близость Монцы, и атмосфера делается другой) меня в конце концов всегда очаровывают лавки с чемоданами, и я позволяю своим мыслям неуловимо раскачиваться между грустью и намерениями что-то сделать, как раскачиваются прикрепленные к маленьким ржавым замкам ключики, висящие на каждом из них.
Любовь и смерть в Милане
В бюро произошло событие – Мария Тереза, ученица, из нескладного, похожего на мальчишку подростка превратилась в очаровательную девушку. Она даже улыбаться стала как-то по-другому. Еще вчера любой рассыльный мог сказать: «А ну-ка, принеси веник», и она покорно отправлялась в каморку, куда в любом учреждении сваливают швабры, старые конторские книги и нумерованные папки, в содержимом которых уже никто не может разобраться. Запах этой каморки преследовал Марию Терезу, а иногда, отправляясь посидеть в отведенный ей уголок, она слышала, как тихо шуршал приставший к платью обрывок старой ленты для пишущей машинки. Со временем красная и синяя краска на выброшенных лентах засыхает и трескается при прикосновении, и хотя эти краски остаются красками официальной корреспонденции, они кажутся очень-очень старыми, ветхими, и Марии Терезе всегда делается неприятно, когда они попадают на одежду или на руки.
Но все это никак не противоречит тому факту, что сегодня Мария Тереза кажется существом другого пола и возникает впечатление, что она вся светится. Бухгалтер Т., отец четырех дочерей, сразу все понял и первым обратился к ней «синьорина Мария Тереза». В одно мгновение девчонка-ученица становится взрослой девушкой и полноправной служащей, и соответственно меняются ее одежда, прическа, фотография на проездном билете. Она меняет стол, окно, у которого сидела, меняет жизнь – все, кроме места и часов работы.
Любовь в Милане может послужить источником стихотворения, хроники, бульварного романа или просто брачного свидетельства, как и в любом другом месте, с той только разницей, что это происходит в нерабочее время. Предложите Марии Терезе завтра умереть вместе с вами, и она согласится, если любит вас и если как раз завтра у нее начнется очередной отпуск. Глаза ее наполняются слезами, на пороге конторы она говорит вам: «Да, дорогой, все, что ты хочешь, но уже совсем пора, пусти меня, иначе я не успею отметиться в табеле!» Не смейтесь над этим и не страдайте, в этом случае небо и земля на стороне Марии Терезы; здесь, в Милане, бог обратил внимание только на мужчин. Когда-то он остановился посмотреть, как ломбардский Адам раздвигал горы, создавая ровную, мягко ложащуюся под ноги долину. В конце концов господь пришел к выводу, что мысль о том, чтобы над ней постоянно нависали облака, весьма недурна, и удалился на юг.

«Какая девушка», – вздыхают сослуживцы, когда у них появляется на это время. А может ли случиться так, что кто-нибудь из своих влюбится в нее? Однажды летом помощник счетовода, закончив писать на каком-то деле резолюцию «Выдать вексель», вдруг замечает, как от обнаженных рук Марии Терезы исходит нежное розовое сияние. За окном раскачиваются провода – в то утро у трамвая соскочил токоприемник, и молодой человек загадывает: если его поставят на место с третьего раза, сегодня дождусь ее после работы и заведу разговор. А может, это происходит унылым зимним днем в гардеробе, пропитанном запахом влажной одежды и плесени, в тот момент, когда все спешат одеться, ведь на улице холод и снег заставили бы их разлучиться через несколько шагов. Пока они целуются, она смотрит на сучок в старой вешалке, и ей приходит смешная мысль, что он вот-вот вывалится. Никаких других эмоций она не испытывает, даже пресловутого блаженства от первого поцелуя, и надеется, что на прогулке в Сан-Сиро все уже будет как положено. Приходит ломбардская весна, приходит внезапно, разбивая туманы и холода, подобно тому как катапульта разрушает до основания крепостные стены. Парочки, которые по воскресеньям отваживались добираться до парка, а через полчаса уже спасались бегством от хлынувшего дождя на площадь Кастелло или площадь Семпионе, накрывшись пальто, теперь ходят в Сан-Сиро. Приближаясь к кольцу, трамвай идет медленно, кондуктор подсчитывает деньги, рассеянно поглядывает на Марию Терезу, и его смутные мысли о ней окончательно оформятся, когда он кончит считать. На лужайках в Сан-Сиро воцарились наконец порядок и точность, то есть истинная свобода. Учреждения далеко и закрыты, дерево – это дерево, а поцелуй – это поцелуй. Мимо проплывают крепостные стены, не охраняющие ровным счетом ничего, из какой-то конюшни доносится ржание лошади, которой приснился фальстарт на ипподроме, неожиданная вспышка фар спасает Марию Терезу от столкновения с сидящей на траве парочкой и дает возможность узнать в девушке маленькую блондинку, которая в прошлом году служила секретаршей у адвоката Б., а сейчас работает на Де Анджели-Фруа. Майскими вечерами в Сан-Сиро представлены все миланские предприятия. Знают ли «Альфа Ромео» и «Марелли», что они вздыхают рядом, почти прижавшись друг к другу? Здесь никогда не бывает полной тишины. Слишком много вен пульсирует, а точнее – моторы на испытательных стендах в расположенных неподалеку ангарах кричат всю ночь, словно роженицы. Летом посрамленные цикады кончают с собой, сделав петлю из травинки. Так что же это – деревня? Да, это миланская деревня для миланских влюбленных: они не потеряют голову, Мария Тереза и ее парень, пока слышат зов ангаров.
Я вижу два конверта с жалованьем на полированном мраморе каминной доски – так делает свои первые шаги ломбардская семья. Слитые воедино две души, два тела и два конверта с жалованьем действительно выражают идею брака. В горе и радости, в вычетах и повышениях клятва неразрывно связывает два человеческих существа, делает их неотделимыми друг от друга. Должны ли рабочий и работница, служащий и служащая оставаться такими и после свадьбы? Милан говорит «да». Даже от домашних хлопот женщина устает, но ее усталость и ее мысли совсем не такие, как у мужа, какие он приносит в дом, вернувшись с работы и закрыв за собой дверь с таким видом, словно хочет сказать: «Все, теперь до утра ничего знать не желаю!» А вот к супругам, которые вместе приходят домой после работы, мебель и домашняя утварь обращаются одинаково. Мария Тереза распечатывает бумажный пакет и отправляется к плите, Карло достает ящик с инструментами и собирается починить кран в ванной. Проходя по коридору, они бросают одинаковые взгляды на подушки в спальне, в которых еще сохранилось немного тепла. Он думает: «В ящичке прикроватной тумбочки с прошлой ночи осталось полсигареты», она говорит про себя: «Надо убрать теплый шарф в шкаф». Ничего подобного один конверт с жалованьем обеспечить не может, только два. Наконец из одного и того же угла комнаты и вселенной на супругов надвигается сон; на рассвете их будит, как ему и положено, старый хромой будильник, который звенит, только если его положить на бок. Во многих домах внезапный взрыв пронзительных звуков заставляет грудных детей вздрагивать в колыбелях. Это им полезно, когда они поступят в ученики, будут меньше раздражаться на звонок – раньше начнешь, быстрее научишься. Помню супружескую пару с виа Тертуллиано: было еще темно, когда они выходили из дома и отправлялись на завод, двухлетнего малыша отец нес на шее. Они оставляли его у бабушки – матери жены, хозяйки булочной на виале Умбрия и шли дальше, на звук гудков заводов Браун-Бовери. С деревьев на них мягко лился свет, и они шли счастливые, тесно прижавшись друг к другу. Не решусь утверждать, что у них не было забот и огорчений, но свежайший, резкий и терпкий воздух раннего утра, который всю ночь овевает листву и камни и приветствует нас на рассвете, вызывал у них желание или радостное воспоминание. Я крепко сжимал ручку чемодана и искал такси, чтобы ехать уже не помню куда. Тогда я долго смотрел вслед этим двум молодым людям, которые легко уходили вдаль, обнявшись. На улице, насколько хватало взгляда, не было никого, и я, неотрывно глядя на них, подумал: «Прощай, Милан».
Сейчас я переверну Милан вверх ногами, а вы, не теряя времени, соберете то, что вывалится, в новенькую кожаную папку: вот, здесь – дела. Некогда основатель города явился сюда, держа под мышкой дымовую трубу. Смертельно уставший, он осмотрелся и заявил: «Здесь построим фабрику, там – рынок. Потом – дома, чтобы спать, и огромную церковь, чтобы все могли молиться вместе в один и тот же день. Годится?» И пока закладывали фундамент первого здания, какой-нибудь Брамбилла или Висмара уже продавал открытки с видами улиц и площадей будущей метрополии. Все это потому, что без доверия не существовало бы ни дел, ни Милана, он был в большей степени письменно оформлен, нежели построен, и его камни навечно соединены векселями на два месяца. «Посторонним вход воспрещен», – гласили таблички на стенах, и только смерть входила свободно, не обращая на них никакого внимания. Против нее это бесполезно, и она везде ведет себя так, как хочет.
К смерти в Милане никто не готовится. Может случиться, что годам к пятидесяти миланец, разбогатев или просто обеспечив себе приличный доход, начинает задумываться о приобретении места на кладбище и в конечном счете приобретает его, но это – чистой воды кокетство, он прекрасно знает, что впереди еще слишком много работы, обязанностей и ответственности, чтобы умирать.
Здесь каждый человек – это предприятие в самом точном и полном смысле слова: известно, например, что предприятие это создано в 1902 году, дела идут нормально, так почему и каким образом оно должно прекратить существование? Вот классический образец смерти в Милане: патрон, закончив говорить в телефонную трубку: «В таком случае двести пятьдесят центнеров по тридцать тысяч без таможенного сбора» и кладя ее на место, вздрагивает и роняет голову на грудь, чтобы уж более никогда не шевельнуться, тут же вбегает с озабоченным видом слегка побледневший наследник, закрывает ему глаза и осторожно, одним пальцем, прикрывает крышку чернильницы.
В свинцово-серые аристократические палаццо, мрачность которых немного скрадывается прилегающими к ним садами, частично скрытыми массивной фигурой привратника (он стоит во внутреннем дворике, уперевшись руками в бока, так что деревья и клумбы можно рассмотреть в просвет между рукой и телом, как в иллюминатор), смерть входит, и все… Дальнейшее покрыто тайной. Столик в прихожей накрывают черной тканью и кладут на него книгу, в которой и расписываются важные господа, углубленные в свои мысли; хлопают дверцы автомобилей, нередко подъезжают кареты, и копыта звонко и печально стучат по асфальту виа Сан-Примо или виа Борромеи.
Смерть в Милане приходит и уходит на колесах. Катафалки снабжены моторами и двигаются молча, следом за ними ветер несет опавшие с венков лепестки, прохожие почтительно приподнимают шляпы, но не успевают даже подумать: «Прощай, кто бы ты ни был», как усопший уже покоится в могиле на кладбище Монументале или Музокко. Я представляю, что если бы он мог приподняться и сесть в гробу, то испепелил бы окружающих взглядом и сухо сказал бы: «Все здесь. Ну молодцы, а кто же остался в конторе?» Представители семьи и предприятий, разбившись на группы, молча скорбят, пока священник произносит последние молитвы и окропляет могилу святой водой; несколько воробьев подпрыгивают чуть поодаль, крылышки их скованы несчастьем, кажется, что они подняли воротники и стали похожи на безутешных вдовцов. Посетители проезжают по центральным аллеям кладбища на электроавтобусе, платят за билет, как в трамвае, видят в окно, как выстраиваются в ряд кипарисы и памятники, и прекрасно понимают, что обитатели этого другого Милана говорят: «Мы всегда заключали только честные сделки, поступайте и вы так же». И кстати, что там, под землей, делают, собравшись вместе, столько миланцев, вдали от озера Комо и уикэндов на лигурийском побережье под солнцем, которое либо вовсе не показывается, либо не в силах пробиться сквозь тяжелые глыбы земли? Я думаю, что они так или иначе работают; да, чем-то они заняты. Смерть подходит к миланцам со словами «Простите, что прерываю вас», и если богу будет угодно, чтобы все миланские покойники организованно и в назначенное время прибыли в Иосафатову долину, то не придется внезапно трубить в трубу Страшного суда, зачем – достаточно будет за три месяца послать соответствующее уведомление.
Вы видели когда-нибудь, как старый миланский рабочий навсегда покидает виа Браманте? Дома в этом квартале кажутся построенными из песка, они выкрашены в строгий и суровый цвет железных опилок и похожи на сделанные из камня рабочие комбинезоны. Ни в одной квартире окна не выходят на улицу (это я вам говорю совершенно точно), подушки на постелях и тарелки на кухонном столе впитывают свет, идущий со стороны внутреннего дворика, этой обязательной принадлежности каждого такого дома. В ясные дни этот свет такой, как на сельском гумне, но если небо покрывается облаками, он напоминает слабое и мрачное освещение конюшни. И вот однажды утром старый миланский рабочий с виа Браманте встает в девять, а не в шесть, и дело тут не в том, что воскресенье, просто он достиг «возрастной границы» и права на пенсию, покончил с работой и сразу же начал умирать. Поступить по-другому он не может.
Тем не менее на рассвете он открывает глаза и прислушивается, как просыпаются, одеваются и уходят дети. Мысленно он идет за ними. Снаружи либо дождь, либо снег, либо надежда на солнце, которое пока смутно мерцает за облаками; дома на виа Браманте, когда проезжает трамвай, раздвигаются ровно настолько, чтобы пропустить его; узкие тротуары черны от стоящих на остановке людей в рабочей одежде, нескончаемый поток шумных, основательных людей – кровь Милана – вновь вливается в его вены. Со всех сторон доносятся слова, произнесенные на хриплом диалекте, вагон пыхтит и трогается с места, на него надвигаются голые стены мастерских, он безошибочно выбирает своих пассажиров и исчезает. Вот, можно сказать, и все – буквально тут же эти люди становятся всего лишь инструментами, блестящими в умелых руках, но все же, едва расставшись с этими немногими вещами, старый рабочий с виа Браманте начинает умирать, Он путается в мыслях и поступках, ему кажется, что он попал в какую-то чужую страну. Минуты, проведенные без дела, стирают его кости, как напильник; но он еще может умереть, что и выполняет с заранее обдуманным намерением, хорошо справляясь с этой своей последней работой. Сразу же его окутывает мрачное молчание. Женщины плачут беззвучно, а мужчины не плачут совсем. Мужчины в Милане в подобных обстоятельствах бывают сильными и отчаянными, сердце у них может разорваться, но глаза остаются сухими, а руки твердо лежат на спинке кровати, в которой остывает тело старика. Приходят друзья, смотрят, горестно покачивают головой и не плачут. Никакой слабости: надо выдержать напряжение борьбы за выживание, хорошо сделать эту сверхурочную работу, как покойный умел выполнять свою. Я посмотрел на сына старого рабочего с виа Браманте. Словно окаменев, он не отрывал взгляд от ночного столика, на котором продолжали отсчитывать время часы покойного. В какой-то момент он схватил их и прижал к щеке. И все. По-прежнему без слез, мрачный, как человек, которого оскорбили, сирота потом, по обычаю, шел за гробом; дома на виа Браманте расступались настолько, насколько было нужно, ни на миллиметр больше или меньше; сзади звенел трамвай. Смерть в Милане всегда приходит неожиданно, именно поэтому миланцы встречают ее не моргнув глазом. В трудные моменты проявляется надежность предприятия. Я знаю одну женщину, трое сыновей которой погибли на войне, она живет и работает в Порта Романа. Это расплывшаяся женщина лет шестидесяти с грязно-седыми волосами, вся колючая и растрепанная, как старая циновка. Никто не видел ее плачущей; когда сыновья ушли на фронт, она уже была вдовой, теперь она совсем одна. Она работает; сколько работает эта огромная женщина, известно, может быть, богу, который иногда даже отвечает ей: «Да, да, я тебя слушаю». Она стирает в семьях жителей квартала, которые не могут позволить себе нанять постоянную служанку, и собирает в мешок старую бумагу; вспоминаю, что видел, как она возвращалась из Верпьере, толкая перед собой до предела нагруженную фруктами тележку, она набивает соломой стулья и вяжет рабочим фуфайки, подметает лестницы в семи домах. Говорит она очень мало, изредка выпивает и только тогда рассказывает, что у нее было трое сыновей. Потом она спрашивает еще стаканчик, от которого тут же засыпает прямо за почерневшим столом в остерии под пронзительные выкрики игроков в шары. Часто поздно вечером она устраивается на скамейке в переулке и вынимает из-за пазухи две открытки и письмо. Аджедабиа, Триполи, белые дома и голубое небо; на истрепанном и грязном конверте штемпель с надписью кириллицей; две открытки плюс письмо – как раз трое потерянных сыновей, и эта сумма никогда не изменится. Старуха повторяет этот подсчет уже много лет и не плачет. Она работает и работает, а когда наконец возвращается к своим страданиям на этой скамейке, она одновременно и слишком слаба, и слишком сильна, чтобы плакать. Хорошо. Отношения миланцев со смертью основаны именно на этом; они спокойны и серьезны, и нельзя сказать, что с одной стороны – безропотные жертвы, а с другой – дикий варвар, никоим образом; в данном случае и смерть, и те, кого она поражает, в равной степени наделены достоинством высоких договаривающихся сторон. Конечно, мать есть мать: старуха, о которой я говорил, например, каждый вечер сидит нахохлившись на своей скамейке и каждый раз проверяет, сколько это будет – две открытки плюс письмо. К вечеру бульвар утрачивает материальность, становится невесомым, и вместе с ним начинают двигаться дома, игроки в шары, выстиранное белье и лестницы, которые она моет, ползая на коленях, да, да – все это направляется в сторону Аджедабии и в сторону Дона, а старуха с сухими глазами терпеливо ждет, когда она доберется до цели и остановится.








