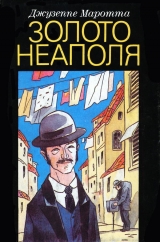
Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"
Автор книги: Джузеппе Маротта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Из книги «В Милане не холодно»

Сведение баланса
Наступает возраст, когда пора вписывать цифры в графы «актив» и «пассив», возраст инвентаризации и подведения итогов. Мне как раз столько. Каждую ночь, закончив свою работу для газеты, я откладываю ручку и начинаю складывать и вычитать в уме: в графе пассива колонка цифр доходит до самых звезд, и с ее вершины я мог бы дотронуться до одеяний святых, ну а в активе – то, что есть, ни больше и ни меньше. Сейчас посмотрим…
Мне было двенадцать, когда приняли решение о нашем участии в первой мировой войне. В тот день Неаполь смеялся и рыдал, припадая к стопам святого Януария, и я помню, как студенты били чернильницы об дверь редакции какой-то прогерманской газеты, как взлетали в воздух студенческие шапочки, помню, как толпа вздымала вверх, словно флаги, старых гарибальдийцев и как всхлипывала маленькая старушка – мать шестерых сыновей, помню потерянный взгляд совсем еще юной беременной женщины, которая прижалась к стене, чтобы ее не толкали, и смотрела на все это, гладя свой огромный живот. Наступило время бесконечного потока «официальных сообщений», как назывались тогда сводки о положении на фронтах, прибывали и убывали воинские эшелоны, на улицах не было никого, кроме женщин, детей и инвалидов, которые грелись на берегу, а тени от их костылей дробились в воде Санта-Лючии.
Жили мы очень бедно, и я оказался вынужден бросить школу и устроиться на работу в мастерскую. Нашей семье пришлось перенести и голод, в городе часто совсем не было хлеба, с криком «Все продано!» булочники прятались по подвалам, бросая лавки на милость толпы, которая врывалась внутрь и долго молча принюхивалась к запаху муки, еще сохранившемуся на полках. Однажды ночью немецкий дирижабль сбросил на Неаполь несколько бомб. Преодолеть такое расстояние ради нескольких разрушенных домов! Единственной жертвой оказался какой-то солдат. После долгих месяцев окопной жизни он получил наконец увольнение и мирно спал в своей постели рядом с женой, которая, кстати, не пострадала. Толпы любопытных, собиравшихся по утрам смотреть на развалины и вместе бояться, не могли, естественно, представить себе бомбежки сорок второго года. Итак, терпение. Кончилась война и начались общественные беспорядки и фашизм. Лично я воспринимал все это вполне равнодушно. Почувствовав тягу к литературной деятельности, я изо всех сил учился и писал стихи и рассказы, которые никто не думал печатать или, паче чаяния, оплачивать. В наших краях в то время только сумасшедший мог посвятить себя литературе или журналистике. Жить литературным трудом удавалось очень немногим, и мне все говорили: «А, так это ваше увлечение?» – точно так же, как сказали бы это Ди Джакомо или Кроче, без всякого злого умысла, а только лишь с целью констатировать, что речь идет о некоем высшем и изысканном виде причуды или дилетантства. Как истинный неаполитанец, я сегодня отрекаюсь от моего тогдашнего негодования и, опираясь на ничем не приукрашенные факты жизни, задаю себе вопрос: «Является ли писательство серьезным, достойным мужчины делом?»
В 1925 году я уехал в Милан, где узнал, что существуют профессиональная литература и журналистика. Дебют был нелегким. За комнату приходилось платить триста лир в месяц, а мое первое жалованье переписчика на машинке и корректора составляло четыреста. Что касается питания и одежды, война для меня кончилась только в 1928-м, а до этого времени я заключил со всеми трудностями поспешное перемирие на невыгодных условиях. Эту передышку я употребил на обзаведение семьей и меблировку квартиры в кредит. «Вперед», «завтра», «не терять надежду» – вот все, что я мог вписать в актив, подводя итоги лучших лет, которые неотвратимо уходили. В то время я специализировался в составлении альманахов для развлекательного чтения, но совершенно неожиданно министерский указ запретил большую часть этих изданий и отбросил меня почти на такой же уровень бедности, на котором я находился в 1925-м. Как и многие другие коллеги, я обратил свои помыслы к кинематографу, который тогда мог предоставить работу очень многим, но прошло еще три долгих и тяжелых года в Риме, прежде чем у меня опять появился свой дом. Только мы успели обсушить своим дыханием стены (дом еще строился), как было объявлено о вступлении Италии во вторую мировую войну. Каким прекрасным и беззащитным казался Рим в ту розовую весну! Французским самолетам, которые немедленно появились над его куполами, невозможно было приписать враждебные намерения – они казались знаками приветствия.
В военное время я перенес такие же лишения, как и все гражданское население. Наступило 25 июля, потом – 8 сентября. Вновь обнаружилось, что я печатно одобрял свободу, и ярлык «недостоин заниматься журналистской деятельностью» лишил меня всех возможностей зарабатывать на жизнь. Какие времена… Один сердобольный издатель тайно взял меня на работу. Я составил для него несколько сборников рассказов, и все шло хорошо, пока одна из машинисток (мы и не знали, что она любовница какого-то фашистского руководителя) не донесла на нас обоих. Я успел скрыться и даже обеспечить безопасность семьи, отправив своих в деревню. Всю домашнюю обстановку пришлось доверить приятелю. Самыми тоскливыми оказались последние месяцы. Я нашел приют в каком-то доме, необитаемом, так как его хозяин эвакуировался. Один мальчишка приносил мне еду, стараясь не попадаться на глаза привратнице. Когда я ходил, то старался двигаться на цыпочках, чтобы соседи ничего не заподозрили, а на дождь и солнце смотрел через опущенные жалюзи. Однажды я закричал во сне, когда кто-то позвонил в дверь (или мне показалось, что звонят). Я серьезно задумался над тем, чтобы выйти и отдаться в руки правосудия, но тут Рим освободили.
В то ясное утро я прежде всего отправился к своему благодетелю-издателю. Он был чрезвычайно возбужден, ибо машинистка, донесшая на нас, как ни в чем не бывало вовремя явилась на работу. Издатель обсудил создавшееся положение с несколькими сотрудниками: один предложил передать девицу в партизанский трибунал, другие, настроенные более романтично и остроумно, считали, что было бы достаточно ее раздеть, написать красной краской на спине «стукачка» и выгнать на улицу. Я оказался единственным противником каких-либо санкций.
– Все-таки речь идет о женщине, – сказал я и отошел к окну, и тут как раз и появилась машинистка, которую немедленно подвергли поношению и раскрашиванию.
Предполагаю, что в эти минуты в моих коллегах ожили воспоминания о мушкетерах и миледи из пылкой прозы Дюма, ибо иногда литература бывает способна подавить природную доброту литераторов. В комнате уже не было никого, когда я шагнул к доносчице, которая, если не притворялась, была на грани обморока. Она повисла у меня на шее, и я чуть было не принес ей извинения. Ну а потом все продолжало идти своим чередом, и наступил день освобождения Севера. Вряд ли нужно уточнять, что мою мебель пришлось кое-как обратить в деньги, необходимые на то время, что я был поражен в правах. Оставались книги, которые я потом продал, чтобы получить возможность вернуться в Милан. Сейчас я чувствую себя здесь, как в далеком 1925-м, и даже хуже, сплю и работаю, где придется, и никакой таблички у выхода не имею за отсутствием, в первую очередь, самого выхода. Жизнь есть жизнь, и прошу вас, поймите меня правильно.
Должен со всей определенностью заявить, что считаю себя одним из самых счастливых людей среди тех, кто пережил трагедии последнего тридцатилетия. Невозможно сосчитать, сколько индивидуумов, несомненно, более достойных, чем я, погибли или были подвергнуты пыткам, которые часто оказывались страшнее смерти. Слезы матерей не смог бы осушить сам господь бог, а дети предпочли бы ослепнуть, только чтоб не видеть определенных вещей. Повторяю, я считаю себя счастливым человеком, но, с другой стороны, я уже в том возрасте, который отмечен столбцами цифр в графах «актив» и «пассив» – в возрасте подведения итогов. Наши деды, достигнув этой поры жизни, начинали сводить баланс, подсчитывать нажитое и решать, кому все это оставить. А сейчас подумайте, что бы смог оставить детям я, доведись мне составлять завещание?
Тебе, Пеппино, – поездку в Рапалло в апреле 1937-го, отравленную, впрочем, плохой погодой и мигренью; тебе, Луиджи, – облако, которое в 1929-м в Парме поразило меня своим необыкновенным сходством с пагодой. А может, тебе больше понравится то сладостное чувство испуга, которое я испытал в прошлом году перед одной прекрасной картиной? Да, я озабочен и печален перед столбцами результатов моего подведения итогов. Напрасно пытаюсь я занести в актив то, что и вторая мировая война кончилась, что мы всё восстановили и что мы еще живы в конце концов. Это, конечно, правда, но кто вернет нам потерянные годы? Более того, мы сомневаемся в том, что когда-либо существовали или смогут существовать времена нормальные и благоприятные. Мы думаем, что результаты подведения итогов нашими дедами только с виду казались столь радужными, а на самом деле им, пусть по-другому, но не в меньшей степени, чем нам, довелось испытать удары судьбы и людей. Может быть, вечной нашей ошибкой является надежда, и солнце для нас – это всего лишь мгновение, неуловимый промежуток между холодом и градом…
Костюм
У нас, представителей среднего сословия, через весь лоб тянется глубокий, как от удара топором, вертикальный рубец, который я называю «костюмным». В один прекрасный день быстротекущей жизни мы вдруг осознаем, что лучший старый костюм износился, растроганно проводим рукой по протершейся материи, словно гладим по щеке родную мать, решаем: «Нужно заказывать новый…» и погружаемся в размышления, насколько все это срочно… Вот тут-то и дает о себе знать «костюмный» рубец на лбу, он углубляется и начинает ныть. У меня был костюм, с которым я буквально сроднился. Ни цвета, ни покроя я не помню, поскольку носил его слишком долго, так, должно быть, и моя душа не помнит форму и цвет тела, в которое заключена столько лет: она бы мучилась, узнав, что они уже не такие, как тогда, когда меня ребенком сфотографировали голеньким на шелковом покрывале, залитом тем же самым солнцем, которое сейчас делает вид, что незнакомо со средним сословием, так что непонятно, за кого оно. В общем, тот мой костюм был старым – и этим все сказано. Он был у меня в то время, когда война могучим пинком распахнула ворота перед всякими бедами, он был в то время, когда в радиоприемнике слышались раскаты речей Гитлера или шепот «Голоса Лондона», он был у меня в то время, когда в общем-то повсюду, в силу причин, ветшающих, как материя, деспоты и угнетенные, солдаты и штатские, мужчины и женщины, молодые и старики, хорошие и плохие расставались со своими одеждами навсегда. Я сберег свой старый костюм, дал ему возможность присутствовать при перемирии и мире, он снова увидел пирожные в кафе и статуи Чезаре Беккариа[32]32
Чезаре Беккариа (1738–1794) – итальянский просветитель, юрист, публицист.
[Закрыть] на пьедесталах, правительство большинства и белую столовую соль, паспорта и газ на кухнях, американские фильмы и – главное – освещенные города, по которым было так замечательно гулять ночью под фонарями, свет которых заставлял сиять улыбкой мокрый асфальт и сливаться в сплошную линию потоки автомашин, и люди, возбужденные этим зрелищем, внушали сами себе: «Быстрее, живи быстрее!» Мой старый костюм не хотел со мной расставаться, просто-напросто в одно прекрасное мгновенье он одряхлел и для него наступила осень, точно так же, как наступает она для листьев после весны и лета. Тогда заныл «костюмный» рубец и я, беспокойно проворочавшись всю ночь на кровати, как будто спал на гвоздях, произвел кое-какие подсчеты, взял ручку и написал одному своему родственнику по имени Фульвио.
«Поскольку ты служишь в учреждении, занимающемся ликвидацией остатков армейского имущества, – писал я, – то не поможешь ли достать недорогой отрез на костюм?» Несколько раз мы обменялись письмами, а потом пришла посылка с отрезом. Он предназначался для военной формы и был цвета хаки. Будучи представителем среднего сословия, которое никогда не называет вещи прямо, а обязательно подделывает или приукрашивает в силу некоего инстинкта их истинную суть, я подумал, что в первую очередь материал надо перекрасить, и отвез его к одному мастеру в Геную, куда мне удается ездить довольно часто и где все кажется немного дешевле, чем в Милане. Вообще-то, люди моего типа так уж устроены: очень часто, желая попасть туда, где зарабатываешь больше, а тратишь меньше, они в конце концов либо эмигрируют, либо кончают с собой. Красильщика, к которому я обратился, зовут Д. Это высокий и крепкий ремесленник, до маленькой мастерской которого можно добраться, преодолев один из тех крутых генуэзских подъемов, которые, когда вы их уже миновали, делают какой-то невообразимый переворот и начинаются опять, так что вы неминуемо оказываетесь перед еще более крутым и в конце концов готовы продать душу дьяволу, появись он перед вами в образе чего-то такого, на что можно присесть. Я пересек влажный от росы дворик, в котором были развешаны на просушку вышедшие из красильного чана одежда и ткани – сморщенные куртки и гордо вытянувшиеся брюки, словно рассказывающие историю своего воскрешения к жизни, и вошел в мастерскую. Старый Д. понравился мне открытой манерой отзываться о самом себе как о человеке честном и пунктуальном. Он сказал, что мой отрез приобретет красивый кирпичный («сиенской глины», как он выразился) цвет и запросил за это две тысячи лир, которые и были уплачены.
В течение следующей недели я договорился с одним – увы, не слишком выдающимся – портным, который за тринадцать тысяч, подлежащих выплате посредством двух взносов в течение месяца, обязался скроить из моего восхитительного отреза цвета «сиенской глины» отличный костюм, что и было сделано. Как и многие представители среднего сословия, я в те годы, когда формировался мой скелет, немного недоедал и в силу этого не обладаю идеальным сложением – испокон веков повелось, что у тех, кто принадлежит к моему классу, мясо на костях распределяется неравномерно: где его не хватает, а где и наоборот. Никогда в жизни у меня не было костюма, который бы действительно хорошо на мне сидел, и вот я наконец обрел его – одновременно прилегающий и свободный, он был полон изящества и даже казался чем-то вроде надетого на тебя диплома о некоем отличии.
Стоял октябрь. Не скрою, я немедленно обновил замечательный костюм, несколько раз пройдясь, погрузившись в приятные раздумья и перекинув плащ на руку, по виа Монте Наполеоне. Я даже нанес визит одной знакомой даме, откуда вернулся поздно и такой довольный, что, кажется, даже что-то напевал, пока раздевался. И вдруг я замолчал, содрогнулся от ужаса и понял, какой ужасный сюрприз подготовили мне эти счастливые часы. Дело было в краске… На рубашке и прочих деталях туалета я заметил какие-то загадочные пятнышки розового цвета летнего заката – это расставался с краской мой новый костюм. Он отрекался здесь, в Милане, от приобретенного в Генуе цвета «сиенской глины» и говорил мне: «Ты, представитель среднего сословия, научись-ка быть не хитрее тех, кто в наши дни тратит на то, чтобы одеться, ровно столько, сколько им положено». Урок был суровый, и я не мог забыть о нем до тех пор, пока не отнес костюм обратно синьору Д., красильщику. Он улыбнулся и сказал, что, возможно, подмастерье забыл краску «закрепить», а кирпичный цвет, цвет «сиенской глины», обязательно нуждается в закреплении, иначе он может исчезнуть. Всесторонне обдумав положение, Д. предложил мне просто перекрасить костюм. Он объяснил, что применит один из самых прочных (он чуть не сказал «молотком не разобьешь») оттенков коричневого и на прощание любезно улыбнулся.
Я снова получил костюм в ноябре. Стояла такая мерзкая погода, что казалось, будто покойники вылезли на свет божий, бродят по улицам и угнетают нас унылым видом и постоянным брюзжанием. Кто может заглушить тоску смехом и суетой, тот так и делает – через подобные дни надо перепрыгивать, как через лужи, а то беды не оберешься. У меня все произошло по-другому: должен признаться, что в глубине души я был готов обнаружить на рубашке странные, продолговатые и какие-то издевательские подтеки апельсинового цвета. Погасив свет, я стиснул голову руками, и меня охватило чувство неясной и пронзительной жалости к среднему сословию. В Генуе синьор Д. утешил меня необычайно широкой улыбкой и заявил, что у него теперь с этим материалом личные счеты. Нельзя было отступать при первой же угрозе, считал он. Не допуская и мысли о том, что в битве с красками я мог быть не на его стороне, он предложил более темный оттенок коричневого, с фиолетовым отливом. Промчались дни, и в декабре я надел костюм в третий раз (тем временем пришлось уплатить первый взнос портному). На этот раз пятна оказались голубыми, что почему-то вызывало ассоциации с островом Капри, романтическим бегством и счастливым соединением двух любящих сердец. Забыть этот цвет я не в силах. Синьор Д. посоветовал мне не волноваться. Солнце ушло из Генуи, и в городе было темно, как в колодце. К рождеству костюм приобрел цвет пережаренных кофейных зерен и оставлял на рубашке ржавые полосы. В последний раз я получил его 10 января, костюм был свинцово-серый, и мое белье окрасилось в такой же мрачный цвет, как и мысли. Куртки и брюки, которые развевались на ветру во дворе красильни, казалось, вопили от боли и ярости, словно толпа, взывающая к небу. Синьор Д. любезно улыбнулся и высказал ряд мыслей относительно целесообразности дальнейшей перекраски костюма. Он сказал:
– У меня есть черный. Это цвет безошибочный, окончательный, так сказать. Позвольте выложить последний козырь.
– Траурный костюм? – спросил я. – Вы, следовательно, считаете, что мы с вами близкие родственники?
– Не понимаю… – растерялся красильщик.
– Берегись, сейчас задушу, – возопил я и шагнул к нему.
Больше я их не видел – ни моего великолепного костюма, ни доблестного красильщика. Поскольку представители среднего сословия, можно сказать, рождаются с пером в руке, я направил Д. письмо – напряженное, как сжатый кулак, в котором писал следующее: «Если вы не возместите убытки, мне придется обратиться за помощью». К подобным пустым и невнятным угрозам прибегают только такие, как я, – ведь если б у меня были деньги, я бы их потратил не на гербовую бумагу, а на материал на костюм и отправился бы со своей покупкой не к адвокату, а к портному.
Впрочем, ответ из генуэзского союза ремесленников пришел немедленно заказным письмом. Меня уведомили, что поведение синьора Д., красильщика, было по отношению ко мне безупречным, а причиной всей этой истории явилось отвратительное качество материала. И вот я один против целого класса коммерсантов, тесно сомкнувших свои ряды вокруг сияющего синьора Д. Сомневаюсь, что среднее сословие с такой же решительностью встало бы на мою сторону. Я не знаю, что делать. Даже уверенность в собственной правоте постепенно начинает меня покидать. Я попробовал возложить вину на портного (которому я еще не уплатил второй взнос) и спросил его, как же это он, когда шил костюм, не заметил, что материал линяет? Он ответил вопросом на вопрос:
– А почему вы не предупредили, что материал перекрашен?
Ну, тут дело в том, что мне было стыдно, да, стыдно без особой необходимости признаваться, что представитель среднего сословия донашивает «армейское имущество», более того – его «остатки». А в каком смысле «остатки»? Та война, в которой мы все как человеческие категории участвуем, не мной кончается и не с моего дедушки началась. Дедушка, секретарь суда в Беневенто, был плодовит, как кролик, так что в конце концов превратился в своего рода вождя большого племени: когда он начинал резать хлеб, чтобы разделить его поровну между своими девятью детьми, казалось, что по всему дому разносится трагическое и суровое грохотанье тамтамов…
Пьяцца дель Дуомо[32]
[Закрыть]
День приезда в Милан многие из них считают своим вторым днем рождения; возможно, их матери в родных деревнях, раскинувшихся на берегу моря или прилепившихся к склонам гор, испытали в этот день не менее сильную и жестокую боль, чем тогда, когда производили их на свет: «Пиши, дай телеграмму, сообщи, если найдешь…» – кричали они вслед. Найдешь… Что? Работу и удачу – или наоборот; Милан ничего больше дать не может, и в его соборе так много шпилей именно для того, чтобы каждый иммигрант мог выбрать себе один какой-нибудь и либо водрузить, либо опустить на нем знамя своих надежд. Я так и поступил, мой шпиль был карликовым, второстепенным, направленным в сторону корсо Витторио Эммануэле, но действие оказал такое же, как и любой другой, и Милан не отпустил меня, и вот я здесь. Кто сейчас выбрал мой шпиль – какой-нибудь чернорабочий из Понтассьеве или обнищавший баронишка из Катании? Держись, друг, это славный старый шпиль, сначала он бывает холоден, но постепенно теряет сдержанность и уступает, распаляется. Встань на углу виа Паттари, покажись и посмотри на него, он словно палец, направленный на святых, а вот и смысл этого жеста: «Киньте между собой жребий, и пусть тот, на кого он выпадет, поторопится, пусть поможет этому юноше, которому скоро нечем будет платить за пансион, а иначе какого дьявола вы торчите там наверху?»
Милан в воспоминаниях покинувших его всегда начинается и заканчивается на Пьяцца дель Дуомо. Под подушкой у жительницы Удине, которая посетила город во время свадебного путешествия в 1938 году, каждую ночь вспыхивает светофор на углу виа Карло Альберто; эта женщина видит только то, как люди вдруг куда-то бегут, колеса замирают на стоп-линии, сверкает каска регулировщика; она вздыхает и думает: «Милан…» А сколько людей в деревнях по всей Италии хранят отчетливые, хотя за давностью лет и не вполне соответствующие действительности воспоминания о том моменте, когда они свернули с виа Торино или виа Менгони на площадь. Перед приезжим как будто материализовалась открытка с видом собора, он ахнул, сбился с шага и остановился, не зная, как выразить охвативший его восторг. Со всех сторон к нему бросились продавцы «воспоминаний о Милане» и едва не вынудили его обратиться в бегство. Какие воспоминания о Милане предлагаете вы, торговцы? Мне, пожалуйста, дайте все те случаи, когда я проходил здесь довольный. Или злой на кого-то или на что-то. Или погруженный в раздумья. Вот то самое место, на котором я поссорился со старым другом, кажется, я даже вижу следы своих ботинок. «Не знаю, кто мне помешает…» – сказал я тогда и замахнулся.
Сейчас, вновь думая об этом, я улыбаюсь, сейчас этот мой жест охватывает всю площадь и не задевает никого. Продавцы воспоминаний, давайте перейдем налево, к Пассажу. Здесь однажды вечером я разговаривал с девушкой, совсем как Ренцо Риччи или даже как Аннибале Нинки,[34]34
Ренцо Риччи, Аннибале Нинки – популярные итальянские актеры времен Муссолини.
[Закрыть] я хотел получить от нее бог знает какие доказательства любви и был очень убедителен. Неожиданно какая-то старушка коснулась ее руки (мы и не заметили, что она все слышала), сказала на диалекте: «Не слушай, доченька, что парни говорят» и ушла, оставив нас в замешательстве. Здесь я проходил, когда был молод и когда стал старше, неторопливо или в спешке, зимой и летом: теперешний облик площади есть для меня составляющая всех этих моментов, подобно тому как белый цвет вращающегося диска представляет сумму тех цветов, в которые окрашены секторы, на которые этот диск разделен.
Как коренные, так и приезжие миланцы в какой-то определенный момент заканчиваются, прекращают существовать, а Пьяцца дель Дуомо продолжается, но можем ли мы рассуждать, словно какие-то квартиросъемщики? Пусть лучше каждый из нас скажет жителям других городов: «Спешите приехать в Милан, пока я жив, а то неизвестно, какую Пьяцца дель Дуомо вы увидите».
И вот однажды я решил провести на нашей площади целый день и написать ее портрет, надеясь, что это мне удастся.

На рассвете я устроился на цоколе памятника, где уже сидел какой-то старичок, растиравший себе колени с таким видом, словно он их только что вновь обрел в результате некоего чуда. Он оказался родом из Пулии и, по его словам, провел ночь у одних своих земляков. Время от времени он извлекал из-за отворотов брюк мелкие камешки и с большим достоинством отбрасывал их прочь; вероятно, комната для гостей в доме его земляков была вымощена галькой. Вот-вот должно было выглянуть солнце. Площадь была тиха и пустынна. На Саграто, чистом, как только что развернутый ковер, уселись первые утренние голуби, но образованный ими узор был немедленно разрушен прохожими, в которых безошибочно узнавались официанты из «Биффи» и «Кампари»: они пришли на Пьяцца дель Дуомо, неся на своих подносах день и перебросив через руку, словно салфетку, первый луч солнца. Открывались кафе: черные фартучки кассирш с заспанными глазами на миг показывались на пороге, свет концентрировался на кофейных машинах и в зеркалах, которые официанты протирали тряпкой, клубы ароматного пара долетали до продавцов газет, сидевших у своих киосков, и смягчали их зевки. С кольца пришел первый автобус, два или три путешественника с тяжелыми чемоданами направились в сторону дневной гостиницы, на их лицах отчетливо выражалось отвращение к колесному транспорту. Последней вышла девушка, огляделась по сторонам и чуть ли не бегом направилась в сторону узеньких улочек за Портичи Меридионали, с типичным видом человека, нарушающего постановление о выезде. Регулировщик в белой форме выступил из полумрака перехода к собору. Чрезвычайно четко выделяясь на темном фоне между двумя лавками под большими часами, он, казалось, хотел предложить себя в качестве нового и более современного герба Милана. Как по сигналу площадь почернела от людей, машин и событий. Эта Пьяцца дель Дуомо подобна стаканчику, который Милан лихорадочно встряхивает, прежде чем выбросить кости. Каждую секунду что-нибудь происходит. Огромный автомобиль, который направляется к автостраде и через несколько часов пересечет границу, слегка задевает молоденького рассыльного на велосипеде: на виа Плинио ждут большую коробку лекарств, которую он везет на руле; двое мужчин, едва не столкнувшись, поднимаются на тротуар, чтобы войти в один и тот же бар, они незнакомы и не знают, что никогда больше у них не будет случая встретиться ни здесь, ни где бы то ни было – никогда в жизни; молодой человек оборачивается вслед хорошенькой девушке и после секундного колебания идет за ней, уж конечно, не представляя себе, что женится на ней и у них будет четверо детей. В один прекрасный день мы умрем и вновь с отчаянием подумаем обо всем том, что случилось или могло с нами случиться на Пьяцца дель Дуомо; это будет всего лишь переворот вниз головой, облака окажутся у нас под ногами, а Пьяцца дель Дуомо станет небом.
Я хотел написать ее портрет, портрет этой площади, но не сумел. Проведя несколько часов на Саграто, как на плоту, рассматривая потоки людей и машин, я почувствовал, что от напряжения у меня болят глаза и голова, и встал. Никем не потревоженный («продавцы воспоминаний» безошибочно отличают миланца от приезжего – такое впечатление, что они наизусть выучили списки адресного стола), я вошел в собор. Собор похож на огромную полую гору. Время от времени туда проскальзывает луч света и спешит спрятаться, как кошка, под исповедальни. Случайный посетитель невольно представляет самый большой храм у себя на родине и прикидывает, в каком уголке миланского собора его можно было бы поставить. Тающие в пространстве струйки благовоний цепляются за подобные баобабам колонны, но, выбившись из сил, скользят вниз. Невидимые указательные таблички направляют молитвы, которые призваны вознестись из собора и найти своих божественных адресатов: к господу, святому Антонию, душам чистилища идите по стрелке. В больших чашах для святой воды рыбы – символ раннего христианства – могут плавать сколько им угодно; может быть, там иногда появляется и кит, проглотивший Иону.[35]35
По библейской легенде, еврейский пророк Иона был проглочен морским чудовищем и через три дня был выброшен им обратно живым.
[Закрыть] Я представляю себе, как святой Бернардин Сиенский[36]36
Святой Бернардин Сиенский – святой римской церкви, прославившийся своим самоотвержением во время чумы (1400), потом строгой монашеской жизнью и управлением францисканским орденом.
[Закрыть] иной раз спускается полюбоваться динамиками, которые разносят голос проповедника по миланскому собору: не охватывает ли его неясная благородная зависть при мысли о том, какую силу обрели бы здесь его слова? Итак, я вошел в безлюдный в это время дня храм, и мои прегрешения так и скорчились во мне, что с ними происходит тем болезненнее, чем величественнее церковь, в которую я их втаскиваю (правда, за ее пределами они приходят в себя). Я медленно дошел до дарохранительницы рядом с главным алтарем, где простирает свою милость Мадонна, которую я зову Мадонной Трудных Минут и которая меня знает. Обычно я прошу свечку и не ухожу, пока ее не поставят на хорошее место и не зажгут. Предположим, служка забудет это сделать – в таком случае приношение не дойдет туда, наверх, или достаточно будет только мысли? Я думал, что был один, но чей-то невыразимо горький вздох вывел меня из этого заблуждения. Прислонившись к стене, стоял и горько рыдал мужчина огромного роста, настоящий великан. Непроизвольно я соразмерил его печаль не только с исключительными габаритами того, кого она охватила, но и с собором, площадью и самим Миланом. Надеюсь, Мадонна Трудных Минут не отвергла впоследствии странную просьбу, с которой я к ней обратился, – считать мою свечу свечой этого несчастного великана…








