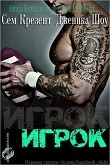Текст книги "Тень скорби"
Автор книги: Джуд Морган
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
Сравните: третье крыло, которое он пристроил к школе, длинная крытая галерея, где девочки могут делать зарядку, когда погода слишком сурова. Тяжело скользя, мистер Уилсон продвигается по галерее к аудитории для занятий. Человек защищен, он почти в закрытом помещении. Но стоит выступить из-под веранды, и это ощущение немедленно испаряется: вы оказались под беспощадным небом, обиталищем града и молний. Ваша безопасность вовсе не безопасность. Преподобный Кэрус Уилсон, такой неповоротливый на вид, всегда чувствует в сердце трепет перед опасностью.
Что касается пространства в середине – этого тщетного, пустого, расточительного, опасного пространства, – он намерен превратить его в садовый участок, который будут культивировать девочки. Девочки в саду. Он представляет, как они благопристойно трудятся, именно благопристойно, а не красиво: в красоте кроется опасность. Какая яркая картина! Мистер Уилсон сожалеет, что допустил ее в сознание, но продолжает гнуть свою линию – опять же, он знает, о чем говорит. Его необычайные тело и разум движутся дальше, в аудиторию.
Часто случается, когда он заходит в класс, то обращается с наставлениями или дает урок катехизиса, но сегодня мистер Уилсон жестом показывает учительнице продолжать; он ходит по комнате, вполуха прислушиваясь к ровному гулу голосов, читающих Библию. Это успокаивает его хотя бы в том смысле, что приводит в мягкое возбуждение, напоминает о вездесущем долге предупреждать, о грехе, о треске льда. Он изучает склоненные головы девочек, которых на первый взгляд можно принять за мальчиков, одетых в передники, потому что их волосы, по его настоянию, коротко острижены. Но только на первый взгляд: к несчастью для девочек, они все равно выглядят как девочки. Мистер Уилсон тщательно изучает одежду учениц – простое нанковое платье с короткими рукавами – на предмет отличий от формы, ибо дьявол легко может ввергнуть их в соблазн пришить оборку или кружевную кайму. Он замечает на столе учительницы экземпляр собственного ежемесячного издания «Друг детей», – но с одобрением, а не с гордостью, поскольку просто не может никому другому доверить опасную задачу предоставления этим уязвимым умам пищи для чтения. Он обследует хозяйственный шкафчик и удовлетворен, видя, что его указания по поводу мелков выполняются и что даже самые мелкие остатки не выбрасывают, а складывают в коробку. Хотя учениц пока немного, и все они довольно взрослые, с Божьей помощью он надеется со временем заполнить все шестьдесят мест, а среди них могут оказаться совсем малютки, для крошечных пальчиков которых идеально подойдут списанные мелки. Здесь всему есть причина.
Журнал приводит мистера Уилсона в замешательство. Шестнадцать поступивших, а на уроке присутствует только пятнадцать учениц. Мэри Честер, говорит ему учительница, заболела, и директриса позволила той остаться в постели. За вялым кивком мистера Уилсона кроется острое смятение чувств. Больна? Насколько больна? Если девочка серьезно заболела, необходима немедленная духовная подготовка. Если болезнь несерьезна, ученице может грозить еще более страшная опасность. Мрачное воображение рисует ее праздно лежащей в кровати: течение мыслей ничем не ограничено, руки и ноги не находят себе места. Лучше подняться и отдавать силы учебе, невзирая на недуг, чем подвергнуться такому искушению. В конечном счете лучше позволить болезни свести себя в могилу и оказаться недосягаемой для греха. Еще одна проблема, которую нужно обсудить с директрисой перед уходом.
Проблем очень много, ибо школа для дочерей священников – серьезное начинание. Мистер Уилсон сам планировал, рассчитывал и ходатайствовал о пожертвованиях, и список меценатов безукоризнен: он включает освободителя рабов Уильяма Уилберфорса, чья благотворительность двадцать лет назад простерлась до назначения ежегодной стипендии в десять фунтов бедному молодому ирландцу по имени Патрик Бронте. Другой бы на месте мистера Уилсона мог посчитать, что его цель достигнута – основана школа, в которой дочери небогатых священников имеют возможность за скромную плату получить образование, соответствующее их месту в обществе. Но нет, преподобный Кэрус Уилсон не станет почивать на лаврах: в самой мысли об этом кроется опасность. И он кружит над колыбелью своей малютки, переживает, чтобы новорожденная росла правильно.
Осознав существование бурлящего ада за верандой, он принял на себя миссию: дети, в особенности девочки. Скольких смертных грехов нужно избежать; а дети, в первую очередь девочки, едва ли могут вступить в мир, не испачкавшись в нем, как в грязи. Спасти их – нелегкая задача, ибо все их естественные, то есть дьявольские, наклонности подстрекают малышек к мятежу. Да, он знает, что они досадуют на остриженные волосы и платья из простой ткани. Но дальновидное воображение рисует перед ним альтернативу. Преподобный Кэрус Уилсон может представить ад во всех деталях, где у девочек длинные-длинные волосы, а одежды нет вовсе.
3
Плоть и трава
Не расстояние страшило ее.
– Сорок пять миль – по правде говоря, скорее сорок восемь – это, конечно, далековато, я понимаю, – сказал папа. – Но на самом деле это не такое большое расстояние… и дело в том, что я не вижу более подходящей и умеренной по стоимости школы, расположенной ближе к Хоуорту.
Сорок пять миль или тысяча – не важно; важно только то, что она покинет дом. Вот это здание, этот мир, укрытый за четырьмя стенами.
Даже Хоуорт ничего не значит. Шарлотта не испытывала к городку ничего, кроме легкого отвращения к шуму и вони. Когда девочке доводилось проходить через него, скажем, по дороге в Китли, где она брала в библиотеке книги на дом, она иногда заглядывала в чужие дома. Часто из-за крутых спусков и узких тротуаров приходилось почти вжиматься в окна, чтобы увидеть необъяснимо странное кресло, стоящее всего в нескольких дюймах от тебя, кухонную плиту с кипящей по ту сторону кастрюлей и чей-то незнакомый взгляд. Секундное замешательство – и она уже смотрит в сторону. Подлог. Настоящий дом один.
Тетушка сказала:
– Конечно, ты многому научилась здесь, с отцом, но школа требует большей дисциплинированности. Это значит, что нужно быть аккуратной, скрупулезной. Но не бойся, ты быстро схватываешь и подготовлена лучше большинства девочек твоего возраста.
Как будто учеба имеет к этому какое-то отношение! Шарлотта любит учиться. На самом деле странной казалась мысль, что нужно куда-то ехать, чтобы получить образование, как прививку от оспы, и больше о нем не вспоминать. Ей хотелось учиться постоянно.
Но только здесь, здесь.
– Повезло тебе. Это приключение, – сказал Брэнуэлл. – Жалко, что в школу не еду я.
– Да уж, – ответила Шарлотта, – тогда бы ты понял, о чем говоришь.
– Эмили не станет надувать губы, если ей тоже придется ехать, – заметил брат. – Правда, Эмили? Ты не будешь трусить?
Часто, когда у Эмили что-то спрашивали, она склоняла голову набок, будто ей в ухо кто-то шептал совсем другой вопрос. Бросив взгляд на брата, она спросила:
– Почему ты так нехорошо ведешь себя с Шарлоттой?
– Чтобы она разозлилась. Когда разозлишься, тебе уже не так грустно. – Брэнуэлл исполнил витиеватый жест фокусника. – Уж я-то знаю.
Но ей не было грустно, как в тот день, когда они нашли мертвого ягненка на пустошах, а рядом стояла его мама-овца, просто стояла на небольшом расстоянии. Скорее это было предчувствие грусти или… О, это был мучительный ужас! Огромный, как мир, горячий, как солнце.
Всего один раз, на верещатниках, Шарлотта решилась на то, что так любила делать Эмили, – сбежала по крутому склону холма, слишком крутому склону, настолько крутому, что в какой-то момент она почувствовала, что уже не в силах остановиться и что собственное тело и ее жизнь выходят из-под контроля. Это было ужасно, и она сказала себе, чувствуя, как кровь стучит в ушах: «Я никогда больше этого не сделаю».
А теперь приходилось. Склон отнял у нее право выбора, да и вершины холма, быть может, никогда не существовало.
Каждый день ее аккуратно, незаметно тошнило. Ей удавалось выбирать место и время, чтобы папа не узнал. Эти маленькие проявления болезни расстраивали его. Кроме того, Шарлотте не хотелось обременять его своими страданиями. Он действовал, исходя из искренней заботы о ее благе, и ей уже все объяснили.
Эмили сказала:
– Если тебе действительно это не нравится, почему просто не убежать?
– Ах, Эмили, не будь ребенком. – Что ж, если бы на ней лежала ответственность большой девочки, она могла бы даже насладиться плюсами этого статуса. – Ты не понимаешь.
Но Эмили просто рассмеялась, и все тут. На ее смех нечем ответить: точно книгу, которую ты читал, внезапно захлопнули у тебя перед носом. Шарлотта излила долю своего несчастья и на Энн. Было что-то такое в ее положении младшего ребенка семьи, беспомощной четырехлетней малютки, хотя на самом деле это лишь усугубляло положение: способная размышлять, принимать участие в жизни и радоваться ее прелестям, она все равно оставалась малюткой. Это вызывало презрение, то есть зависть. Несколько раз короткими резкими замечаниями и едкими ответами она доводила Энн до слез. Но не истерических: Энн плакала застенчиво, будто хотела, чтобы ее попросили перестать.
Эмили всегда ее утешала. И однажды ночью, лежа в кровати, она сказала Шарлотте:
– Знаешь, Энн ведь тоже придется ехать в школу, когда она подрастет.
Этого было достаточно. Шарлотта всхлипнула. Эмили взяла ее за руку.
– Когда я окончу школу, – произнесла после паузы Шарлотта, – когда все это закончится и мы станем взрослыми, я хочу, чтобы мы все вместе жили в домике у моря. С садом, откуда открывается вид на море. И у каждого из нас было кресло в саду, собственное кресло.
Эмили удовлетворенно вздохнула:
– О да.
На следующий день Шарлотта продолжила трудиться над книгой, которую мастерила для Энн, пока новость, что скоро придется отправиться в школу, не парализовала ее. Она выпросила у Нэнси Гаррс огарок свечи и просидела до позднего вечера, чтобы сшить странички между собой. Шарлотта узнала, что несчастье может заставить человека ненавидеть, только вот не могла придумать применения этому знанию.
Энн шумно радовалась книжечке, то и дело всем ее показывала, даже к папе с ней приставала, растревожив Шарлотту. Папиного внимания нельзя было требовать по пустякам. Не то чтобы страшно было наткнуться на отказ – просто все понимали, что так надо, как надо, к примеру, беречь дорогую писчую бумагу. Хотя папа и пробормотал, что со стороны Шарлотты очень мило так заботиться о сестре, близорукость не позволила ему разобрать крошечных букв и рисунков. Шарлотта почувствовала облегчение, потом разочарование.
Однако все эти чувства походили на мимолетное порхание бабочки рядом с монолитным, неизменным ужасом, с которым ходила, жила и спала девочка. Уроки шитья с тетушкой теперь заменили приготовления, ведь в школу требовалось привезти очень много дневной и ночной смены белья, обычных и фланелевых нижних юбок. Ужасом Шарлотты был пропитан каждый стежок.
– А я в каждом рассказе? – спросила Энн, с надеждой заглядывая в книжечку.
Нет, можно быть только в одном, как бы он ни сложился. Мысль о предстоящем дне казалась Шарлотте почти невыносимой – на самом деле она и вовсе не смогла бы ее вынести, если бы не одно спасительное обстоятельство. Обстоятельство, которое ее никогда не подводило.
Мария и Элизабет. Они уже идут по пути, который ее ждет. В прошлом месяце папа отвез их на дилижансе из Лидса, и сейчас они в школе. Мария и Элизабет – сестры без единого возражения покинули дом, они улыбались и целовали родных на пороге, спокойно наблюдая, как их чемоданы поднимают на крышу нанятой двуколки, а те норовят выскользнуть из рук, – встретят ее там.
Итак, она не может быть такой хорошей, как они, но может быть им благодарной и, по крайней мере, попытаться быть похожей на них. И главное: они будут вместе и с ними все наладится. Ступай прочь, тьма.
Мисс Брэнуэлл говорит:
– Да, она готова, мистер Бронте. То есть ее вещи готовы. Хотя вам следует знать, что она не хочет ехать, совсем не хочет.
– Да, да, это вполне естественно, вполне естественно, – отвечает Патрик, чтобы потянуть время, и заставляет мысли обтекать стороной взрывоопасную тему. Ведь он подробно обсудил этот вопрос с Шарлоттой, объяснил, чего от нее ждут, получил ее заверения в готовности ехать. Что еще? Патрик подавляет сожаление, что Шарлотта не похожа на Марию, которую отличает рассудительный, рациональный ум, ведущий ее вперед подобно негасимому факелу. Ум ее матери. Шарлотта, конечно, очень юная, однако тревожно думать, что внутри нее могут существовать темные мятежные уголки. Ему знакомы эти уголки. Это вызывает тревогу и отвлекает, ведь у него столько забот, столько обязанностей, зовущих к разбросанно живущим прихожанам.
– Покинуть дом – значит сделать большой шаг, – говорит он наконец, – многое оставить, и Шарлотте, возможно, не хватает силы разума ее старших сестер. Но они будут рядом – вот ее якорь. Мария вдохновит ее, а Элизабет утешит. Да.
Эмоции спрятаны, будто полный стакан отодвинули от края стола. Вот, теперь он не разольется.
Обязанности Патрика: сегодня его ждет встреча с мистером Брауном, могильщиком, по поводу предстоящего визита в Хоуорт архиепископа Йорка – ни больше ни меньше. Присутствие его светлости требуется, чтобы благословить дополнительный участок земли на использование под церковное кладбище. Погребения, жалуется мистер Браун, превратились в кошмар.
– Боязно лопату в землю воткнуть. А внизу, где влажно, хуже всего. Никогда не знаешь, на что наткнешься. Я изо всех сил стараюсь держать яму в чистоте до похорон, но каждый раз, когда привозят гроб, обязательно что-нибудь торчит или просачивается.
– Уверен, нового участка будет достаточно, – говорит Патрик. Он встретился с мистером Брауном во дворе, где тот работает с камнем, и теперь раз за разом вздрагивает, когда сын мистера Брауна внезапно появляется из темноты амбара, что служит мастерской. С молотком в руке и с головы до ног припорошенный белой каменной пылью, он подобен духу умершего, витающему, быть может, в поисках своей надгробной плиты.
– Да, наверное, пока достаточно, – продолжает мистер Браун. – Но надолго ли? Мы же не запретим людям умирать, мистер Бронте.
– Достаточно на сегодняшний день, мистер Браун.
Архиепископ, конечно, захочет выпить чаю, а может, и отобедать; кроме того, приедут члены его ордена. Сколько? В письме указано? Нужно позаботиться, чтобы дети не мешались под ногами. Близорукие глаза Патрика выхватывают из обстановки двора незаконченную мемориальную плиту, подпирающую стену. Поначалу он ничего не может понять. HERE LIE THE REMA[5]. Долю секунды надпись кружится в голове Патрика, будто танцует джигу, которую любил играть на скрипке его брат Уильям. Here lie the rema, here lie the rema… Но, конечно же, это незаконченное слово «remains»[6]. Латинский корень remanare – оставаться. Благословенно знание.
Патрик снова отправляется в путь, его ждут на ферме под Броу-Муром. Here lie the rema. Страшно быть сумасшедшим и обнаруживать беспомощную податливость разума: как тот несчастный юноша в Веллингтонском приходе, сын жестянщика, который, едва заслышав звон колокола или плач ребенка, принимался повторять этот звук с ужасающей точностью, до хрипоты и изнеможения. Рациональные способности, захваченные дикими силами иллюзии. Он вдруг вспомнил, как брат Уильям отправлялся воевать на стороне «Объединенных ирландцев» во время восстания девяносто восьмого года. Оружие выдавали из запасов захваченного поста ополчения в Лизнакриви. Патрик, вернувшийся домой после занятий с детьми приходского священника Драмгуленда, умолял брата остаться.
– Ты сделал свой выбор, Пэт, – сказал Уильям, бросив взгляд на тусклый костюм Патрика. – А я – свой.
Выбор – разве может существовать настоящий выбор между хаосом и порядком? Это истинная непрестанная борьба человека, происходящая как снаружи, так и внутри. Патрик маршем завоевателя шагает вверх по ухабистой проселочной дороге, минуя поле чахлого овса, единственной культуры, способной расти на этой скупой земле. Овес поддерживает такую же бледную, хилую, но многочисленную семью, где очередное пополнение кричит на весь дом, – причина, по которой сюда идет Патрик.
Самая младшая дочь этого дома – семнадцатилетняя, как она утверждает, но Патрик проверил приходскую книгу и знает, что ей пятнадцать, – родила внебрачного ребенка. Обычное дело: отец неизвестен, хотя Патрик подозревает ухмыляющегося кузена с усами цвета соломы, который тут околачивается; мать девушки выдает младенца за собственного позднего ребенка. Патрик скорбит о моральном падении, но в первую очередь его заботит духовное благополучие ребенка. Он пришел не затем, бодро обращается он к девушке, чтобы читать лекции, а только чтобы посоветовать окрестить младенца как можно скорее. Она слушает, угрюмо, молча, но слушает; мать девушки в это время качает на руках орущую маленькую душу, о которой он ведет речь; огромная тощая борзая, осыпаемая грязной бранью, неуклюже вертится на пороге, то забегая в закопченную кухню, то выбегая из нее. Патрик уходит с уверенностью в успехе. Первостепенная задача почти решена. Ребенок выглядит здоровым, но это еще ничего не значит; Патрик произносил прощальные речи над множеством гробов, уступающих по размеру ящику для письменных принадлежностей, и ему жутко провожать эти души, не получившие прощения.
Не каждый священник проявил бы такую деликатность в отношении незаконнорожденности. Но Патрик не верит, что грехи отца или матери должны падать на голову ребенка.
Неутомимый ходок, в свои сорок семь энергичный, как жеребенок, и выносливый, как осел, Патрик преодолевает крутой спуск с Броу-Мур – бедный викарий, не имеющий ни коляски, ни двуколки, ни даже верховой лошади. Но у него есть свои маленькие радости: скромная забота и уход за собой. Несмотря на летнее тепло, его шарф повязан, как всегда, высоко и плотно, потому что необходимо беречь уязвимое горло; оказавшись дома, он с нетерпением ждет обеда в тиши своего кабинета, где никто, кроме него, не услышит жалоб его пищеварения. Эти безобидные капризы – все равно что для взрослого мужчины нежно заботиться о ручной белой мышке. А еще привычка к мягкой меланхолии; приближаясь к пасторату, Патрик вдруг ощущает, как остро ему не хватает жены, как не хватает любимой дочери Марии. Но чувства эти лишь на миг сжимают сердце – так мисс Брэнуэлл вдыхает порцию табака из своей коробочки. К счастью, это длится недолго; да, если бы это тянулось долго, было бы нехорошо. Возможно, Патрик приживается на острове одиночества Робинзона Крузе, где можно поступать как угодно.
К Патрику не подобрать ключа – слишком много висячих замков, задвижек, засовов и заколоченных ставен, – но брошенный украдкой взгляд сквозь щели, быть может, покажет нам: вдовец утешает себя тем, что превращается в стареющего бездетного холостяка.
При других обстоятельствах путешествие в дилижансе из Китли могло оказаться приятным в своей новизне; Шарлотта никогда еще не ездила так далеко и не проводила так много времени в обществе папы. Но сейчас все новшества казались зловещими, ибо предвещали катастрофическое новшество школы. Кроме того, мысли девочки во многом были заняты гаданием, когда и как ее стошнит. В Скиптоне к ним в дилижанс подсел толстый пожилой джентльмен. Он предложил Шарлотте засахаренные фрукты, завернутые в клочок бумаги, и выглядел обиженным, когда девочка отказалась. Затем попутчик принялся обсуждать с папой законы о бедных. Шарлотта остро осознала, что является ребенком, по-новому осознала – словно это было какой-то болезнью или уродством. В окне дилижанса, погружаясь в неимоверные волны зелени, проплывали долины, пятна туч разбегались над тянущимися к небу холмами. Это было прекрасно, а значит, жутко.
– К Коуэн-Бриджу ведет защищенная шипами дорога, но там нет остановки дилижанса, – объяснил ей папа, – поэтому придется нанять двуколку в Инглтоне.
Все эти хлопоты ради нее. Было поздно, и Шарлотту одолевала усталость, когда они наконец-то приехали. Приехали? Девочка увидела крыши домов, коров, не спеша возвращающихся с пастбищ, каменный подъем моста, услышала холодный говор ручья; и тут двуколка резко свернула с главной дороги, и путники оказались перед дверью в стене. Шарлотта посмотрела вверх и увидела, как красную вечернюю зарю пронзают зубцы.
В какой-то момент она перестала замечать, что происходит вокруг: для нее это было слишком, не осталось сил реагировать. А запах! Будто белье и бараньи кости кипятили в одном большом медном котле. Шарлотта медленно поднималась по бесконечной темной лестнице, цепляясь за изгибы кованого железа перил, пока не оказалась в оклеенной обоями гостиной, где незнакомая леди пожала ей руку. Леди эта не старая и не молодая, что сбивало с толку; на поясе, как у тетушки, ключи, – но их так много, что у нее возникло сравнение с бряцающими кандалами. Мисс Эванс. Теплая худая рука.
– Здравствуй, Шарлотта! Уверена, ты будешь рада увидеть сестер.
Вот он, робкий стук в дверь. Шарлотта знала, что сестры будут в этой блеклой, серо-коричневой форме – ее собственная ждала своего часа в чемодане, – и все же была потрясена, увидев их в школьной одежде: казалось, будто они развлекались какой-то мрачной игрой в переодевание.
Мария и Элизабет – это они и не совсем они. Они не бросились к сестре, но спокойно подошли и наградили слегка изменившимися поцелуями. Мисс Эванс сказала, чтобы они позаботились о Шарлотте, помогли ей устроиться на новом месте. Да, мисс Эванс. Служанка с грубым лицом принесла поднос, постелила скатерть: папа должен поужинать и переночевать здесь, а ранним утром отправиться домой. Марии и Элизабет в качестве поощрения позволяют разделить трапезу. Спасибо, мисс Эванс. Все эти реверансы и ответы хором… У Шарлотты слипаются глаза: она чувствует, что может лечь на пол, как собака, и заснуть. За столом папа рассказывает, как поживают тетушка, Брэнуэлл, Эмили и Энн – Мария и Элизабет сами ни о чем не спрашивают. А как их учеба?
– Мария и Элизабет занимаются весьма успешно, мистер Бронте, – говорит мисс Эванс. Иногда в ее взгляде светится доброта, но почему-то чувствуется, что не стоит на это полагаться – как на пенни, найденное на полу. – Но касательно опрятности и пунктуальности мы хотели бы видеть некоторые улучшения.
– Уверен, они наступят, – отвечает папа, – особенно теперь, когда девочки будут стремиться показать пример Шарлотте.
До дома тысячи миль: мечта. Мария и Элизабет бросают странные взгляды на простой ужин, состоящий из бутербродов с сыром и оладий. Предупреждение, что его не стоит есть? С другой стороны, когда мисс Эванс приглашает их к столу, они принимаются за еду с жадностью. Возможно, это имеет какое-то отношение к слову «смирение», которое постоянно звучит в разговоре. Шарлотта проглатывает несколько кусочков хлеба, смиренно. Нога Элизабет мягко касается ее ноги под столом. В дороге Шарлотте удавалось сдерживать тошноту, а теперь, под давящей тяжестью мира, удается не расплакаться.
Однако потраченные усилия делают ее опустошенной и беспомощной. Шарлотта может только моргать, не издавая ни звука, когда мисс Эванс задает ей маленькие колкие вопросы.
– Думаю, – слышится откуда-то издалека папин голос, – моя дочь очень утомлена переездом.
Марии и Элизабет велят проводить ее в дортуар. На несколько драгоценных минут Шарлотта опять оказывается в середине: под каменными сводами коридора по обе стороны от нее идут сестры, вдруг снова ставшие собой. Они обнимают, ободряют ее и наперебой расспрашивают о домашних. В их голосах чувствуется какая-то натянутость, сдавленность, но виной тому может быть эхо каменных стен.
Дортуар: жуткий, как само его название. Здесь запах кипящего котла сгущается до чего-то затхлого, пригорелого, неясного. Голые стены, голые доски пола, ряд узких кроватей. Несколько девочек с взъерошенными волосами и круглыми лицами, переодевающиеся в ночные сорочки, поворачиваются посмотреть на вошедших.
– Старшие девочки должны учиться до восьми, – говорит Элизабет. – Лучше приготовиться ко сну до того, как они появятся.
Шарлотта не успевает спросить почему, как сестры снова увядают. Очередная мисс обрушилась на них, низведя до реверансов и почтительных «да, мисс». На этот раз перед Шарлоттой оказалась энергичная особа с глазами-ягодками и высоким недовольным голосом; она напоминает ей пчелу. Да, мисс Эндрюс. По ее приказанию чемодан Шарлотты внесли наверх, и теперь она жужжала и злилась, разбирая его содержимое.
– Три пары черных шерстяных чулок, три пары, об этом ясно сказано в проспекте.
Да, мисс Эндрюс. Она бубнила правила поведения в школе, а Шарлотта моргала и шаталась. Да, мисс Эванс.
– Эндрюс. – Маленькое жужжащее лицо остановилось на уровне глаз девочки. – Ты выучишь мое имя. А теперь раздевайся – и в постель.
Она ушла.
Мимолетное возвращение Марии и Элизабет, которые помогли ей разложить одежду.
– Нужно делать это аккуратно. Иначе она будет ругаться.
Затем шум – идут старшие девочки, и Мария с Элизабет бросились к своим кроватям. Шарлотта с головой укрылась жестким шерстяным одеялом. Она попыталась представить лицо Сары Гаррс, но оно расплывалось перед глазами. Грохот и крики. Одеяло отброшено в сторону.
– Кто это?
– Она воняет.
– Да, воняет.
Шарлотта закрыла глаза, прячась от больших мрачных силуэтов.
– Как думаешь, она писает в постель?
– Похоже на то.
– Фу.
Голос Марии:
– Это Шарлотта, она наша сестра.
Какая-то девочка насмешливо перекривляет ее. Осознание: это же папин акцент, и у Марии, хотя Шарлотта никогда этого не замечала, он тоже, наверное, есть. А у нее? Миг постыдного предательства, она прячется под одеяло: если он у нее есть, необходимо от него избавиться.
– Почему она такая маленькая?
– Ей всего восемь, – звучит голос Элизабет.
– Она все равно должна быть больше. Ваш отец морил ее голодом? Запретил ей расти, чтобы она ела поменьше?
– Здесь она точно не подрастет.
Долгие перешептывания и смешки, оборванные предупреждением:
– Эндрюс!
В комнате действительно появилась мисс Эндрюс и прошла рядом с Шарлоттой. Девочка услышала это, но не увидела: инстинкт заставил ее спрятать голову под одеяло. Какое-то время спустя, когда погасли свечи и утихло сопение, Шарлотта почувствовала, что кто-то взял ее за руку. Мария.
– Завтра мы будем вместе. Сейчас нельзя разговаривать. Спокойной ночи.
– А что плохого в разговорах?
Протест. Ее первый протест.
– Тише. Когда утром зазвонит колокол, сразу же вставай.
И Мария превратилась в темноту.
Они стояли у двуколки, озаренные солнечным светом. Мухи изводили старую лошадь, садясь на нее, взлетая и снова садясь. Папа позволил девочкам по очереди себя поцеловать.
– Шарлотта, дорогая, я оставляю тебя в надежных руках.
Папа не побрился: Шарлотта почувствовала колючую щетину и, когда он выпрямился, увидела, что та седая.
Двуколка исчезала вдали, а папа махал им на прощание шляпой – странный, безоблачно-праздничный жест. Шарлотта попыталась поднять руку. Та не желала слушаться. Что ж, папа все равно не сможет разглядеть их с такого большого расстояния.
Мисс Эванс, гремя ключами, повела их назад. Элизабет немного отстала, чтобы шепнуть Марии:
– Ты не сказала ему?
Мария покачала головой. У нее был бледный, болезненный вид; остриженные волосы подчеркивали выступающие скулы. Дома (при мысли о доме возникло ощущение, будто тебя кулаком ударили в живот) была книга с изображением Жанны д'Арк, которая выглядела точно так же.
– Нет, – ответила она. – Как я могла? У папы и так много забот.
Их жизнь не изменилась, нет; она упала с огромной высоты, разбившись вдребезги, и теперь приходится ползать среди зазубренных обломков.
Впереди ждут новые открытия. Шарлотта обнаруживает, что глупа. Учителя качают головами. Она многое знает о Вильгельме Завоевателе, даже то, чего ей не следовало бы знать, но только не даты его жизни. Хотя у нее есть соображения, слишком много соображений по поводу Франции и Швейцарии, карту Европы она составить не может. Нет системы.
А еще девочка обнаруживает, что они – ученицы школы для дочерей священников в Коуэн-Бридже – являются объектами милостыни, о чем свидетельствует их траурная форма. Вот почему плата за обучение такая низкая, объясняет Мария: богатые люди жертвуют деньги на школу. И поэтому имена богатых людей упоминаются в их молитвах.
Молитвы в Коуэн-Бридже звучат без конца. Молитвы перед завтраком, перед обедом, после чая, перед сном. Такое впечатление, что Бога нужно пилить. А кроме молитв – уроки Закона Божьего, катехизис, гимны, проповеди, библейские тексты, которые нужно заучивать на память. Преподобный Кэрус Уилсон, их покровитель, придает большое значение религиозному наставлению детей. Мистер Уилсон – это имя Шарлотта услышала задолго до личной встречи. Оно в каждом уголке школы. На него ссылаются. Волнение одной или двух учительниц при звуке этого имени доходит до неспособности сделать глоток воздуха. На лице мисс Эванс упоминание о покровителе школы, напротив, вызывает иногда застывшее выражение, как будто ее одолевают тяжелые подспудные размышления. Это имя напечатано на обложке брошюры под названием «Друг детей», которую им дают почитать в час досуга.
Шарлотта вскоре откладывает брошюру, но шокированный разум продолжает витать над смертоносным морем прозы мистера Уилсона. Маленькая девочка подвержена приступам шумных капризов; однажды, во время одной из таких истерик, она валится замертво и попадает в ад. На глазах двух сестер умирает мать: одна плачет, но другая, более мудрая, укоряет ее, потому что следует радоваться, что мама покидает мир греха. Детей бодают быки, кусают бешеные собаки, в них попадает молния; они лежат, раздавленные колесами телеги, и обращаются к читателю с речами об адском пламени. Есть несколько хороших детей, они безмятежно лежат в своих маленьких гробах, но непослушных большинство, особенно девочки. Непослушные, непослушные девочки. Иногда кажется, что достаточно просто родиться девочкой.
– Я не верю, что там написана правда, Шарлотта, – решительно возражает Мария.
– Но мистер Уилсон священник, разве нет?
– Да, как и папа, но папа не верит в такие вещи.
– Тем не менее он отправил нас сюда, – мягко замечает Элизабет.
И тут Шарлотта произносит вслух вопрос, который не дает ей покоя:
– Как вы это терпите? Как вы это терпите?
Они в саду, сейчас время для упражнений на воздухе – на самом деле единственное время, когда они могут свободно поговорить друг с другом; даже в дортуаре им удается обмениваться информацией только шепотом и жестами. Элизабет обвивает руками плечи Шарлотты, нежно прижимает ее к груди – так умеет только Элизабет: даже стоя, она заставляет почувствовать, будто лежишь в теплых надежных объятиях.