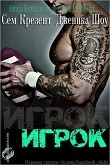Текст книги "Тень скорби"
Автор книги: Джуд Морган
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Только немного позже Шарлотта поняла, что за возглас вырвался у нее. Это был смех. Тут же появилось ощущение, будто ее вынудили на скабрезность.
Мистер Николс, и это было неизбежно, знал, что она Каррер Белл. Когда Шарлотта увидела его выходящим из папиного кабинета с экземпляром «Шерли» под мышкой, то немного смутилась, потому что включила в книгу сатирический шарж на местных викариев, в том числе и на него, – хотя он предстал в виде лучшего из худших. Но недавно Шарлотта услышала от Джона Брауна, у которого жил мистер Николс, что тот нарушал покой дома, громко хохоча над всей главой.
– Да, он читал ее мне вслух, – сказал как-то папа, – с огромным восхищением. Теперь хочет почитать, как он выражается, вторую книгу.
Шарлотта пожала плечами. Она не могла вообразить, что «Джен Эйр» покажется мистеру Николсу интересной, как невозможно представить, что цветы сажают в каменную стену. И все-таки при мысли, что папин помощник будет ее читать, становилось немного неуютно. Она усмехнулась, представив, как мистер Николс, сложив на груди крепкие руки, нахмурив до глубоких морщин лоб и напустив серьезности, примет участие в ее словах и шагнет в объятия мистера Рочестера.
Но волноваться, что папин викарий забросает ее комментариями по поводу романов, не было нужды. Мистер Николс, несмотря на то что он часто бывал в их доме и даже мельком видел Шарлотту за работой, никогда не обращался к ней как к писательнице. На самом деле создавалось впечатление, что давать комментарии вообще не по его части.
– Боюсь, скоро опять пойдет снег, – сказала она, подавая викарию чай. – Чувствуется, что холод капельку смягчился, но в воздухе что-то тяжелое и неподвижное.
Мистер Николс слушал, как будто Шарлотта говорила на иностранном языке, причем плохо; потом нахмурился и хлебнул чаю.
– Ну что ж, пойдет значит пойдет, – произнес он.
Какая странная раздражительность, словно он хотел прорваться сквозь тривиальный разговор к какой-то чрезвычайно важной теме, которую никогда не поднимал. «А я еще боялась, что неуклюже веду себя в обществе», – думала Шарлотта, если вообще о чем-то думала.
Когда «Шерли» появилась на полках магазинов, критики снова отметили неженскую грубость Каррера Белла, а мистер Смит и мистер Уильямс стали уговаривать ее приехать в Лондон и вкусить хоть немного от плодов собственной славы. В то же время Тэбби пересказала странную новость, что один или два человека, не из здешних краев, разыскивали хоуортский пасторат. Зачем? Вроде бы просто посмотреть на него, из-за книг, которые оттуда появляются. Просто посмотреть. Шарлотта покачала головой.
– Теперь еще и это, – произнесла она. – Не могу поверить.
Мистер Гринвуд, продавец канцелярских товаров, – его искривленные плечи, казалось, еще больше поникли, когда он поклонился, приветствуя Шарлотту, – был тем, кто показал ей заметку в «Бредфорд обсервер».
Предполагается, что единственная дочь преподобного П. Бронте, приходского священника Хоуорта, является автором «Джен Эйр» и «Шерли», двух популярнейших на сегодняшний день романов, которые вышли в печать за подписью «Каррер Белл».
Единственная дочь. Видеть это напечатанным – о, как же больно. Печать создала их и печать подтвердила их уничтожение, их абсолютное молчание.
Тем вечером при свете лампы Шарлотта вслушивалась в набухающую тишину, пока наконец не пришлось ее нарушить. Она громко высказалась. Она должна была это сделать. Одними мыслями тут не справиться. Мысли крошились, как мел, – речь была пером, чернилами и подписью.
– Я знаю, что вы здесь. Но вас здесь нет. Вот почему мне здесь невыносимо. Я не могу просто… засиживаться. Я должна буду увидеть другие края. – Она на миг склоняет голову. – Да, правда, я действительно всегда этого хотела. Но не так. Я никогда не хотела, чтобы так.
Поездки в Лондон: Шарлотта не могла не думать и не сравнивать их с вихрями и грозами того уик-энда, когда они с Энн впервые бросили вызов неприступному офису «Смит, Элдер и Ко». Это было захватывающим, но и пугающим; чем-то, что нужно преодолеть, вылазкой из убежища. Теперь убежища не осталось. Нору разрыли и перекопали, все выровнялось. В каком-то смысле это значило, что мужество – единственный путь. («Мужайся, Шарлотта. Будь мужественной», – последнее, что сказала ей Энн.)
Уильям Мейкпис Теккерей, могучий лев. В первый свой визит Шарлотта имела возможность посмотреть с почтительного расстояния, как он кормится, – на ужине у Смитов, с последующим коротким знакомством и пожиманием лапы: слишком много людей, слишком много робости с ее стороны для большего. Во второй раз он нанес утренний визит, и Шарлотта была чуть лучше подготовлена.
– В этот момент, мисс Бронте, я должен бы открыть, что с самого начала знал, что Каррер Белл – женщина, женщина из Йоркшира, из семьи священника; одним словом, показать себя самым настоящим ярмарочным предсказателем. Ничего подобного, увы. На самом деле, когда наш друг дал мне «Джен Эйр», я подумал только, что имею дело с мастером или, если хотите, мастерицей нашего бедного, терпящего дурное обращение английского языка. Так много авторов нынче загоняют его до полусмерти – или же позволяют старой кляче брести по обочинам, куда глаза глядят.
Теккерей был огромным, тяжелым, громогласным мужчиной в очках, курносое лицо которого всегда тянулось вверх, как будто он собирался чихнуть. Иногда казалось, что он чихает на смешную ценность мира, а иногда на себя самого.
– Вы смущаете меня этой похвалой, сударь, – пролепетала Шарлотта. В ее скромности не было ничего показного. Она находилась в присутствии божества. – Вы, кто пишет с таким… с таким изяществом, непринужденностью, легкостью, обладаете качествами, которые мне не подвластны…
– С легкостью, говорите. Это потому, что, когда я сажусь писать, голову редко отягощает какая-нибудь мысль, кроме той, как оплатить счета виноторговцев.
– О, знаю, материальный мир беспардонно отрывает от творчества, – особенно когда от тебя зависит семья.
– Напротив, мисс Бронте, материальный мир является для меня важнейшим стимулом. Когда я сажусь за стол, вздыхаю, чешу в затылке и призываю муз, этих нерадивых ведьмочек, в поисках вдохновения, у меня не всегда получается. Но стоит только заглянуть в банковскую книжку, и я тут же чувствую себя вдохновленным как никогда.
Теккерей оглушительно рассмеялся. Какой-то суровый у него был смех, будто на самом его дне лежала угроза слушателю, который не захочет присоединиться к веселью.
– Вы говорили об английских авторах. Что вы думаете по поводу новых французских романов? В них такая же пресность – потребность в силе?
– О, француз – это пресыщенное, циничное создание, – сказал Теккерей, занимая, подобно караульному, позицию у камина и подгибая мощные ноги. – Дайте ему перо в руки, и он станет либо чувственным, либо фривольным. Вы вообще знаете Францию, мисс Бронте?
– Нет. Я была в Европе, но в Брюсселе.
– О, я знаю Брюссель – очаровательная игрушечная столица, не правда ли? Бельгийцы так гордятся своим маленьким шахматным королевством, что невозможно сдержать улыбки. Париж – вот истинный дух Европы, хотя он и отдает чесноком и тухлым мясом…
Медвежьи руки Теккерея, казалось, сметали все, что Шарлотта всегда считала важным, а его речь была сплошь тараторящей и торопливой, как будто он ни на чем не хотел подолгу задерживаться – чтобы, не дай бог, не вглядеться слишком глубоко? И в то же время в его книгах было столько мысли, хотя, безусловно, он был излишне падок на сентиментальность.
– Лондон, если брать в общем и целом, это принц городов. Весь мир смотрит на него, пусть даже со злобой и завистью. Вы бы не жили в каком-то другом городе, верно, Смит?
– Будучи издателем, я лишен выбора.
– Как раз это мне и нравится в Лондоне, – сказала Шарлотта, – не общество, но преданность этого места искусству и литературе.
– Боже мой, литературе, да? Нам нужно сторониться деловых разговоров, мисс Бронте, – прогремел Теккерей. – Иначе наш друг издатель будет с тревогой вслушиваться, не хотим ли мы вступить в сговор и пойти против него, – как ваши бастующие ткачи на севере, поджигающие фабрику или ее владельца: что ярче вспыхнет, верно?
Фимиам обожествления развеялся, и Шарлотта взглянула на Теккерея как на равного, с любопытством. Может, в нем говорят натянутые нервы? Хотя вовсе не скажешь, что ему здесь неуютно. Перед ней человек, познавший великие скорби (его бедная сумасшедшая жена), но, тем не менее, кажется, что он прогуливается по миру, как по огромному увеселительному парку. Вероятно, в этом и кроется секрет. Отметаешь медвежьей лапой скорби, топчешь их сияющими ботинками, отрекаешься от них жестким, звенящим смехом. Судя по всему, это лучше, чем прижимать их к груди. В конце концов, папа однажды назвал ее самоедкой.
– Видимо, вы встревожили его, мисс Бронте, – сказал Джордж Смит позже, когда Теккерей ушел, – и потому он разговаривал в довольно поверхностной манере.
– Встревожила его? Как? Я стояла перед ним фактически в благоговейном страхе.
– Отчасти в этом и дело. А потом вы затронули деликатную тему тенденции… как же вы говорили…
– Излишней падкости на сентиментальность, которая портит его работу, когда подводит вдохновение, – продолжила она.
– Точно. – Мистер Смит улыбнулся и сел рядом с Шарлоттой. Далеко не всем мужчинам настолько идет улыбка. – Кстати, тут я с вами вполне согласен. Господь свидетель, я бы хотел видеть его в списке своих писателей, но если бы это на самом деле произошло, мне бы пришлось настоять, чтобы Теккерей расстался с привычкой пожимать плечами в конце главы, как будто история, которую он рассказывает, по большому счету не так важна. Однако она важна: писатель и читатель заключают серьезный договор, который нельзя нарушать.
– Рада слышать, что кто-то разделяет мое мнение, – произнесла Шарлотта, слегка сбившись с дыхания.
Мистер Смит принял расслабленную позу.
– А потом говорите ему в лицо, что он лучший писатель-моралист своего века и что ему, наверное, тяжело приступать к очередной книге, осознавая подобную ответственность. – Он усмехнулся. – Дорогая моя мисс Бронте, неудивительно, что Теккерей был встревожен.
Шарлотта отвернулась. Таков был Джордж Смит: кажется, что ныряешь в бездонные глубины, а получается, что стоишь по щиколотку в воде, на мели. Она решила скрыть разочарование под язвительностью.
– Простите, мистер Смит, это очень глупо с моей стороны, но я не способна радоваться, когда надо мной смеются. Это во мне, безусловно, говорит суровый кромвелевский пуританизм[116].
– Знаете ли, смех может выражать восхищение, – ответил мистер Смит, нисколько не теряясь. – Кроме того, Теккерей первым бы признался – если бы кто-то выудил из него серьезное признание по поводу литературы, – что автор «Джен Эйр» едва ли должен стоять ниже автора «Ярмарки тщеславия». Хотя, как вам известно, многие поставили бы их в обратном порядке. – Он сделал небольшую паузу, позволяя словам осесть в сознании, потом взглянул на часы. – Мне пора на конную прогулку.
Из окна гостиной Шарлотта и миссис Смит наблюдали, как легко и прямо он держится в седле.
– Джордж почему-то решил, что растолстеет, если не будет упражняться, что у него это в крови, – сказала миссис Смит. – Его отец действительно набрал немного лишнего веса в более зрелом возрасте, но в Джордже я такого не замечаю. Несмотря на это, я поощряю его конные прогулки, потому что так он бывает на свежем воздухе и отрывается от своего письменного стола. Как вы прекрасно знаете, мисс Бронте, он работает просто-таки на износ. Он чувствует, какая на нем ответственность. Знаете, Джорджу едва исполнилось двадцать, когда к нему перешла роль главы семейства; от него очень много зависело и зависит до сих пор. Он всякий раз обязан делать только правильный выбор. Ошибкам фактически нет места.
Проницательная, внимательная, непреклонная миссис Смит, сумевшая окружить Шарлотту искренним гостеприимством, сглаживала робкое молчание гостьи, чувствовала, когда на нее находили сокрушительные головные боли, исполняла роль скромного и умелого гида, показывая достопримечательности Лондона. Надо признать, что Шарлотте едва ли доводилось встречать такую благожелательность в других женщинах. Странно, что время от времени в этом ярком худом английском лице ей чудился мечтательный, убийственный взгляд мадам Хегер.
Теккерей, ничуть не обидевшись, пригласил Шарлотту на ужин в свой радушный дом с эркерами в Кенсингтоне. Подобралось общество хорошо воспитанных и хорошо одетых, литературно образованных леди. Шарлотта сразу же – по взглядам, которые на нее украдкой бросали, по поглаживанию шеи, по мимолетным улыбкам – поняла, что ей не о чем с ними говорить. Проверка началась после ужина, когда мужчин оставили наедине с портвейном. Одна из дам, следуя законам гостеприимства, взялась составить Шарлотте компанию.
– Нравится ли вам Лондон, мисс Бронте?
Подумав, Шарлотта ответила:
– Дай нет.
Дама как-то по-птичьи нахохлилась, вздохнула, отвернулась. Почему? Ведь такой вопрос, безусловно, достоин серьезного рассмотрения. К счастью, в комнате находилась гувернантка дочерей Теккерея: хоть с кем-то можно поговорить.
Теккерей, раскрасневшийся от портвейна, ненадолго присоединился к ним, потом, кривясь, извинился и исчез. Позже Джордж Смит сказал ей, что тот ездил в свой джентльменский клуб.
Шарлотта не удивилась. В каком-то смысле, подумала она, он его и не покидал.
– Вы никогда не позировали для портрета? – спросил в экипаже мистер Смит.
– Нет… то есть да. – Шарлотте пришлось выдавить эти слова из памяти. – Своему брату. Он учился на художника. Однажды он писал наш групповой портрет, а себя нарисовал в середине. Хотя, конечно, с четырьмя не может быть середины… – Невероятно, как боль проходит через годы: какой свежей остается рана. – Но это другое. Он знал меня лично. А мистер Ричмонд… в его распоряжении будет только моя внешность. Да поможет ему Господь.
– О, но ведь это его ремесло, его гений. Он изучает лица, читает, переводит. Мне кажется, я видел, как вы проделываете то же самое, мисс Бронте.
– Не знала, что я настолько прозрачна.
Казалось, он оставил при себе какой-то ответ.
– Что ж, уверяю вас, это не займет много времени. И мне будет очень приятно послать портрет вашему достопочтенному отцу. Наглядное доказательство вашей, мисс Бронте, славы.
Шарлотта вжалась в угол коляски. Она-то как раз могла бы обойтись без наглядных доказательств.
– Нет, – сказала Тэбби, вглядываясь в портрет над каминной полкой, пятясь, подходя ближе, тряся вторым подбородком, – нет, не похоже. Он дорисовал тебе лишних лет.
«Лишних лет? – подумала Шарлотта. – Как такое возможно?» А потом вздрогнула от скуки собственного несчастья, от неизбежности своего «я».
Наглядное доказательство ее славы: оно также явилось в образе мужчины, похожего на красивую разговорчивую лошадь; великий деятель и мыслитель, доктор, реформатор образования и прочее; большой охотник и коллекционер знаменитостей, к которым Шарлотте теперь приходилось причислять себя. Человек, с наивысшей степенью категоричности отвергающий ответ «нет»: сэр Джеймс Кей-Шаттлворт. Даже его имени, думала Шарлотта, было слишком много, и она мысленно переименовала его в Шаттлкока[117], хотя по округе начали гонять именно ее. Визита в его поместье в Готорпе, где Шаттлкок очаровательно докучал ей, оказалось недостаточно, и он продолжал изводить ее любезностями и приглашениями. Но папа во всем поддерживал Шаттлкока, поскольку не мог не учитывать его северных корней. Общество вокруг «Смит, Элдер и Ко» в Лондоне по-своему хорошо, казалось, намекал он, но следует заводить знакомства ближе к дому… На что, собственно, он намекал? На какую-то опасность в обществе Джорджа Смита?
Что ж, хотя Шарлотта хранила молчание, она тем не менее легко могла успокоить папу. Это абсурдно. Начать с того, что Джордж Смит хорош собой (даже красив – да, позволим это), младше ее и успешен в обществе – одним словом, он просто создан, чтобы жениться на какой-нибудь золотой куколке. Во-вторых, ее сердце слишком омертвело для таких порывов. Она проверяла это. Как? Путем эксперимента. Она позволила себе предположить – в качестве своего рода гипотезы, – что пропасть между его привлекательностью и ее серостью возможно преодолеть; что его социальные и финансовые ожидания не имеют значения; что бдительность его матери можно обмануть; что через восхищение ею как писательницей Джордж Смит придет к другому виду восхищения. Итак, сведи воедино все эти воображаемые условия, а затем прислушайся к сердцу.
Ничего. Или разве что волнение, но не настолько сильное, чтобы переживать по этому поводу. С самого начала общения с Джорджем Смитом Шарлотта знала, что ради него она не опустит рук. На самом деле теперь она сомневалась, что вообще когда-нибудь опустит руки: просто будет продолжать цепляться за обломок, барахтаться в воде и смотреть, как наступает неизбежная ночь.
Благожелательная травля, устроенная Шаттлкоком, все-таки привела к одному хорошему событию. Не в силах больше отказываться от приглашений, Шарлотта отправилась погостить у сэра Джеймса в его летнем доме у озера Уиндермир – и время ее визита совпало с пребыванием там Элизабет Гаскелл.
Шарлотта знала о ней – ее роман «Мэри Бартон» оспаривал места на книжных полках с произведениями Беллов. Кроме того, имел место обмен письмами, который убедил Шарлотту, что они с Элизабет поладят. Если, конечно, не принимать во внимание ужаса знакомства с новым человеком. И когда Шарлотту представили миссис Гаскелл – привлекательной, легкой в общении, уверенной в мире и его существовании, – она съежилась и ушла в себя. Превратилась, как она сама для себя сформулировала, в Бронте. Но теплый, спокойный взгляд миссис Гаскелл таил неспешный интерес, и в течение дня они незаметно перешли от настороженной симпатии к полному доверию.
– Я всегда чувствовала, что Ловудскую школу должен был породить какой-то прототип из реальной жизни, – сказала миссис Гаскелл. – Но из ваших слов видно, что вы скорее смягчали, чем преувеличивали, когда переносили его в «Джен Эйр».
– Что ж, как вы знаете, есть некоторые вещи, которых нельзя допускать в художественном вымысле. Нельзя вызывать у читателя отвращение, поскольку жизнь слишком часто бывает отвратительной. Читатель хочет нежного обращения. В реальной жизни две мои сестры умерли из-за того, как с ними обращались в школе, – но стоит написать такое в книге, и люди начнут жаловаться, что автор гонится за дешевыми эффектами.
– Вам это помогло? Вам стало легче, когда вы написали о Ловудской школе и мистере Брокльхерсте – да, я вижу, что он тоже был настоящим, – и переложили все это на бумагу?
– Не знаю. Я знаю, что при настоящем Брокльхерсте я не могла говорить, – настолько была запуганной, – и никто из девочек не мог, – ответила Шарлотта. – А моих старших сестер школа заставила замолчать навеки. Так что перо наконец позволило мне высказаться. Но я не думаю, что сочинительство по-настоящему помогает или мешает: это просто что-то, что необходимо делать. У вас не так?
– Теперь так, – после короткой паузы произнесла миссис Гаскелл. Окно гостиной выходило на озеро, и солнце, опускающееся на воду, маленькими розовыми бликами играло на лице Элизабет. – Я взялась за «Мэри Бартон», потому что меня к этому подтолкнул муж, потому что без дела я сошла бы с ума. Мой маленький мальчик умер. Уильям. Ему еще года не было. Мне тоже хотелось умереть. У меня по-прежнему оставались три маленькие девочки и мой дорогой муж, и все же, знаете, мисс Бронте, мне не было до них дела, абсолютно никакого, что было очень плохо с моей стороны. Я хотела только Уильяма. Усилия и отвлеченность сочинительства должны были спасти мой разум – и спасли. – Элизабет внезапно повернулась к Шарлотте с пронзительной, голой улыбкой на губах. – Но я так и не перестала хотеть Уильяма. Хотеть, чтобы он вернулся.
После этого не могло быть и речи о том, что они не поймут друг друга.
Ах, если бы отношения с мистером Джеймсом Тейлором могли обрести какую-нибудь уютную основу. Но не судьба. Во время лондонских визитов Шарлотте, к ее стыду, удавалось избегать мистера Тейлора или разбавлять его концентрированное внимание постоянным присутствием других людей. (Впрочем, это ничуть не облегчало острого сознания его присутствия: знать, что в комнате находится мистер Джеймс Тейлор, было все равно что знать о заряженном пистолете, висящем на стене.) В Хоуорте она получала его письма, которые в сложенном виде достигали толщины молитвенников, и силилась на них отвечать. Известие, что его направляют в Индию, в бомбейский офис «Смит, Элдер и Ко», принесло явное облегчение, потому что теперь, покидая страну, возможно, на долгие годы, он должен был либо высказаться открыто, либо закрыть тему.
Он высказался открыто: снова прервав путешествие из Шотландии на юг, чтобы заглянуть в Хоуорт. Шарлотта слушала, сосредоточив взгляд на коричневых родинках, усыпавших тыльные части его белых, как мука, ладоней, и дала единственно возможный ответ. Снова облегчение; однако Шарлотте было жаль его, жаль, что она больше ничего не может ему ответить и что сочетание его настойчивости и искренности не принесло результатов. Мистер Тейлор принял это с ввалившимися щеками и показным спокойствием и вышел вон. Наверное, она не увидит его лет пять, а может, и никогда больше. Шарлотта опять сидела перед открытой шкатулкой для письма и нетронутым листом бумаги и думала: «Что со мной не так?»
Поэтому, когда от Смитов пришло очередное приглашение, она ухватилась за него: особенно теперь, перед открытием Великой выставки, которой так интересовался папа. Она посмотрит, впитает в себя и привезет выставку папе домой, как раньше привозила вещи для Эмили. Так история завершает круг: Шарлотта по пути в Хоуорт заезжает погостить к Гаскеллам на Плимут-Гроув, сидит у открытого окна, разговаривает с подругой, вдыхает запах сена, принесенный ветерком.
Ничего не ждет. А когда что-то все-таки происходит, то это не гром среди ясного неба. Скорее это напоминает Шарлотте картину, которую она видела на выставке Королевской академии – яркое, запруженное людьми полотно, изображавшее музыкальный вечер. Чем дольше она всматривалась в картину, тем четче вырисовывалась из толпы одна фигура, фигура, которую художник наделил жизнью с особой щедростью: сияющий цвет лица, горящие глаза, так что в конце концов начинало казаться, что фигура вот-вот сойдет с полотна и заговорит. Такой процесс, похоже, происходит в Хоуорте, где одна фигура отделяется от общего фона и меняет все. Это самый большой сюрприз: трансформация известного.
Сначала жизнь подобна колее. Это уютно. Поддерживаем папу; пишем – да, она все-таки погнала вперед старую клячу; получаем письма из Лондона, держим открытой маленькую форточку в мир; храним дружбу, а это, прежде всего, непрекращающаяся связь с Элен.
Ах, она рада Элен: всегда рядом, всегда верная себе, когда столь многое в мире выворачивается наизнанку. И в то же время Шарлотта начинает воспринимать постоянство как своего рода очерствение: только холодный камень никогда не меняется. С тех пор как умерли ее сестры, Элен стала как-то непринужденнее: словно кто-то вышел из комнаты и теперь можно поговорить.
– Слава Богу, нам обеим хватило мудрости не выходить замуж, – сказала однажды Элен, когда они гуляли, взявшись за руки. И хотя Шарлотте нравилось это ощущение, эта знакомая неторопливая нежность, ей вдруг почудился грохот захлопываемой двери. Вот и мы, и мы здесь останемся. Да, уют накатанной колеи. Вот только иногда невольно понимаешь: колея становится больше похожей на решетку темницы, в которую запирают твою жизнь.
Для нового романа Шарлотта вернулась к брюссельскому опыту – но холодно, холодно. Она нашла способ сделать это и в то же время сохранить огонь внутри.
– Мисс Бронте. Скажите, как продвигается ваша новая книга?
Это мистер Николс: входит в столовую после выгуливания собак и задает слегка необычный вопрос.
– Неплохо, спасибо, мистер Николс.
Он прокашливается, привычно хмурит лоб и оглядывает комнату, будто ищет какой-то маленький предмет, который не туда положил или который у него забрали.
– Наверное… писать книгу, – запинаясь, произносит он, и Шарлотта с любопытством ждет, готовая ко всему, – очень утомительно.
– Ах! Да. В каком-то смысле, да. Но это, конечно, нельзя сравнить с работой на фабрике или в карьере.
– Ну, нет, конечно же, – говорит он слегка обиженным тоном, как будто Шарлотта намекала на обратное, и уходит.
Шарлотта обнаруживает, что боится, как бы мистер Николс не превратился в знатока литературы. Было каким-то утешением думать, что когда столь многое поменялось и исчезло, он сурово и упрямо остался самим собой: не хочется, чтобы дерево превращалось в перголу[118].
– Не пойму, что случилось с нашим другом, мистером Николсом, – ни с того ни с сего говорит однажды утром папа. – В последнее время он какой-то отстраненный, и мне это совсем не нравится.
Шарлотта поднимает взгляд от писем. Счета лавочников: получая доходы от книг, она решает приукрасить дом. Наконец-то, наконец-то занавески, хотя папа кривится по этому поводу, как будто речь идет о какой-нибудь восточной роскоши, экстравагантной и изнеженной.
– Я замечала, что он немного подавлен, – соглашается Шарлотта и думает: «Разве?»
– Скорее, он похож на девчонку с бледной немочью[119]. Когда я спрашиваю, не плохо ли ему здесь, мистер Николс только вздыхает. Но время от времени заводит разговор о возвращении в Ирландию. «Что ж, если вы этого хотите, – говорю я, – так и поступайте: примите решение». «Я не знаю, чего хочу», – заявляет он. – Папа фыркает. В нем есть что-то от презрения Эмили к слабости: только гораздо острее и смертоноснее. – Я бы остался круглым неудачником в жизни, если бы не был способен принимать четких решений.
С этими словами папа берет нож для бумаги и принимается твердой рукой разрезать конверты, точно хирург.
Книга закончена и отправлена, и, как всегда, возникает ощущение пустоты и неудовлетворенности, возможно, самое болезненное на этот раз. Холодное обращение, да, но по необходимости – плотные перчатки техники позволяют ей достать из раскаленной печи горячий материал. Пока она писала «Городок», многое из пережитого в Брюсселе вспомнилось с прежней яркостью – даже забытые моменты или моменты, которые она заставила себя забыть. И творческая ампутация опять пульсировала болью. Она назвала героиню Люси Фрост, потом поменяла на Люси Сноу. Им обеим есть что сказать – и Шарлотта действительно сказала, вслух, подняв голову от работы, как будто они все еще были здесь:
– Фрост или Сноу, как вы думаете, которая?
И снова откровение головокружительной вершины утеса: она должна решать сама.
Решать сама.
Работая над книгой, Шарлотта едва показывала нос за пределы Хоуорта и после этого чувствовала себя выжатой, взвинченной и почти нуждающейся в человеке, который мог бы с бесконечным терпением и ловкостью распутывать узлы в ее душе.
Кроме того, отсылка рукописи заставляет Шарлотту протереть глаза, вновь признать будущее. Папа, всегда зависящий от дочери, в разговоре с ней часто прибегает к какому-то раздражительному тону, как будто у Шарлотты есть привычка перечить. Потеря Брэнуэлла, Эмили и Энн по-прежнему ощущается как физическая боль. Боль, с которой можно научиться жить, как, например, с ослабленной мышцей. Или больным коленом: учишься беречь его, не нагружать, но порой, несмотря на всю заботу, почти валишься с ног от пронзающей тебя острой боли. Вероятно, так и будет продолжаться: с каждым днем страдание будет смягчаться по капле. А вот, если хочешь, образ тебя и твоего будущего: медленное движение часовой стрелки, едва различимое, неумолимое.
А потом тихим вечером в один из понедельников, после чая, мистер Николс предлагает Шарлотте выйти за него замуж, и вернуться к прежнему никак нельзя.
– Это дерзость, которой я ни в коем случае не могу принять, и не сомневайся, что я так и скажу ему, – говорит папа и добавляет: – Я имею в виду только сказанные им слова, а не еще более дерзкую мысль, что подобный подход может быть чем-то, кроме как абсолютной нелепицей. – Многословность папы предупреждает об опасности, равно как и вены, выступившие у него на лбу. – Я всей душой надеюсь, что в твоем, Шарлотта, поведении не было ничего, что могло бы толкнуть его на эту непростительную вольность.
– Нет, папа, для меня это тоже стало большой неожиданностью.
Да, так и было, когда мистер Николс, вместо того чтобы покинуть дом, проведя вечер с папой, постучал в двери столовой и вошел в освещенный лампой мир Шарлотты. Но с другой стороны, хотя она подняла на гостя удивленный взгляд, какая-то ее часть сказала: «Ах, вот что» – и быстренько пролистала небольшую пачку недавних воспоминаний: мистер Николс внимателен к ней, мистер Николс как-то странно молчалив с ней, мистер Николс случайно бывает на пустошах, когда там гуляет она. А это что такое? Сама она находит мистера Николса довольно сносным собеседником и вовсе не чувствует неприязни, когда он составляет ей компанию…
– Мисс Бронте, я больше не могу этого выносить, я уже долгие месяцы страдаю от этого и, если не… скажу… не положу конец, думаю, что сойду с ума.
От мистера Николса пахло улицей. Он дрожал всем телом – по-настоящему. Шарлотта никогда еще не видела, чтобы мужчина дрожал от переживаний, – даже у Брэнуэлла такого не было. Это немного тревожно, и возникает ощущение, будто у нее на глазах перегревается какой-нибудь мощный двигатель, а она ничего не может сделать.
Да, большая, но не полная неожиданность.
– Знаю, – сказал он, – в целом я не слишком общительный человек и редко… обнаруживаю свои чувства. Но вы наверняка что-то подозревали, мисс Бронте. Потому что вряд ли можно скрыть… то, что я чувствую…
Его голос дрогнул.
– Я… я заметила, что в последнее время вы разговариваете со мной несколько иначе, мистер Николс, но я понятия не имела, что…
– Теперь это не имеет значения – карты на столе. Я должен сказать, как безмерно я вами восхищаюсь, как отчаянно люблю. И я хочу спросить, возможно ли, что вы когда-нибудь согласитесь стать моей женой? Если вы не готовы ответить «да», тогда… что ж, я прошу вас не говорить «нет». Ничего окончательного. Позвольте мне надеяться.
Все, рассуждает она, довольно обыкновенно для брачного предложения. Только вот странно слышать это от мистера Николса, из широкой груди которого каждое слово, казалось, нужно было выдирать, выуживать рыболовным крючком. И в тот момент ей хотелось одного – прекратить это.