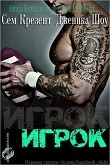Текст книги "Тень скорби"
Автор книги: Джуд Морган
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Эмили отдернула руку.
– Зачем мне хотеть этого? Я не такая, как ты, Шарлотта. Я не тоскую по одобрению. Я не посылаю миру нищенских писем: ах, смотрите на меня, восхищайтесь мной, любите меня.
Шарлотта смолкла на миг, проглатывая боль, чувствуя, как она оседает внутри.
– Ты же обещала, – напомнила она.
– Ты вызвала меня на это. – Эмили отвернулась, пряча лицо. – Что ж, раз ты увидела мои рифмы и я не могу этого исправить, пусть на этом все и закончится. Просто поверь тому, что я сейчас скажу, Шарлотта: я ни в ком не нуждаюсь.
– Конечно, пока кто-то платит за твой хлеб и поддерживает крышу у тебя над головой.
Слабая, запоздалая реакция, своего рода словесный удар в спину, о котором Шарлотта уже сожалела, но который заставил Эмили замереть на месте.
– Ну, что ж, – пробормотала Эмили, – по крайней мере, ты высказалась открыто.
– Эмили, я ляпнула, не подумав…
– Нужно всегда думать, что говоришь, Шарлотта. Я всегда думаю. А теперь я забираю этот блокнот, и он отправится во тьму, где ему и положено быть.
– Разве ты не позволишь мне его прочесть, Эмили? – спросила Энн.
Шарлотта наблюдала за ними. Чувствовала перемещение, перераспределение веса: так бывает, когда спаниель Пушинка прыгает на кровать и ты чувствуешь, как она осторожно устраивается на ночлег.
– О, если бы ты действительно хотела, – сказала Эмили, скованно пожав плечами, – и если бы попросила… что, насколько я понимаю, ты уже сделала.
– Знаешь ли, я согласна с Шарлоттой, – продолжила Энн, быстро подняв руку в ответ на гневный взгляд Эмили. – То есть я тоже хочу вернуть время, когда мы делились всем, что происходило внутри. Я не говорю, что она правильно сделала, прочитав твои стихи без спроса, но откровенно могу признаться, что не уверена, смогла бы я сама устоять перед подобным искушением. И, кроме того, я тоже пишу стихи. В Торп-Грине это всегда было моим… В общем, это помогало мне. Давай принесу, покажу тебе.
Эмили погладила ее по руке.
– Ах, Энн, ты не обязана этого делать.
– Я знаю, что не обязана. – Нежный голос Энн прозвучал капельку натянуто. – Я ничего не возмещаю и ничего не предлагаю в качестве подачки. Мне просто хочется показать, что я написала, и услышать твое искреннее мнение. Это, поверь, кажется мне естественным. Мы… мы были разделены, не правда ли?
– Иногда миллионами миль, – подтвердила Эмили, бросив потухший взгляд в сторону Шарлотты.
– И мы привыкли к этому, – продолжила Энн. – Но привыкнуть и считать естественным не одно и то же.
– Что ж. Конечно, если ты хочешь, Энн… – Губы Эмили все еще оставались поджатыми. – Имей в виду, я не думаю, что для Шарлотты стоит делать исключение.
– Я с радостью покажу все, что написала за последнее время. Это совсем немного. Большинство стихов, которые были хотя бы наполовину сносными, написаны сто лет назад, до того… до того, как я утратила дар.
– До того, как ты принесла его в жертву, – уточнила Эмили, жесткая и мрачная с ней, как уголь.
– Да.
Пропустим мимо ушей: вероятно, она даже права. Главное – держаться этой дороги. Из этого должно что-то получиться.
Поначалу – невероятная взаимная застенчивость, как будто их забросили назад, в детство, и они видят друг друга раздетыми или принимающими ванну. Они ничего не говорят или говорят ничего не значащие вещи: эта строчка симпатичная, эта печальная. А потом они начинают по-настоящему обсуждать, потому что это необходимо, потому что они всегда это делали, со времен Двенадцати и Гениев, когда на кону оказывались слова, образы и мечты.
Эмили такая сильная! Подчас ее сила чуть ли не угнетает: кажется, будто мысль давит на тебя, как тяжелая плита. Нет, Эмили не сердится. (Эмили почти прощает Шарлотту, но по-прежнему твердо убеждена, что делиться можно только стихами, что открываться друг другу дальше они не будут. Шарлотта молча уступает, но продолжает нащупывать и пасти.) В Энн много меланхолии. Это тревожит, учитывая ее спокойствие, прямоту ее отношений. Но почему не чувствуется озноб, не слышно вздоха? Что ж, иной раз, когда пишешь, снимаешь себя, как рубашку, говорит Энн. С Шарлоттой не так. Она это знает. «Я» раздувает, корежит ее стихи, и она это видит. Иногда оно сияет, но порой сияние переходит в убогое мерцание разложения.
И снова за столом втроем; груда бумаги, сетка разговора; это правильно, из этого должно что-то получиться. Время от времени Шарлотта муравьиным шагом продвигает уговоры, и ее навещает маленькое курносое сомнение: разве не наступала она уже на эти грабли, разве не с таким же воодушевлением добивалась поездки в Брюссель, убеждала открывать школу, что в итоге привело к катастрофе? Но Шарлотта говорит ему: «Кшш!»
– Должно быть, ты ценишь свои стихотворения, Эмили, иначе бы не переписывала и не складывала их так. – И далеко не сразу решается продолжить: – Разве это делается только для себя?
– Не знаю. Возможно… Но не для мира, это уж точно.
Язвительный взгляд: я знаю, чего ты добиваешься.
Но обсуждения, исправления, внимательные перечитывания неизбежно указывают на отбор. А зачем отбирать, если не для какой-то цели?
– Но, Эмили, ты ведь поддержала идею со школой. На самом деле ты приложила огромные усилия, чтобы ее осуществить: поехала учиться в чужую страну, поистине посвятила себя… – Осторожно: она вспыхивает от лести. – А ведь школа была, в конечном счете, просто школой, приемлемым решением, наиболее предпочтительной альтернативой. Она не была идеалом. А идеалом было бы… было бы то, чем мы всегда занимались. Писать. Вместо учреждения сестер Бронте – сестры Бронте-авторы.
– Конечно, – вступает в разговор Энн, которая тоже учится орудовать пастушьим посохом. – Нам бы не пришлось использовать свои настоящие имена, если бы мы все-таки попытались публиковаться. В этом нет надобности. Мы могли бы писать анонимно. На самом деле я бы предпочла такой вариант.
– Анонимно или под псевдонимами, – говорит Шарлотта. – Боже мой, звучит, как имена последних римских императоров.
Эмили прищуривается. Если Шарлотта беспечна, что-то назревает. Она ничего не говорит. Наконец молчание Эмили становится соучастием.
Избранное: двадцать одно стихотворение Эмили, двадцать одно Энн, девятнадцать Шарлотты. Чтобы прийти к этому, требуется много работы и разговоров – втроем за столом, заняты, причем заняты не тем, чем должны бы, не шьют и не варят домашние снадобья. Готовят что-то совершенно другое. И теперь втроем резко отделены от всего остального в доме. Папа, который давным-давно предостерегал Шарлотту от соблазнительного безрассудства писательской стези, отрезан своим ухудшающимся зрением и поглощенностью Брэнуэллом. Каждый день он отчитывает и увещевает: что с ним будет? Дело не столько в том, чтобы найти новую должность – хотя и это тоже, это всегда проблема, – сколько в проведении коренной нравственной реформы. А Брэнуэлл выглядит иногда серьезным, иногда раздраженным, и все время знаешь, что он избегает папы, ускользает по боковым дорогам разума, чтобы вернуться к своим притягательным и мучительным мыслям. К вечеру он обычно впадает в оцепенение, и папины ранние отходы ко сну оставляют столовую в распоряжении сестер. Лампа на столе, три стула в беспорядке: часто, работая и разговаривая, они кружат по комнате, снова и снова возвращаясь к столу, как будто энергия ума передается ногам.
Так проходит время. Днем сестры стирают ноги, волочась по голой каменистой земле, в компании мрачного папы и безучастного Брэнуэлла; но ночью, когда мужчин нет, они спускаются на воду, и их, плавучих и невесомых, подхватывает темно-светлое море.
Как-то раз Энн говорит:
– Как ты думаешь, Брэнуэлл еще пишет?
– Почему ты спрашиваешь у меня? – Шарлотта искренне удивлена.
– Ну, вы двое были такими неразлучными, когда писали про Ангрию.
– Давным-давно. Нет, нет. Теперь между нами ничего общего.
Да, припишите к старому долгу.
Однажды он врывается к ним, милостивый и необузданный: встретил джентльмена-путешественника, который остановился в «Черном быке», поддержал ему компанию за бутылочкой.
– Отменный парень. Безупречное воспитание, здравый ум. Антикварный экземпляр. Сказал, что чрезвычайно удивлен, встретив в таком безлюдном месте другого джентльмена, у которого в голове полно мыслей. – Он наклоняется, чтобы заглянуть через плечо Энн. – Заметьте, я здесь навечно не останусь. Намекнул ему на это. Мог бы и не просто намекнуть, знаете ли… Поэзия, да? Нынче никто не пишет хороших стихов. Всем подавай романы. Но где же хорошие романы? О, конечно, есть Эйнсворт[97], есть Боз[98], но право же, у публики аппетит на всякую макулатуру, и недоумкам издателям только ее и подавай. Я и сам подумываю выпустить роман, как только немного остепенюсь. Главное, чтобы дело пошло на одном дыхании. Тут есть одна загвоздка: дабы написать что-нибудь стоящее, необходимо обладать жизненным опытом. – Он одаривает сестер смазанной снисходительной улыбкой. – Бог мой, у меня он есть, это уж точно. Бог мой. Вот в чем ваш промах, увы. Не ваша вина. Все это проклятое место. Но, опять же, я не останусь здесь навечно. Никто не может оставаться здесь вечно. Неудивительно, что папа тут наполовину рехнулся. Ха! Как вы на меня смотрите. «Сестры, вверх! Рука с рукой!»[99]. Оставляю вас с вашим котлом. «Взвейся ввысь, язык огня! Закипай, варись, стряпня!»[100]. – Он выплывает, посмеиваясь, вон из комнаты.
Как всегда, когда Брэнуэлл уходит, наступает короткое молчание, словно на странице ума пропускается место для мыслей, которых не говорят вслух.
– Прочитай еще раз, – просит Энн.
– «Издательство “Айлотт и Джонс” Патерностер-Роу, Лондон. Джентльмены! С вашего позволения прошу сообщить, возьмете ли вы на себя задачу опубликовать сборник коротких стихотворений в одном томе форматом в восьмую долю листа. Авторы надеются, что вы сочтете целесообразным публиковать за свой счет, однако…»
– Я не уверена насчет «авторы надеются», звучит капельку витиевато, – говорит Энн.
– Тогда, быть может, прямой вопрос: «Если вы возражаете против того, чтобы публиковать сборник за свой счет, не согласитесь ли взять на себя эту задачу за счет авторов?»
– Да. Смотря, сколько это будет стоить, – говорит Энн, кривясь. – Нет, не пиши этого, конечно. Да, думаю, так лучше.
Эмили рисует ворону в верхнем углу листа и ничего не говорит.
– Ты начинаешь сомневаться. – Шарлотта входит в маленькую холодную спальню, где Эмили сидит у окна, прижав руку к стеклу, не закрытому ставнями, и нащупывает удары январского ветра.
– Начинаю, перестаю – какая разница?
– Разница есть, если ты собираешься пойти на попятную.
– Ты бы мне не позволила.
– Это уже интересно. Когда мне хоть раз удалось заставить тебя сделать то, чего тебе действительно не хотелось?
– А ты не помнишь? – Эмили невесело подмигнула сестре. – Нет, теперь я не пойду на попятную. Просто письмо заставило меня осознать, что происходит. Представляем себя на рассмотрение миру, покоряемся ему.
– Необязательно. Все может случиться наоборот. Прямо как ты мне говорила, Эмили: эта комната, то, что мы здесь делали, было нашим спасением. И теперь может снова им стать.
– О, мы покорим мир книжкой с рифмами?
– Это начало. Авторы не останавливаются, они продолжают писать. Опять же, как мы делали здесь с Ангрией и Гондалом.
– Не нужно меня умасливать.
«Нет, нужно, – думает Шарлотта. – И я не против. Я на все готова ради этого».
– Брэнуэлл никогда раньше не был таким нелепым, правда? – вдруг говорит Эмили. – Просто я посмотрела на него сегодня вечером, и в голове мелькнуло: «Если бы я тебя не знала, решила бы, что ты дурак». Эта чушь про выпуск романа. Как будто и правда может что-то получиться.
– Думаю, так к этому подходят некоторые люди.
– Но мы никогда такими не были, верно? Не писали, чтобы нравиться.
Шарлотта внутренне сжимается: жестокие слова на миг пронзают ее и становится больно.
– Значит, ты не хочешь, чтобы твои сочинения радовали людей? А чего ты хочешь?
Эмили обращает на сестру свой старый, добрый, прислушивающийся взгляд, потом заходится смехом, будто чей-то голос развеселил ее шуткой:
– Сжечь их.
Шарлотта уверенно продолжает все устраивать, так уверенно, как если бы знала, что делает. Все происходит на этом далеком экзотическом острове, в Лондоне. Нужно только подхватывать: как вести переписку, как упаковывать и пересылать рукописи, как отдавать свои деньги. Да, «Айлотт и Джонс», аристократичные издатели работ в основном религиозного характера, возьмутся за их книгу, но лишь при условии, что им возместят расходы по публикации. Итак, вот они, из тетушкиного наследства: тридцать драгоценных гиней за нечто еще более драгоценное – публикацию сборника «Стихотворения Каррера, Эллиса и Эктона Беллов».
Полная анонимность была бы просто абсурдной: у них должны быть какие-то имена, и Шарлотте нравится идея сохранить настоящие инициалы. Белл – фамилия позаимствована у папиного викария, мистера Артура Белла Николса, и они уверены, что тот не станет возражать. (Трудно представить, чтобы Николс вообще серьезно возражал против чего-нибудь: он долго и утомительно бродит по своим делам, насупив черные брови, поджав губы. Когда же викарий, мокрый от дождя, заходит в дом, почти ожидаешь, что он встряхнется, как невозмутимый пес.) Что до имен…
– Возможно, я могла бы быть Чарльзом. Как бы ты чувствовала себя в роли Эдварда, Эмили?
– Нелепо. Лучше Эбенизер. Лучше вообще не быть мужчиной.
– Но если мы воспользуемся женскими именами, к нам отнесутся по-другому, – говорит Энн. – К нам отнесутся не как к писателям, но как к женщинам – или даже как к леди, что еще хуже.
Она вздрагивает.
– Кто отнесется? – усмехается Эмили.
– Читатели. Критики, – говорит Шарлотта как бы невзначай, чтобы загасить в себе волну воодушевления. Ибо это, как ни безумно, происходит по-настоящему. Они не вырезают и не сшивают крохотные книжечки и не пишут обзоров в собственных же крохотных, прошитых вручную журналах. На этот раз мир присоединился к их игре. Это как играть в карты с великаном. И делать крупные ставки.
Итак, они выдумали неопределенные имена: Каррер, Эллис, Эктон. Сестрам нравится их звучание, как если бы – что в каком-то смысле и происходит на самом деле – они выбирали имена для персонажей книги. Предмет, который начинает занимать их, когда стихотворения уже переданы в печать и они втроем сидят вокруг освещенного лампой стола, нуждаясь в новых заклинаниях.
– Брэнуэлл в чем-то прав. Самая большая читательская аудитория у романов, – говорит Шарлотта.
– Но ошибается во всем остальном, – возражает Эмили. – Нельзя написать роман, просто механически измарав нужное количество страниц. Так не бывает. Этому нужно отдавать все, что отдаешь поэзии. Даже больше. Придется научиться стоять за пределами этого.
– Но ведь мы привыкли писать длинные рассказы. Господи, разве мы когда-нибудь занимались чем-то другим?
Шарлотту пронзает чувство, которое является не совсем ностальгией: в нем есть шип ужаса.
– Но то были рассказы, которым свойственно продолжаться бесконечно, – говорит Энн. – Повести Гондала и Ангрии, когда одна перетекает в другую. Вот что в них так разочаровывает. – Она замечает на себе взгляд Эмили. – Прости, Эмили.
– Зачем? – Эмили суха и лаконична. – Зачем просить прощения за то, что чувствуешь?
– Не знаю. Но я часто сожалею о своих чувствах, – тихо произносит Энн. – Я на самом деле все еще люблю Гондал, но… в общем, я начала писать историю в прозе, и это совсем другое. Это было после того, как Брэнуэлл… вернулся. Я почувствовала, что мне нужно писать, но почему-то не в темноте. При свете дня. Я не уверена в ней. Она очень незамысловатая, никуда не переносит читателя, так что не знаю, придется ли она по вкусу…
– Энн, прекрати извиняться, – говорит Эмили с насмешливой суровостью (хотя у Эмили насмешка не так уж далека от истины), – и прочти ее нам.
Как это ни безумно, но все происходит по-настоящему: пробный оттиск сборника «Стихотворения Каррера, Эллиса и Эктона Беллов» прибыл с далекого острова, немало выстрадавший в дороге, ибо выглядит так, словно кто-то до половины разорвал посылку, но чистый, изящный и, ах, такой волнующий. Печать действительно все меняет. Это твои слова, выставленные напоказ. Как будто кто-то очень влиятельный и важный прислушался к твоим тайным бормотаниям, а потом пошел и во всеуслышание объявил их собранию таких же влиятельных и важных – и все они повернулись к тебе, точно спрашивая, что именно ты хотел этим сказать… «Если я чувствую это, – думает Шарлотта, – что же тогда должна чувствовать Эмили?»
Однако Эмили кажется слегка раззадоренной и оживившейся.
– Это как гулять по болотам, когда опускается туман. Цель одна – попробовать добраться до дому живой.
Какое-то время идея романов тяжело нависает над ними. Это в чем-то похоже на присутствие в доме Брэнуэлла, пьяного и шумного или зловеще тихого: игнорировать нельзя, но обратить внимание – значит увязнуть в трясине беспомощного крушения надежд.
Повесть Энн о гувернантке и о том, как она выживает. Она настоящая, прочная и слегка саркастичная, и Шарлотта восхищается, думая: «Я на такое не способна». Эмили кажется заблудившейся в зарослях коротких заметок. Иногда весь проект представляется им разукрашенным безрассудством, прогнившим у самого основания.
– Это совсем не похоже на стихи. Это танцы под дудочку публики, – говорит Эмили. – Мне это ненавистно.
– Но ведь сборник стихов публичен, – возражает Шарлотта. – Мы опубликовали его – или, точнее, братья Беллы опубликовали. По логике вещей это просто следующий шаг.
– Я не хочу ублажать публику. Оттого я и не прихожу ни к чему. Перед глазами все время какая-нибудь жеманная барышня, которая сидит на диване, листает страницы и приговаривает: «Ай-ай-ай».
– Тогда заставь ее сказать что-нибудь другое, – подталкивает Шарлотта. – Заставь ее хлопать глазами. Заставь почувствовать себя неуютно.
– Все дело в том, что я вообще не хочу иметь с ней ничего общего. – Эмили прорезает страницу убийственным вычеркиванием. – Прогуляюсь. Мне нужно выйти из себя. – Она свистит Сторожу, треплет его по лохматой голове. – Да, это то, что мне нужно.
Энн, просматривая работу Шарлотты, замечает:
– Ты много написала.
– Лучшее, что можно об этом сказать?
– О, нет. – Энн выглядит шокированной. – Это очень сильно. Только…
– Давай-давай, выкладывай, – говорит Шарлотта, беззаботнее, чем чувствует себя на самом деле.
– В общем, когда я читаю, то чувствую, что мы можем попасть куда угодно. А не в какое-то определенное место.
– Хочешь сказать, я застряла в Ангрии?
Энн мешкает с ответом.
– Когда я беру перо, то говорю себе, – осторожно начинает она, – что на это нельзя полагаться. Это как норовистая лошадь, которая может занести бог знает куда. Поэтому нужно крепко держать ее в узде.
Шарлотта снова думает: «Я на такое не способна». Эта мысль приводит ее в ярость. В тот вечер Шарлотта способна писать только мятежную цепочку ругательств, чтобы потом порвать бумагу. Необычный жест: бумага дорогая и, более того, драгоценная. Однако на следующий день она, как ни странно, чувствует себя лучше, чище. А вечером, когда Эмили начинает читать вслух свою работу, а затем, разозлившись, замолкает, качает головой и прячет бумаги в шкатулку, Шарлотта ловит себя на том, что говорит, отталкиваясь от этой чистоты, с чем-то, что – если бы речь шла не о ней самой – она назвала бы знанием дела.
– Беда в том, – твердо произносит она, глядя на Эмили и Энн, завладевая их вниманием, – что мы делаем это, как будто это что-то такое, что мы должны делать. Задание или повинность. А не то, что нам хочется делать. – На миг, всего на один позволительный миг, Шарлотте привиделся месье Хегер, который стоит у ее плеча. – Но это исходит не из внешнего мира, как обязанность быть гувернанткой, или необходимость открывать школу, или быть теми, кем общество диктует нам быть. Это исходит от нас самих. Прежде, когда мы писали, это всегда делалось в противовес миру и несмотря на него. Это было нашим краем. Это было нашим вызовом. И этого нам нельзя терять.
Спустя миг Эмили качает головой.
– Я пытаюсь. Возможно, чересчур усердно. И наверное, в моих мыслях это предстает чем-то, что я должна делать. Что никогда не было мне по душе, как вы, смею сказать, знаете.
– Переверни это, – говорит Шарлотта. – Сделай это чем-то, что ты должна делать, – просто потому, что ты не можешь не делать этого. Ты ничего не можешь с собой поделать.
Стараясь изо всех сил, пререкаясь, замолкая, снова и снова кружа вокруг стола, они продвигаются сквозь череду освещенных лампой вечеров, исписывая, прочитывая и отбрасывая страницы. Ни к чему не приходя. Потом, подняв голову, вдруг обнаруживают, что пришли куда-то, – правда, место это незнакомое, тревожное.
Голоса в тишине ночи:
– Он пугает, Эмили. Не только своими действиями, которые ты показываешь, но тем, на что читатель сочтет его способным.
– Но разве не дурное обращение сделало его таким? – спрашивает Энн.
– Нет, Хитклиф[101] такой, какой он есть, – говорит Эмили. – Как ворона на дереве.
– Мне не нравится мысль, что кто-то может быть недосягаем для исправления.
– Дорогая Энн, я не прошу, чтобы тебе это нравилось. Только чтобы… ты этому покорилась. Но как насчет твоей Агнес и Тома Блумфилда? Разве может она его исправить? Есть ли хоть капля надежды?
– Она верит, что это возможно. Я… Она не смогла бы иначе…
Еще одно чтение.
– Нет, Эмили, это чересчур жутко, – заключает Шарлотта, сосредоточив взгляд уставших глаз на лампе. – Тереть ее маленькое запястье о край разбитого стекла.
– Мне от этого кошмары будут сниться, – говорит Энн.
Эмили выглядит слегка озадаченной.
– Это и есть кошмар.
– Но кровь, заливающая…
– Ах, Шарлотта, кровь – это всего лишь кровь. Ее проливают каждый день.
Еще одно.
– Энн, когда Том Блумфилд добирается до гнезда с птенцами, чтобы помучить их, это из жизни?
– Это все из жизни. – Энн опускает взгляд.
– Вот истинный ужас, – бормочет Эмили.
– Я сомневалась, включать ли этот эпизод. Не сочтут ли такую жестокость невероятной.
Эмили качает головой:
– Это единственное, во что всегда готовы поверить.
Еще одно обсуждение.
– Неужели между Эдвардом и Уильямом нет никакого взаимопонимания? – спрашивает Шарлотту Энн. – Мы опять возвращаемся к жестокости, но чтобы кто-то проявлял подобную жестокость по отношению к собственному брату…
– Возможно, они понимают друг друга слишком хорошо, – перебивает ее Шарлотта.
Где мы? Где-то. Далеко от Гондала и Ангрии, это уж точно, хотя что-то от их заколдованной атмосферы по-прежнему еле слышно звенит над этими пейзажами, классными комнатами, мельницами и каменными высями.
– Нет, никакого другого названия быть, конечно, не может, – заявляет Шарлотта. – Просто интересно, как поймут это слово южане[102].
– Пусть понимают как хотят, – говорит Эмили.
– По-моему, это очень хорошее слово, – вставляет Энн, – потому что оно точное. Никакое другое слово не заменит его полностью.
– Используй только одно слово для того, что хочешь выразить, ибо ничто другое не подойдет. Так говорил мой… так меня учили. – Голос Шарлотты невольно приглушается. Правильное слово. Правильно ли то, что они делают? Это должно быть правильным. Все зависит от того, правильно это или нет. Пиши, пиши.
Выбор и дорогой ввоз с далекого острова: книги здесь. С оберткой посылки опять что-то случилось перед тем, как она попала в руки к Шарлотте, но ничего страшного. Вот они, сброшюрованные томики «Стихотворений Каррера, Эллиса и Эктона Беллов».
Странно: поздравить друг друга могут только они сами. Нельзя рассказать Брэнуэллу, который удалился от них в какую-то очередную возвышенную канаву. Искушение рассказать папе, но это, конечно, только взбудоражит его ум, даже усугубит в нем осознание практически полной слепоты, захлопывающей перед ним мир печатного слова. В этом отношении теплится слабая надежда: двоюродная сестра Элен замужем за хирургом, который выразил мнение, что своевременная операция по удалению катаракты может быть успешной.
– Мы должны ждать, пока затвердеет катаракта, а также моя сила духа, – замечает папа с редкой насмешливой дрожью в голосе: теперь только черный юмор может ее вызывать. Беспомощно странный момент, когда папа, ощупью пробираясь по столовой, кладет руку, сам того не зная, на темно-зеленую ткань переплета их книги, а потом нащупывает свой следующий шаг.
У Шарлотты после радостного первоначального тепла – чувство нетерпения. Хорошо, а теперь обзоры, замечания. Не обращая внимания на удрученный взгляд Эмили – посылать миру нищенские письма: ах, смотрите на меня, восхищайтесь мной, любите меня, – Шарлотта пропадает в библиотеке Китли, постоянно навещает мистера Гринвуда, продавца канцелярских товаров, который выписывает всякого рода периодику. Наверное, стоило потратить еще немного денег, обеспечить какую-нибудь рекламу…
– Нашли то, что искали, мисс Бронте? – спрашивает мистер Гринвуд, слегка пронырливый, но дружелюбный и преданный семье, которая поглощает бумагу и поддерживает его прибыли.
– Нет. Боже мой, нет, – говорит Шарлотта, откладывая «Йоркшир газетт» и спеша прочь.
Она находит Эмили и Энн в кухне: Тэбби тоже с ними, но теперь она настолько глуха, что в ее присутствии можно говорить о чем угодно.
– Мистер Робинсон мертв. Я видела некролог в газете: долго болел и умер на прошлой неделе.
– Господь да упокоит его душу, – говорит Энн. – Он много страдал.
Эмили тихо присвистывает.
– Ну, теперь мы что-то увидим.
– Но что нам делать? – восклицает Шарлотта. – Сообщить Брэнуэллу?
– Если бы ты находилась в его ситуации, то ожидала бы, что тебе сообщат? – спрашивает Эмили.
– Не знаю, – отвечает Шарлотта и мысленно представляет, как по другую сторону сетки нетерпеливо ерзает отец-исповедник. – Я не могу объективно оценить его ситуацию. Где он вообще?
– Кажется, поехал в Галифакс. – Энн пожимает плечами.
– Зачем?
– О, он по-прежнему пользуется успехом в местных публичных домах, – вздыхая, произносит Энн.
Заметно, что даже мягкосердечная Энн говорит теперь о Брэнуэлле безжизненным, отвлеченным тоном. Точно так же, когда умер их любимый кот Тигр и они похоронили его в саду: поначалу место погребения было связано с тихой печалью, но со временем они уже просто ходили по нему, ни о чем не задумываясь.
– Он обязательно как-нибудь узнает, – говорит Эмили, наклоняясь, чтобы вычистить духовку. – И тогда мы все это увидим.
Вернувшийся из Галифакса Брэнуэлл буквально вламывается в дом. С развевающимися фалдами и прилипшими к запотевшему лбу мокрыми волосами, которые он беспрестанно пытается убрать, Брэнуэлл похож на рваную рану, особенно страшную в мягких летних сумерках, дремлющих под звуки пчелиных песен.
– Письма, где мои письма? Марта, эй, Марта… – Он чуть не сбивает с ног маленькую Марту Браун, шедшую куда-то через прихожую. – Что ты сегодня сделала с почтой? Куда ты дела мои письма?
– Почту принимала я, Брэнуэлл, – говорит Шарлотта. – Для тебя сегодня ничего не было. Заходи, заходи же в столовую. Чай еще не остыл.
Он хватает ее за плечи.
– Клянешься в этом? Клянешься, что это правда, Шарлотта?
– Ну, я так думаю. Могу заглянуть в чайник, чтобы убедиться.
Спустя миг оторопелого вглядывания он расслабляется или, скорее, становится еще более напряженным во вспышке дикого смеха.
– Ах, Шарлотта, если бы ты только могла понять, что я чувствую. – Он принимается снова и снова рыскать вокруг стола, точно совершая неосознанную пародию на ночные прогулки сестер. – Вы все. Сказать вам, что случилось? Новость дошла до меня сегодня в Галифаксе. Его нет. Ее мужа больше нет. Разве это не самая?.. Боже мой, неужели вы не способны понять. Нет, вы никогда не поймете.
– Мы слышали, – говорит Энн, – о мистере Робинсоне. Очень печально для семьи.
– Какой семьи? – Смех Брэнуэлла становится все громче и громче, так что начинаешь ловить себя на том, что морщишься при каждом новом раскате. – Простите, простите, просто нет слов, набора фраз, ничего уместного, что можно было бы сказать по этому случаю.
Он переводит дух, упершись руками в колени. Со временем привыкаешь классифицировать запах выпивки: этот относится к затхлому сорту «скоро-захочет-еще».
– Брэнуэлл, ты ел? – спрашивает Шарлотта. – Я попросила Тэбби оставить холодной говядины. Будет очень вкусно с хлебом и маслом, но ты, должно быть, голоден…
– Еда, я расскажу вам о еде, дорогие мои сестры, потому что тут есть секрет и заключается он в следующем: это не жизненно важная потребность. Мы так думаем, потому что так нам говорят, но нет. Настоящие жизненно важные потребности, вещи, без которых мы не можем обойтись, если хотим жить и оставаться людьми, они здесь – и здесь. – Он прикасается к голове и груди, ангельски улыбаясь.
– Но если не будешь есть, то умрешь, – замечает Эмили.
– Ах, отвлеченности, заблуждения, иллюзии. Послушайте. Знаю, я не должен этого говорить, но придет время, и вы все будете уютно устроены. Я позабочусь об этом. Придет конец работе гувернантками и скупости. И папа…
– О чем ты говоришь, Брэнуэлл? – Папа стоит в дверях. – Надеюсь, это не возврат к старой теме? Я в как можно более ясных выражениях говорил тебе, что ее не должно обсуждать.
– Нет, папа, это новая тема, а может, старая, но вверх дном. Потому что прошлое кануло в лету… – Брэнуэлл разводит руками, и на миг кажется, что он сейчас обнимет отца. – Мистер Робинсон мертв.
– Мне жаль это слышать, – сухо произносит папа, мгновенно ставший холодным и разгневанным, – и тем более жаль, что вы, сударь, ликуете по этому поводу. Неужели вам сделались совершенно чуждыми чувства стыда и приличия? Злорадствовать по поводу смерти человека…
– Он освободился от мук, папа, и, в первую очередь, она тоже освободилась. Вот все, что занимает мой ум, все, что я праздную. Мне жаль его, да, и, Боже мой, мне жаль ее, когда я представляю, что ей приходится чувствовать. В ее привязанностях столько теплоты, а в сознании столько чуткости, что это, должно быть, разрывает ее на куски. Чувство вины, печаль и облегчение – все перемешалось. – Брэнуэлл наполовину смеется, наполовину всхлипывает. – Что ж, если кто-нибудь и может приблизиться к пониманию этого, так это я, ибо я испытываю то же самое. Поистине, ей вряд ли необходимо было писать мне, теперь я вижу это. Просто сердце эхом отзывается на стук второго сердца…
– Прекрати. Прекрати это, Брэнуэлл, это уже последняя капля, – отрезает папа. – Это недостойно мужчины.
Брэнуэлл только тихо, томно, по-доброму смеется.
– Ах, папа, я не могу тебе сказать, что ты ошибаешься, я слишком сильно тебя уважаю. Могу лишь заметить, что скоро – скоро! – ты увидишь и будешь созерцать мужчину и джентльмена, которым я должен был быть все это время.