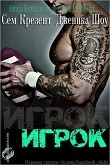Текст книги "Тень скорби"
Автор книги: Джуд Морган
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Быть может, это неудачное стечение обстоятельств. После долгого заточения из-за проклятой непогоды пансионерам Ло-Хилла наконец-то разрешено выходить за пределы двора в сопровождении Эмили. И вот на плече склона ясно, как на зеленой сцене, они видят ястреба, который пожирает только что убитого голубя. Повсюду перья и кровь, и каждый раз, когда ястреб вонзает клюв в тело голубя, слышится тихий мелодичный писк.
– Нет, нет, он не живой, – уверяет Эмили в ответ на причитания девочек. – Такой же звук можно услышать, когда ощипываешь курицу. Просто…
– Ах, мисс Бронте, это мерзко, отгоните его!
– Уже ничего нельзя изменить. Голубь мертв, и ястреб просто получает еду. На месте ястреба вы бы сделали то же самое.
Одна из учениц награждает Эмили оскорбленным взглядом исподлобья.
– Я бы никогда ничего подобного не сделала. Это отвратительно. Я расскажу мисс Пачетт, что вы так говорили.
– Расскажи. Когда будем есть пирог с курятиной и ветчиной, – отвечает Эмили.
Но другая, тихая девочка, которая, похоже, привязалась к Эмили и капельку напоминает Энн, неуверенно продевает мягкую ниточку своей руки в игольное ушко руки Эмили и осмеливается спросить:
– На месте ястреба нам пришлось бы так делать, верно?
– Да, потому что такой была бы наша природа.
– Так кем лучше быть: ястребом или голубем?
– Очень хороший вопрос, – говорит Эмили, – но ты сама должна на него ответить.
Эмили решает остановиться на этом и не рассказывать, что она знает о ястребе, распластавшемся посреди кровавых перьев: это не просто слепая природа. Он упивается этим.
На следующий день, подкупив мисс Хартли предложением на неделю взять на себя надзор за отходом учениц ко сну, Эмили выкраивает взлелеянное в мечтах время, чтобы отправиться на прогулку одной. Взбираясь на высокие холмы, чувствуя под ногами движущуюся, вертящуюся землю – можно одновременно ощутить ее безграничную неторопливость и немыслимую скорость, – Эмили забывает о Ло-Хилле в буквальном смысле: требуются усилия, чтобы вспомнить его название или как он выглядит. Девушка также не замечает ни холода, ни усталости, чувствуя одно только желание: подниматься выше по этим холмам, мягко побуждающим к тому, чтобы она превзошла саму себя.
Впервые разглядев какой-то дом, она поначалу испытывает нечто вроде оскорбления: даже здесь, на этих чистых высотах, вторжение. Но потом смягчается. В этом старом обветшалом особняке нет никакого бахвальства. Скорее кажется, будто он врастает в землю, как дерево, и приобретает характерный оттенок вересковых болот, в котором больше не открытого неба, а серовато-коричневых тонов и теней. Даже мох, орляк и дерн имеют какой-то подавленный, замкнутый вид, как у растительности, которая выживает в пещерах. Снег, лежащий на подветренной стороне стен и коньке крыши, конечно же, никогда не падает; он просто часть этого места, точно так же, как торф или камни. Никаких признаков жизни, хотя он не безжизнен.
Потом ужасный спуск и понимание того, что все должно вернуться: этот мир, эта школа, этот разговор (попытайся отгородиться от него и услышать, как ветер проносится сквозь ветки боярышника; напевай этот звук как мелодию), эти люди, что маячат перед глазами, словно куклы, которых сует тебе под нос заигравшийся ребенок. Но чтобы смягчить его, брось прощальный взгляд на далекие выси с их белыми полосками снега, сравни с этим мощеным двором, заснеженным на прошлой неделе, а теперь черным и сырым от талой воды. Другими словами, там, наверху, все еще прошлая неделя. Другими словами, время ничего не значит – или, наверное, его значение очень отличается от того, что предполагалось. Вот и открытие, как физическая способность, о которой не подозревали… Что? Мисс Пачетт зовет ее с верхней площадки лестницы, в ужасе указывая на что-то. Ах, ее юбки. Покрыты коркой грязи. Ну и что из этого?
– Шесть дюймов[40]! – восклицает мисс Пачетт. – Добрых шесть дюймов!
Как это зачастую бывает, трудно понять, что говорить в ответ, поэтому Эмили ищет прибежища в фактах.
– Больше похоже на восемь, – произносит она, внимательно изучив подол перед тем, как начать подниматься по лестнице.
Чаепитие не удалось. То есть мисс Бронте, приглашенная к редкому застолью в гостиной мисс Пачетт, выпила чашку чая, но на этом, пожалуй, и все. За исключением одного-единственного замечания по поводу того, что на холмах уже почти нет снега. Она сказала это перед тем, как служанке велели занавесить окна, и провела большую часть времени, поглядывая на дверь.
Мисс Пачетт собирается с силами.
– Мисс Бронте, могу я спросить вас откровенно? Вы… вы довольны своей должностью?
– Да, сударыня, – отвечает Эмили. Быть может, это будет значить, что ей уже можно идти.
И, по правде говоря, сегодня она очень довольна. Этим утром образ Августы Альмеды, отправляющейся в ссылку, растопился на две строчки совершенных стихов – нет, не совершенных, но лучших, близких к идеалу как никогда раньше. Она носила их с собой весь день. Поистине, она буквально жила ими. Вот почему она не притронулась к обеду: не нуждалась в нем.
Брэнуэлл, как это часто бывает, на выходных дома, но в пасторском жилище его трудно застать. Не посещает он и заседания хоуортской масонской ложи, что замечает его друг, могильщик Джон Браун. Наконец Браун находит Брэнуэлла в церкви, где тот угрюмо играет на органе. Черт его знает, где он этого набрался. Браун помнит, как парнишка начинал учиться игре на флейте, – и тут вдруг он уже умеет это. Слегка театральное, но очень компетентное исполнение. Джон узнает отрывок из наследия меланхоличного Генделя, тактично прокашливается, приближается.
– Слышал, как ты вошел, старина, – говорит Брэнуэлл, не отрывая глаз от клавиш. – Уши, как у ищейки, знаешь ли.
– А еще лицо, да и все остальное, я бы сказал, в данный момент, – замечает Браун. – Что тебя гложет? Она хорошенькая? Она того стоит? Или ты еще не добрался до сути дела?
Брэнуэлл коротко смеется, заглушает последний перегруженный аккорд.
– Это было бы не так плохо. В конце концов, от этого есть лекарство, – говорит он, погружая пальцы в жилет. – Но это… это совсем другое дело.
Он крутит пенни подобно фокуснику, заставляя монетку то исчезать, то снова появляться в его пальцах. Черт его знает, где он и этого набрался.
– Если тебе не хватает, могу выделить немного. Но только на самом деле немного.
– Что? Только не говори, что твои дела пошли плохо, Джон. Никогда бы не подумал, что умирать станет не модно. Пойдем отсюда. Я слишком ясно слышу крысиную возню.
– Я думал, ты неплохо устроился в Бредфорде. Твой отец…
– Он, несомненно, так говорил. Отчасти потому, что так говорю ему я, а отчасти потому, что… что я его сын, а значит, мои дела обязаны идти хорошо, ничто другое немыслимо. Вот так и живем. – Брэнуэлл бросается на семейную скамью и после минутного погружения в тяжелые мысли задирает ноги. – Вернулся домой из дома. Не сосчитать, сколько раз я мальчишкой ковырялся в носу и вытирал пальцы под этим сиденьем. Вероятно, эта деревяшка на соплях и держится. Проблема в том, Джон, что мои дела идут недостаточно хорошо. Я кое-что подсчитал, что на меня не похоже, знаю, и… в общем, у меня за плечами шесть месяцев заработков и шесть месяцев долгов, и одни наверняка больше, чем другие, так что в моем случае это не то, что надо… Но теперь, может, поговорим о чем-нибудь другом? Это быстро становится утомительным, как проповедь… – Ничем не прикрытый, как свойственно рыжеволосым людям, взгляд Брэнуэлла озлобленно вспыхивает в направлении кафедры.
Браун садится напротив и вынимает из кармана флягу.
– Что это?
– Капля виски, а ты что думал? Пахта[41]? Давай, давай, это поможет.
Брэнуэлл протягивает руку, замирает в нерешительности.
– Здесь?
– Но ведь твоего отца здесь нет, верно? А теперь скажи мне правду, потому что я сам не знаю. Все восхищаются моим портретом, который ты нарисовал, и я тоже…
– Еще бы, – говорит Брэнуэлл резко: он несчастен. – Потому что ты веришь в меня и потому что… – Он не заканчивает своей мысли. – Послушай, вокруг множество парней, которые делают то же, что и я. Рисуют лица. Некоторые прошли Королевскую академию искусств. Бредфорд, Галифакс, Лидс. Если нужен портрет, далеко ходить не придется. Можно даже получить хороший, если знать места.
Последнее замечание подобно разбрасыванию битого стекла перед собеседником: давай, пройди через него, если сможешь. Браун предпочитает его игнорировать.
– Что ж, если, как ты говоришь, счета не сходятся, не будет ли единственно разумным пересмотреть планы на будущее? Если так пройдет еще шесть месяцев? Не будет ли подобное упорство всего лишь выбрасыванием денег на ветер?
Брэнуэлл отпивает из фляги.
– Боже мой, не могу представить еще одно такое полугодие.
– Значит, так тому и быть. Ты попытался, но не сложилось. Осталось сказать об этом отцу. Думаю, чем раньше, тем лучше. Он ведь не будет на тебя сердиться, не правда ли?
– Ем? Ах, нет. – Брэнуэлл делает еще один глоток. – Он никогда на меня не сердится. Возможно, проблема отчасти именно в этом. Вместо злости на тебя обрушивается громадная величественная скорбь, под гнетом которой чувствуешь себя ничтожнейшим червячком. В то же время понимаешь, что эта внушающая благоговейный трепет сущность любит тебя, а ты недостоин… Ха! Где же я слышал это раньше? – Он делает непристойный жест в сторону кафедры. – Забавно. Можно обходиться без Бога, но без отцов обходиться не получается.
– Притормозил бы, – говорит Браун, когда Брэнуэлл собирается сделать очередной глоток; но отчасти это продиктовано собственным дискомфортом. Джон и сам падок на сквернословие, однако богохульные речи Брэнуэлла слегка его тревожат. – Так что там с долгами? Сможешь их погасить? Если понадобится, то я выделю немного.
Брэнуэлл выглядит не просто тронутым, но прямо-таки пораженным.
– В этом нет нужды, старина, – хрипло отвечает он, – но да благословит тебя за это Господь.
«Который? – думает Браун. – Тот, в которого ты не веришь?» Но вслух не говорит: будучи старше Брэнуэлла, Браун, тем не менее, избегает отеческого тона в общении с ним. Любопытно: ему нравится Брэнуэлл, хотя большую часть из того, что говорит молодой человек, понять невозможно. И потом семья… У Брауна всегда в запасе резкое словечко для тех, кто неуважительно отзывается о «старой Ирландии на холмах пастората». Но с другой стороны, если копнуть глубже, как это делает могильщик, и разобраться, о чем он думает на самом деле, обнаружится вот что: впавшему в старческое слабоумие заботливому папаше уже давно надо было настроить парня на какую-нибудь нормальную профессию и заставить за нее держаться, а на сэкономленные деньги прокатиться в Харрогит или Йорк, чтобы купить дочерям новых платьев и поискать им мужей. Стук сэра Роджера в парадную дверь – вот что им нужно[42]. Только взгляните на них.
– Не могу поверить. Должно быть, это сон. Я все щипаю себя, но ведь это щипание тоже может оказаться сновидением, не так ли? Нет, этого не может быть на самом деле.
– Ах, перестань. Поднял такой шум, будто я выхожу замуж за архиепископа Кентерберийского.
– Или, скажем прямо, вообще за кого-нибудь выходишь.
Несколько мгновений Шарлотта следит за туфлями брата, пока тот меряет шагами гостиную.
– Или вообще за кого-нибудь выхожу, говоришь.
– Не знаю, что думать. Основы мироздания сдвинулись. Завершилась эра.
– Я не пробыла там так долго.
– Нет… просто сама мысль, что ты не делаешь того, что следует. Шарлотта – вечная раба долга.
Немного помолчав, она говорит:
– Да, в том-то и заключается рабство: в отсутствии выбора.
Туфли останавливаются.
– Ты со вкусом завуалировала упрек, – замечает Брэнуэлл.
– Нет, вовсе нет, он был абсолютно нагим.
– Какой слог! Теперь я вижу, почему ты считаешь себя непригодной для шлифовки детского разума.
– Не непригодной, а нерасположенной. О, я знаю, мне все равно придется это делать, но Дьюсбери-Мура с меня хватит, и мисс Вулер это понимает. Я по-прежнему буду делать то, что следует, просто потому, что у меня нет выбора… Ах, послушай, я не хотела. То есть я не упрекаю тебя, Брэнуэлл. – Она говорит правду. Ну за что его упрекать? За то, что к двадцати двум годам он не сумел сколотить уютного состояния в помощь сестрам? «Нет, скорее, – думает она, – я тебе завидую. Я завидую значимости твоей ноши. Если я потерплю неудачу, это ни для кого не будет иметь особого значения, но твои неудачи будут яркими и весомыми. Ты сможешь указать на огромную рваную дыру в жизни и заявить: “Это сделал я”. Конечно, это самонадеянно…» – При условии, что ты не подшутил надо мной, сказав, будто скоро сам окончательно переберешься домой.
Он вздыхает, открывает крышку фортепьяно, нажимает пальцем на клавишу, кивает.
– Портретная живопись, студия – разве это не…
– Нет. – Он закрывает крышку фортепьяно с леденящей аккуратностью, и по ушам почему-то бьет больнее, чем если бы инструмент захлопнули в сердцах. – Возможно, пришла пора сменить тему. Эмили писала тебе на этой неделе?
Шарлотта деловито занимает себя открыванием шкатулки для письма, зная, что Брэнуэллу не хочется, чтобы она сейчас на него смотрела.
– Нет… Нет, из того, что она говорила в прошлом письме, боюсь, у нее просто нет времени. Три учительницы и такая большая школа – правда, не знаю, как она справляется в Ло-Хилле. Разве не заметил, какой она была на Рождество? Такая худая, неразговорчивая, почти ни слова не проронила…
– О, худоба и молчаливость – отличительные черты Эмили, – оживившись, замечает Брэнуэлл, обращая к сестре посвежевшее лицо.
Шарлотте оно не нравится.
– Это всего лишь игра слов.
– Конечно, но для чего же еще нужны слова? Шарлотта, – его голос внезапно становится жестче, – разве нет в тебе ни капли веры? О, я не имею в виду такую веру, хотя на этот счет у меня свои подозрения. Я говорю о вере в то, на что мы способны, кем мы можем стать. Зачем тогда тебе виделся дом у моря, кресла и все такое, если этому не суждено сбыться? Ты ведь видела его ясно, как день, – я помню, ты рассказывала нам об этом. А вещь, которая однажды существовала, не может, в силу своей природы, прекратить существование, ибо ничто в природе не может быть уничтожено. Позиция Шелли[43], а он был атеистом. Так что…
– Дом у моря существовал только как понятие, Брэнуэлл. Это разные вещи, и ты понимаешь, о чем я. И потом, в те времена мы были детьми.
– В этом нет ничего дурного.
Шарлотта вынимает перо и нож и принимается точить.
– Разве? Иногда мне кажется, что мы были слишком счастливы в детстве.
Брэнуэлл, оседлав табурет у фортепьяно, с вызовом взирает на сестру.
– Счастливы… Хм. Потеряли мать, а потом были Мария, Элизабет…
– Я говорю не про обстоятельства. Я говорю о том, что мы делали, несмотря на них. Или, быть может, из-за них, не знаю. Но большинство детей, безусловно, хотят поскорее расстаться с детством. Силятся от него освободиться. А нам все это нравилось. Это было чудесно, и, честно говоря, я бы вернулась в него завтра же, приняв все сопутствующие обстоятельства. И это само по себе не может быть правильным.
– Значит, ты бы предпочла, чтобы все было наоборот? Никакого нижнего мира? Никаких записей?
– Они необязательно идут рука об руку.
– Хм. Я подумал как раз об этом, когда читал твою новую историю. – Он указывает на шкатулку для письма. – Рассказ об Элизабет Гастингс. Весьма необычно…
– Я не показывала тебе этого.
– Нет. Я просто его прочел. А когда это нам требовалось разрешение? О, это настоящая история в самом полном и высоком смысле слова, ручаюсь, но… в общем, она всего-навсего обычная маленькая мисс, которую можно встретить на Хай-стрит в Китли. Совсем не похожа на обитательницу Ангрии.
– Знаю. Иначе я не вынесла бы написания.
– Забавно, не правда ли, – произносит вдруг Брэнуэлл, наблюдая за Шарлоттой, – что мы перестали ладить, как прежде?
Она не в силах скрыть шок.
– О чем ты говоришь?
– Ну, мы, разумеется, по-прежнему готовы умереть друг за друга. Но теперь появилась некая обратная тяга… Помнишь, как ты достигла возраста, когда нужно целовать тетушку? И в каком-то смысле, да-да, тебе хотелось этого, ведь это же тетушка и это правильно. Но едва губы касались щеки, все твое тело начинало рваться в другую сторону…
Вспоминая, Шарлотта печально улыбается.
– Вероятно, мы слишком хорошо друг друга понимаем.
– Знаешь, Шарлотта, мое сердце никогда не принадлежало портретной живописи, удушливо механической, если отдашь ей некоторое время. На самом деле мне повезло: я разглядел, что иду неверной дорогой прежде, чем зашел по ней слишком далеко. Я добьюсь успеха на другом пути. Вот увидишь. И прости за… за эту чушь насчет замужества. Зачем тебе вообще муж? Любой, кто не дотягивает до гомеровского героя, станет только лишней обузой.
Что же, неплохая попытка, нужно отдать ему должное. Кроме того, это помогает ей вдруг осознать, что если она когда-нибудь и выйдет замуж, то за такого человека, как Брэнуэлл; чтобы даже боль от ссор замыкалась на самой себе, а это не страшнее, чем прикусить собственный язык. В любом случае все это, напоминает себе Шарлотта, столь же отдаленно и фантастично, как Вердополис и Ангрия. Думать нужно только о настоящем.
Мисс Пачетт отослала Эмили домой.
Не с позором, ничего такого. В маленькой вежливой записке, которую она направила мистеру Бронте, не говорилось, что в услугах Эмили больше нет необходимости или что ее работа неудовлетворительна. Поистине, казалось, что мисс Пачетт хватается за какую-то приемлемую формулу. Здоровье Эмили – да, точно, так и есть. Эмили сделалась истощенной, бледной, худой как палка, но продолжала уверять, что хочет остаться.
Вероятно, решающим моментом для мисс Пачетт стала сцена, которую она увидела. Одна из старшеклассниц, собравшихся во дворе школы, заставила подруг корчиться от смеха, когда, растрепав волосы и принявшись подобно привидению скользить по булыжникам, замогильным голосом завыла: «Берегитесь, я мисс Бронте, призрак Ло-Хилла! Не говорите со мной, ибо я не могу ответить!» Этот момент, а может, следующий, когда она поймала себя на том, что прячет собственную улыбку.
Итак, она сказала мисс Бронте, что это необходимо для ее же блага. А мисс Бронте в ответ наградила мисс Пачетт своим особым взглядом, как будто она услышала ужасную ложь и теперь гадает, зачем все это. В своей вежливой записке мисс Пачетт сделала акцент на фразе, казавшейся по меньшей мере уместной отчасти. «Я не могу быть сторонним наблюдателем», – написала она и на том закончила.
Итак, все они оказались дома и без работы: таков груз беседы Патрика и мисс Брэнуэлл за чайным столиком, когда весна гонит ручьи, ворошит тиф и указывает длинным нравоучительным пальцем солнечного света на прохудившиеся места старой скатерти.
– Проблема трех девочек, – вздыхает Патрик. – Мальчики, иначе говоря мужчины, могут гораздо успешнее пройти свой жизненный путь. Я вовсе не возражаю против того, чтобы они оставались дома, мисс Брэнуэлл. Будь мои обстоятельства удобнее, таков был бы мой единственный выбор. Однако мой доход не становится больше, я не молодею, поэтому все это достаточно тревожно. Что касается Брэнуэлла, то я не боюсь за него. Его таланты должны обеспечить ему место в мире, и это случится рано или поздно. А Шарлотта настаивает на том, чтобы снова вернуться к работе учительницы, – она всегда послушна долгу. Но способность Эмили заниматься чем-либо за пределами дома, боюсь, гораздо более сомнительна. Дело вовсе не в лени или пристрастии к роскоши. Полагаю, она выполняет большую часть работы Тэбби; а на днях Эмили спрашивала меня о рационе простых людей в Ирландии и состоит ли тот, как она слышала, в основном из картофеля. Когда я дал положительный ответ, Эмили сказала, что это кажется ей восхитительно простым и экономичным способом жизни, который она готова принять в любое время. И я не усомнился в ней.
– В дни моей пензансской юности картофель редко появлялся на обеденном столе, мистер Бронте, боюсь, только время от времени, вместе с другими овощами; но в культурных домах его в то время не признавали.
Патрик кивает, признавая аристократичность мисс Брэнуэлл.
– Полагаю, Эмили имела в виду, что вполне готова к подобным жертвам, если не будет занимать какую-либо должность вне дома. Это, конечно, достойно уважения. И все же тут есть повод для беспокойства.
– И, кроме того, есть Энн.
– Да, да. Ах, боже мой, моя милая бедняжка Энн. – Патрик любовно качает головой. – Девочка по-прежнему говорит, что решительно настроена сделать это.
– Прошу прощения, мистер Бронте, но тут дело не в словах; Энн на самом деле решительно настроена, а потому нет сомнений, что она сделает это. Каким будет результат, это уже другой вопрос.
– Что ж, она еще может нас удивить, – говорит Патрик, но как-то невзначай, спеша уйти дальше от темы, как обычно убегают от неловкого комплимента.
Энн: когда доходишь до конца истории, можно верить в одно из двух – что ты ее грандиозная кульминация и итог или что ты последыш.
Энн, будучи внимательной слушательницей, часто слышала слово «самая» и «самый». Ах, она самая умная; она больше всех похожа на мать. И Энн никогда не сомневалась, какой самой была она. Самой младшей, самой тихой и ласковой, той, о которой заботились все остальные. И она с этим не спорила – таковы стороны ее сущности, несомненно. Но ей хотелось бы, чтобы остальные видели не только их, но и то, что за ними. Энн не могла не замечать, что, глядя на нее, даже столь независимые умом и чуждые условностям, члены ее семьи делают очевидные, ленивые выводы.
Даже Эмили, с которой они так близки.
– Нет, Эмили, я хочу работать гувернанткой. – Это не просто капризный писк самой младшей: я хочу повторить то, что делаешь ты. – Думаю, мне это подойдет. Правда.
– Я бы хотела, чтобы ты не чувствовала себя обязанной это делать, – помрачнев, отвечает Эмили, гордая за нее, но свирепая и трезвая, – и в этом нет ничего по-настоящему правильного.
– Но я не чувствую, что должна, – объясняет Энн. – Мне этого хочется. Это мой выбор.
И снова – она видит это по нежному покачиванию головы – ее слова воспринимаются как попытка сделать храбрый вид. Иногда Энн задумывается о сути этого понятия, как будто храбрость может быть только своего рода маской. Неужели вид не может быть по-настоящему храбрым? Да, вне всяких сомнений, она будет тосковать по дому, ужасно скучать по родным, чувствовать себя потерянной, брошенной на произвол судьбы и все прочее. Но. Находясь в пасторском жилище, она время от времени страдает от удушья; ей вдруг хочется распахнуть настежь двери, даже разбить окна и почувствовать, как воздух со свистом влетает в комнаты, минуя острые клыки стекла. И только иногда ей не хочется, чтобы длинная рука Эмили обвивалась вокруг шеи, удерживая ее на месте. Ей слишком сильно это нравится.
– Почему ты думаешь, что тебе это подойдет? – требует ответа Эмили.
– Ну… в первую очередь, я люблю детей.
Еще больше помрачнев, Эмили тем не менее почти улыбается.
– Ты никогда с ними не сталкивалась.
В мае Шарлотта отправляется работать гувернанткой в богатую семью в поместье Стоунгэпп, неподалеку от Скиптона, – или по крайней мере одна из Шарлотт отправляется. Ею оказывается настоящая Шарлотта; но некоторое, совсем недолгое, время существовала еще одна, потенциальная Шарлотта, и в дилижансе до Скиптона настоящая представляет совсем иное путешествие своей копии.
Что ж, начать с того, что она едет одна-одинешенька в общественном дилижансе, а потенциальной Шарлотте ни за что не пришлось бы терпеть такие неудобства. Еще до свадьбы ее окружили бы скрупулезной заботой, ни в коем случае не позволяя ей подвергаться унижениям и трудностям. Быть может, это больше связано с тем, что приличествует ее будущему статусу жены викария, а не с избытком нежности. И все же чихать на нее не будут. В дилижансе сквозит, подушки на сиденьях скрипят от старых противоблошиных присыпок.
И потом, куда она едет? Ей кое-что известно о новых работодателях, мистере и миссис Сиджвик, обеспеченных состояниями с обеих сторон, и о красивом доме, ими купленном; с другой стороны, это просто работа, безликая дыра, которую заполнят ею. Цель путешествия другой Шарлотты совсем иная. К ее приезду все должно быть готово – быть может, не совсем как в личном загородном доме, но с усердным вниманием к ее вкусам и запросам. И это не на крутых и резких высотах Скиптона, а в сочной долине Суффолка, счастливой земле мягкосердечного народа, покрытой удушающе мясистой зеленью.
– Мисс Бронте, не так ли?
На постоялом дворе в Скиптоне с тупым безразличием бормочет этот вопрос один наемный работник другому и швыряет ее сундук в ожидающую двуколку. Она, вполне естественно, не особо ему интересна. Но другую Шарлотту ожидают с нетерпением, обсуждают, ждут не дождутся, когда она прибудет в свой новый дом; какой она окажется? Ничего грандиозного не ожидает ту, другую Шарлотту, но и ничего пренебрежительного; она приобретет определенное влияние и важность в своей сфере.
Что до сундука, то в нем два простых платья настоящей Шарлотты, латаное и на скорую руку подшитое белье, несколько драгоценных книг; и всему этому суждено длиться неопределенное время. В отличие от другой Шарлотты, у которой есть не только свое приданое, но и право ожидать в обозримом будущем щедрой порции удобств.
Стоунгэпп проталкивается в поле зрения: громадное, подавляющее место, припирающее тебя к стенке неоспоримым фактом: другого не дано. Дом на вершине холма господствует над садами и террасами; он настолько большой, что в нем легко могут потеряться и десять гувернанток. Настоящая Шарлотта подается вперед в двуколке, пытаясь компенсировать угол подъема, и гадает. Гадает, каково ей там будет, и одновременно представляет, каково было бы другой Шарлотте, прибывающей в пасторское жилище Доннингтона, в графстве Суффолк, в качестве молодой жены преподобного Генри Нюссея.
– Чертовы твари, вечно гадят на подъездную аллею, – ворчит слуга, когда двуколка останавливается перед домом и лошадь производит шумное опорожнение на недавно взрыхленный гравий. – А мне отвечать. Хозяин с хозяйкой тотчас на меня набросятся. Вот досада. Долбаные шельмы. – Его тон одновременно весел и расслаблен: трудно определить, кто такие долбаные шельмы – лошади или хозяева.
С ней до сих пор письмо, которое он ей написал, – на самом деле оно как раз в том сундуке, что выносит из двуколки слуга. Зачем хранить его? Как напоминание, быть может, о том распутье, о другом человеке, которым она могла бы стать.
Экономка провожает Шарлотту в ее комнату, то и дело останавливаясь, чтобы хорошенько смерить ее сверлящим взглядом. Раскрытые вдоль коридора двери позволяют заглянуть в маленькие скромные спальни служанок. Комната Шарлотты больше, есть канапе у окна и хороший вид, но такая же узкая монашеская кровать. Гувернантка – ни рыба ни мясо, такая вот своеобразная социальная русалка. Она садится на свою скалу, жесткую кровать, ожидая приказаний от нанимателей.
Другая Шарлотта, конечно, спала бы на двуспальной кровати. В этом все дело? Нет, конечно нет; ей кажется, что нет, хотя воображение склонно пробежать по этому мосту, не глядя вниз. Безусловно, когда пришло письмо, ее реакцией было возмущение: «Господи, как отвратительно, как он мог возомнить, будто я соглашусь?» Скорее всего, она почувствовала огромное удивление, временно затмившее все остальные эмоции.
Причины, по которым я осмелился обратиться к Вам, мисс Бронте, немедленно прояснятся, когда я сообщу Вам, что теперь я сносно устроился в Доннингтоне, что дом, сад и так далее приведены в порядок в соответствии с моими вкусами и что после Пасхи я надеюсь приступить к делу, о котором говорил Вам, к набору учеников. Как раз на этой ступени жизни я чувствую, что обстоятельства и склонности наиболее убедительно указывают в сторону супружества…
Любопытно, что, когда она точила перо, окунала его в чернила и готовилась писать об отказе, в голове только и крутились причины, чтобы сказать «да». Обеспеченность: и никакой необходимости учить обидчивых девочек; и никакого чувства вины оттого, что являешься бременем для папы; и уверенность в том, что ослабнет давление на Брэнуэлла. «Потому не обвиняйте меня в ложных мотивах, когда скажу, что моим ответом на ваше предложение будет твердый отказ…» – писала Шарлотта, а причины колечками и розами застилали все вокруг: комфорт; жизнь с пользой; возможность частого общения с Элен; Генри – хороший, порядочный человек; да и, в конце концов, нашелся кто-то, кто хочет жениться на тебе, несмотря ни на что, несмотря на то, что говорит тебе зеркало. «…Что до меня, вы меня не знаете. Я не такая серьезная, степенная, хладнокровная особа, как вы думаете…» Но ты могла бы ею стать! – кричали причины с последним отчаянным воплем, когда письмо было дописано, запечатано, отослано.
– Миссис Сиджвик желает вас видеть.
Что до другой причины – причины, по которой Шарлотта отвергла Генри, – то она проста и неуловима, как аромат на ветру, мимолетный взгляд, слово.
Итак, прощайте, другая Шарлотта и ее возможное или невозможное существование. Но в то же время… входя в просторную гостиную Стоунгэппа, чтобы познакомиться со своей нанимательницей, она испытывает странное чувство, будто ее копия все-таки существует и скользит рядом с ней рука об руку. Потому что именно на нее устремлен взгляд миссис Сиджвик, когда, сидя на диване, хозяйка замечает, что приезд мисс Бронте ожидался уже добрый час назад, сокрушается о необходимости найти временную гувернантку и надеется, что мисс Бронте – мастерица простого шитья. Да, судя по тому, как смотрит на нее сейчас миссис Сиджвик, ясно, что та вообще не собирается ее видеть.
В Стоунгэппе царит атмосфера богатства, лишенная каких-либо страхов перед тем, чтобы выставлять его напоказ. Мистер Сиджвик приумножил свое фабричное состояние, рассудительно выбрав жену: шаги откормленного семейства тонули в турецких коврах, многочисленные позолоченные зеркала отражали их великолепные цветущие лица.
В Блейк-Холле, недалеко от Роу-Хеда, Энн входит в другой мир: старинный род, старые деньги, более тусклый стиль; шикарная гостиная, но вверху Энн не может не заметить старого, унылого и кривобокого, канделябра, как будто что-то вскарабкалось на потолок и повесилось там. Ингэмы ведут себя по отношению к ней с хорошо воспитанной вежливостью, когда замечают ее. Красивый мистер Ингэм предан лошади, собаке и ружью; хорошенькая миссис Ингэм отводит значительную часть времени одеванию.
Что касается детей, то Шарлотта, склонившись над шитьем, которое занимает ее свободное время, задается вопросом, кто из четырех маленьких Сиджвиков самый отвратительный. Двенадцатилетняя Маргарет: комбинация тяжеловесной тупости и жеманности леди («Мисс Бронте, разве никто никогда не исправлял вашей осанки?»). Десятилетний Уильям: хулиган, уже обладающий громким, жестким смехом, подходящим для анекдотов, что рассказывают в курительных комнатах. Семилетняя Матильда: чуть потише своих братьев и сестры, выгрызающая для себя нишу в качестве угодливой сплетницы и ябеды. Четырехлетний Джон Бенсон: жирная подделка под картину невинности. Мальчик открыл, что, если делать вид, будто ничего не знаешь, безнаказанность гарантирована. Нет, такой выбор сделать невозможно. Они отвратительны по отдельности и отвратительны en masse[44]. Конечно, это отвращение к детям обнаруживает в ней самой абсолютно неестественную женщину, но она и так это знает.