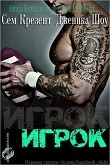Текст книги "Тень скорби"
Автор книги: Джуд Морган
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Брэнуэлл очень уверен в себе; и с той же сверкающей, неземной уверенностью он демонстрирует в течение следующих нескольких дней, что действительно может обходиться без еды, а также без сна. Только не без разговоров. Дом превращается в туго натянутую кожу барабана, на которой эмоции Брэнуэлла выбиваются как никогда усиленной дробью, пока от его надежд не глохнут уши, а от страхов не начинает болеть голова. Это должно привести к чему-то, из этого должно что-то получиться. Пока, наконец, не наступает день, когда в дверь стучат и на пороге оказывается чистильщик сапог из «Черного быка», которого глухая Тэбби заставляет дважды прокричать:
– В «Быке» остановился некто, кто хочет поговорить лично с мистером Брэнуэллом Бронте.
Брэнуэлл уже спешит вперед, отталкивает в сторону гонца.
Его долго нет. Непривычная тишина и спокойствие в доме почти режут слух, как будто внезапно иссяк водопад. Первый намек исходит от Марты, которая спускалась в поселок, чтобы купить соды и к которой слухи липнут, как колючки. Да, знатный дорожный экипаж, говорят, желтые колеса и красные филенки. Однако нет, не леди. Просто кто-то по имени Эллинсон или…
– Эллисон, – поправляет Энн. – Это кучер Робинсонов.
Перо ненадолго застывает в воздухе, Эмили спрашивает:
– Приехал забрать его?
– Конечно же, нет, – отвечает Шарлотта. – Мистера Робинсона едва успели похоронить. Нет, эта женщина не может быть такой…
– Нет, она бы не стала, – соглашается Энн. – Знаете, ничего не могу поделать с мыслью, что все это моя вина.
– Глупости, – с жаром произносит Эмили. – Ничего, ничего из этого абсолютно невозможно поставить тебе в вину, Энн, и любой подтвердит, что нелепо думать иначе.
– Но я об этом и говорю. Я не могу не думать. В этом смысле я недалеко ушла от Брэнуэлла.
Наконец еще один стук в дверь. Шарлотта спешит открыть. На этот раз на пороге стоит Джон Браун. Одной мускулистой рукой он поддерживает поникшего, залитого слезами Брэнуэлла.
– Хозяин «Черного быка» послал за мной. – Он смотрит на Шарлотту поверх растрепанной головы Брэнуэлла и кривится в гримасе. – Они не знали, что с ним делать. Валялся на полу в комнате для ужинов и скулил. – Подталкивая Брэнуэлла, Браун просит: – Ну же, старина, заходи в дом.
Брэнуэлл, шатаясь, идет вперед, добирается до лестницы и оседает на пол. Положив голову на руки, он начинает стенать.
Отворяется дверь папиного кабинета.
– Мистер Браун? Что происходит?
Из-за слепоты папа становится резче и раздраженнее.
– Привел мистера Брэнуэлла домой, сударь. Такая вот получилась прогулка. Он долго разговаривал при закрытых дверях с посланником из Торп-Грина, кажется, с кучером. Тот уже уехал. Не знаю, о чем там у них шла речь, но ясно, что… э-э, ясно, что о чем-то неприятном.
– Брэнуэлл? – Папа шаркает вперед, вглядывается в контуры лестницы. – Что случилось, сударь? Полно, будьте мужчиной, возьмите себя в руки, ответьте мне.
Но Брэнуэлл лишь тихонько стонет, словно обращаясь к самому себе:
– Погиб, погиб, погиб.
– Вы же знаете, в последнее время от него трудно добиться толку, – говорит Шарлотта. – А теперь… Кажется, это как-то связано с завещанием. Миссис Робинсон присылала кучера, чтобы тот рассказал ему об этом.
– Довольно странно, – медленно произносит Эмили. – Почему просто не написать письмо?
– О, находясь в этом ужасном состоянии вины и горя, она, наверное, не способна на что-либо подобное. Молится и рыдает, чуть ли не с ума сходит из-за этого. Не знаю. – Ее взгляд падает на Энн, которая стоит у окна спиной к сестрам. – Энн, это похоже на миссис Робинсон?
– Признаюсь, что нет, – говорит Энн спустя несколько секунд. – Хотя у нее бывают… моменты набожности.
Энн морщится, как и всегда, когда ее принуждают дурно отзываться о ком-то: словно ей не нравится вкус этого.
– В общем, Брэнуэлл говорит, что условия завещания мистера Робинсона делают невозможным их брак. Если вдова Робинсон выйдет замуж за Брэнуэлла, она потеряет право претендовать на имущество покойного супруга.
– Это не то же самое, что сделать брак невозможным, – возражает Эмили. – И, кроме того, разве так не всегда бывает, когда вдова выходит замуж во второй раз? Ей остается только собственное имущество, что в случае с миссис Робинсон, осмелюсь сказать, довольно прилично. Энн?
– Не думаю, что она может стать бедной, – неохотно отвечает Энн. – Но ведь она привыкла жить на очень широкую ногу… Все это очень печально.
– Думаешь, в завещании говорится конкретно о Брэнуэлле? – Взгляд Эмили пронзает насквозь. У нее чутье на неправду. – Или она выставляет это в таком свете?
– С какой целью? – Энн пожимает плечами.
– Чтобы не подпускать его к себе. Потому что он ей не нужен.
Энн медленно отходит от окна, встревоженная.
– В таком случае… это можно воспринимать как доброту. Наверняка ему будет не так… больно, если он будет думать, что их разделяют обстоятельства. Лучше, чем быть отвергнутым.
– Не так больно, – безжалостно повторяет Эмили, – но, к сожалению, более драматично.
Неотложно, жизненно важно теперь это разделение между днем и ночью, сушей и морем, жизнью и сочинением. Только сочинение делает жизнь выносимой.
Несчастье Брэнуэлла, заполнившее их дом на недели и месяцы вперед, по сути, не является недостатком или негативом. Оно определяет Брэнуэлла. Это все, что у него есть; и такое впечатление, что, потерпев неудачи в столь многих жизненных начинаниях, он решил довести его до полнейшего успеха. Низшее существо, более заурядный человек, мог бы иногда поддаваться смирению, тихим мимолетным радостям. Только не Брэнуэлл. Он педант и перфекционист[103] страдания.
Все в большей степени работа за столом при свете лампы, чтения вслух и задумчивые прогулки по кругу становятся – не разрядкой, нет, это никогда не играло подобной роли – вопросом самоутверждения, воли, даже веры. Они очень устают, потому что, скажем, папа с Брэнуэллом весь день ведут масштабную нравственную битву, в которой всем им приходится принимать мучительное участие. Например, прошлой ночью Брэнуэлл встретил предрассветные часы, шумно слоняясь по дому, тарабаня в двери и сообщая каждому в перерывах между веселым визгом, что он знает их маленькие грязные тайны. Но усталость подобна непослушной собаке, которую нужно посадить на привязь за воротами. Как только дело сделано, можно усаживаться поудобнее.
А значит, бери перо и пиши. Зажги лампу. Не обращай внимания на обстоятельства. Придавай форму и осознавай. Но не теряй огня. Это такой же трудоемкий процесс, как превращение пламени в прямую линию.
И наконец, – смеем ли мы? Да, мы должны – Шарлотта может с уверенностью сообщить господам Айлотту и Джонсу, что Каррер, Эллис и Эктон Беллы в скором времени предложат три повести, или романа, или художественных произведения в прозе. Ей не по душе прикреплять ярлык к тому, что возникает из этого ночного озера воли. Это, как сказала Эмили, то, что мы всегда делали. Создание мира. Мир Энн очень похож на этот, и по нему можно двигаться со знанием дела, хотя и несвободно: это край неумолимых последствий, где слабый должен уступать сильному, где ее героиня, гувернантка Агнес, должна из последних сил выживать в холодной тени денег и власти мужчин. Мир Эмили завораживает и тревожит: в нем можно прикоснуться к невнятной йоркширской речи, в нем дождь вересковых пустошей хлещет по разуму вместе с запахом поросшего мхом известняка, и в то же время ты не дома, ты мог бы быть почти в Гондале или Ангрии, только вот башни и особенно темницы – духовные. Временами, когда Эмили читает вслух низким, почти гортанным голосом, Шарлотте хочется бежать, но она не знает, почему или куда побежала бы.
Что до ее собственного написанного мира, то частично он здесь, но Брюссель там тоже есть, как и pensionnat[104] с умной и любящей манипулировать людьми владелицей. Она думает назвать его «Учитель», но уж очень тяжело сказать что-то о своей работе. Энн находит брюссельскую часть очаровательной; только иногда, читая вслух, Шарлотта замечает в глазах Эмили особый скептический огонек, как будто та слышит тщательно продуманную ложь. Чем, конечно, и является художественная литература.
Нельзя ожидать, что Айлотт и Джонс заинтересуются чем-то настолько нравственно противоречивым, как романы, и Шарлотта уже переписывает адреса других издателей. Бери перо, продолжай идти вперед. Тем не менее издатели скрупулезно пересылают горстку отзывов, которые получили «Стихотворения». Есть и слова одобрения, особенно по поводу стихов Эллиса Белла. (Продолжай двигаться вперед, не оглядывайся, обгоняй время.) О, они даже предоставили, по просьбе Шарлотты, квартальный отчет о продажах.
Продано два экземпляра сборника «Стихотворения Каррера, Эллиса и Эктона Белов».
Два.
(Пиши, пиши.)
4
Слепая рука
– Обычно в это время. То есть пациент часто именно в это время хочет провести некую духовную подготовку, – сказал хирург. – Но тут, конечно, я вторгаюсь на вашу территорию, мистер Бронте, а потому умолкаю.
– Я подготовлен, причем во всех отношениях, ко всему, что бы дальше ни произошло, – говорит папа. По-видимому, он действительно готов, ибо абсолютно комфортно чувствовал себя в ситуациях, в которых другие полезли бы на стенку.
Инструменты хирурга не были ни многочисленными, ни драматичными: их принесли в аккуратной, выстланной фетром коробке. «Чем-то похожа на шкатулку для письма, – подумала Шарлотта. – Ах, какие же они острые! Но я не должна падать в обморок, что бы ни пришлось увидеть или услышать».
Манчестер, место проведения глазной хирургии, казался сплошь закопченным, хаотичным и шумным. Проконсультировавшись у знаменитого мистера Уилсона, Шарлотта с отцом сняли жилье и условились с врачом о дне оперирования катаракты. И вот он наступил. В квартире все было тихо, упорядоченно, церемонно. Мистер Уилсон и два его хирурга-ассистента (они должны были держать пациента) проследовали в спальню со своего рода сиятельной степенностью: придворные Версаля, присутствующие при снятии королевского парика.
Шарлотта сидела очень прямо в маленькой душной гостиной, не в силах оторвать взгляд от завораживающего своей отвратительностью приготовления цветов воскового дерева под стеклом. Нанятая сиделка прекратила болтать и достала шитье. Мистер Уилсон позвал Шарлотту: папа хочет, чтобы она зашла к нему в комнату. Она остановилась в изножье кровати. Наступил момент, когда нужно вспомнить обо всем, что хотелось сказать и что осталось несказанным, но в голову ничего такого не приходило. Вместо этого Шарлотта думала о подсвечнике в комнате Брэнуэлла: она напомнила Эмили, чтобы та каждый вечер проверяла, не заснул ли Брэнуэлл с зажженной свечой. И хотя Эмили никогда ни о чем не забывала, мысли Шарлотты все равно продолжали кружить вокруг этого, словно мухи. Шарлотта сосредоточила взгляд на своих сложенных руках, сплетенных пальцах. Бормотание голосов. Когда же они начнут? От этой бесконечной подготовки только хуже. Едва Шарлотта решилась поднять взгляд, как один из младших хирургов прикоснулся к ее руке.
– Мисс Бронте, нам позвать сиделку? – Он улыбнулся выражению ее лица. – Мы здесь уже справились.
Выходя из спальни, Шарлотта оглянулась: мистер Уилсон прикладывал полотенце к папиному белому, поднятому вверх лицу.
– Что происходит?
– Ничего непредвиденного не случилось, и операция завершена. Теперь нужно дождаться окончания периода восстановления, и тогда мы узнаем результат. Мистер Уилсон настроен оптимистически и твердо верит в положительный исход.
– Хотите сказать, вы сделали операцию?
– Да, катаракту устранили путем удаления хрусталика. Мистер Бронте чувствует себя очень хорошо – поистине образцовый пациент.
Шарлотта бессильно опустилась на стул. Что ж: это папа. Пятнадцать минут его глаз резали острой сталью, а он не проронил ни звука.
– Который час, Шарлотта?
– Девять часов.
– Так поздно? Ты должна ложиться спать, моя дорогая. Я и сам скоро засну.
Спальню нужно было держать в темноте, а папа должен был лежать на спине с завязанными глазами. Шарлотте приходилось ограничивать себя короткими фразами, поскольку слишком долгие беседы могли утомить или растревожить отца. Теперь оставалось одно: лежать на спине и ждать известия, слепым или зрячим человеком ему быть. Терпение, которое при этом требовалось, казалось Шарлотте сверхчеловеческим.
– Тебе очень больно, папа?
– Немножко. Какое-то болезненное жжение. Оно выносимо. Боюсь, ты заскучаешь здесь, Шарлотта: мистер Уилсон говорит о месяце. Надеюсь, ты сумеешь найти способ как-нибудь себя занять.
Был только один способ – предаваться тяжелым мыслям и роптать, зализывая раны. Шарлотта могла бы назвать его способом Брэнуэлла, если бы не видела в нем собственных зловещих склонностей. Три романа Беллов были упакованы, высланы в мир и вернулись назад, никому не нужные. Не обращай внимания: перевяжи посылку, напиши адрес следующего издателя, возвращайся на почту. Бесполезно погружаться в неприятные размышления и сокрушаться в связи с очередной неудачей, к чему она так легко прибегала, воображая, как посылку разворачивают в каком-нибудь переполненном, замаранном чернилами офисе на далеком острове Лондон и как грубые пальцы торопливо перелистывают страницы. Еще бесполезнее роптать по поводу собственного вклада, безмолвно побуждая относиться к «Учителю» бережно, потому что… Так почему же? Потому что, в каком-то смысле, это ее последнее, длинное и безысходное письмо в Брюссель.
Но это неверный путь. Мы по нему не пойдем: только вперед. Слишком уже легко предаваться тяжелым мыслям в этой квартире с ее тишиной, уединением и видом из окна на фабричные трубы, вздымающиеся, точно черные знамена, над марширующими рядами красных кирпичей. Искушению всегда нужно противиться: посмотри на Брэнуэлла. Иди вперед: пиши.
В конце концов, кто такой Каррер Белл? Дилетант, который хмурится, если ему на тарелочке не преподносят то, чего он хотел, – или писатель? А писатели делают вот что: бумага, перо, чернила, встревоженный взгляд на топчущееся вокруг стадо идей, большинство из которых требуется отстрелять как чересчур хилые.
А кто такая Шарлотта Бронте? Всего лишь женщина, которая ездила в Брюссель с одним сердцем, а привезла оттуда совершенно другое – слабое, истерзанное, немощное. Является ли она той женщиной, которую знал он (месье Хегер, ну же, осмелься хоть раз назвать его по имени), или в ней есть что-то большее, гораздо большее?
У нее было время, у нее была власть. Пока что. Деспотичный мужчина лежал в спальне, перевязанный и послушный, смиренно ожидая, вернется ли к нему зрение, во всем зависимый от сиделки. От Шарлотты требовалось только не шуметь. Однажды ей пришло в голову, что так было всегда. В пасторате, в Коуэн-Бридже, в Роу-Хеде, в Стоунгэппе, в пансионе Хегер. Тсс… Ей пришло в голову, что, возможно, настало время пошуметь.
Банальные односложности – вот что для этого требовалось, вот какой должна быть она: просто и коротко называть себя миру, витиеватому и щедро украшенному лицемерием. Джен Эйр. Мельчайшие царапины личности на огромной серой стене опыта. Но с той же силой, что и знатнейшие титулы, они провозглашают: я существую.
Кто такая Джен Эйр? Результат всего, что происходило до нее.
Время пошуметь. Но единственным, что можно было расслышать в той маленькой гостиной на одной из боковых улиц Манчестера, был скальпельный звук острого движущегося пера.
– Энн, если бы ты только могла выручить меня шиллингом, то очень сильно услужила бы…
– Господи, Брэнуэлл, как ты меня напугал.
Приходы и уходы Брэнуэлла отличались нынче громогласностью и свирепым хлопаньем дверей, и от подобного тихого появления становилось не по себе.
– Что это ты читаешь? Ах, Скотт. Мне когда-то очень нравился Скотт. А теперь я смотрю на слова и… приходится гнать их прочь от себя. Как бы то ни было, прошу у тебя шиллинг, если ты можешь себе это позволить, а я уверен, что можешь.
– Я думала, папа оставил тебе денег.
– Ах, он оставил мне, что называется, нищенскую подачку, или каплю, или жалкую горстку, но ее уже нет. Ни гроша.
– На что ушли эти деньги?
Брэнуэлл вздохнул. Его угловатое лицо превратилось в гримасу отвращения.
– Любишь читать морали, верно, Энн? Отделять святых агнцев от проклятых козлищ. Но, видишь ли, тебе легко это делать. Тебя никогда не подвергали испытаниям. Твой самый трудный нравственный выбор – это вопрос: ах, пропустить ли мне сегодня посещение церкви из-за насморка?
Неужели она такая? Оглядываясь назад, Энн не находит безопасного простора: все время видит себя осторожно ступающей по туго натянутому канату, по обе стороны которого страшное падение во тьму. Но, быть может, он прав.
– Я боюсь того, на что ты потратишь шиллинг, если я дам его тебе, Брэнуэлл. Вот и все.
– Понятно. – Еще один глубокий вздох, и от этого дуновения Энн почувствовала себя сухим мертвым листком. – Значит, ты мне не поможешь. Торп-Грин повторяется.
– Что ты имеешь в виду?
– Ах, ничего. – Он разыграл короткую пантомиму раскаяния или излишней болтливости. – Послушай, я просто заметил, что ты, похоже, очень наблюдательна. А со стороны людей, которые наблюдают, было бы очень мило еще и действовать. Не знаю, что тебе было известно в Торп-Грине. По меньшей мере, что-то все-таки ты знала, как я подозреваю. В конце концов, это ведь ты привела меня в их дом, а значит, будь я очень резким и восприимчивым, мог бы вполне сказать, что во всем виновата ты. Но я не стану возлагать на тебя это бремя.
Внезапно и так же бесшумно, как пришел Брэнуэлл, в комнате оказалась Эмили.
– Вот, – произнесла она, – у меня есть для тебя два шиллинга, Брэнуэлл. – Она показала монеты на широкой белой ладони. Когда Брэнуэлл потянулся за ними, ее вторая рука рванулась и обхватила его запястье. – Я слышала, как ты обвинял Энн. Это низко, Брэнуэлл. Пей, влезай в долги, забирайся в постель, в которую забираться нельзя, или даже проводи остаток дней, колотя себя в грудь и оплакивая судьбу, – я не против. Это во многом свойственно человеку. – Брэнуэлл потянул руку к себе, но Эмили была сильной и держала крепко. – Но не опускайся до низости, Брэнуэлл. Нас всегда учили восхищаться тобой, брать с тебя пример, и, возможно, это было неправильно, возможно, это всегда тяготило тебя, так как превратилось в непосильную ношу. Но, пожалуйста, не заставляй нас презирать тебя.
Эмили отпустила Брэнуэлла. Он ничего не сказал и не посмотрел ни на одну из сестер: просто выхватил монеты, спрятал их в карман и вышел вон.
– Спасибо, – пробормотала Энн. У нее язык не повернулся добавить, что помощь Эмили подоспела слишком поздно.
Эмили взяла ее за руку.
– Поиграем немного в Гондал?
– О! Это было бы чудесно.
Бинты сняли. «Очень хорошо заживает, – объявил мистер Уилсон. – Продолжайте лечение: пиявки к вискам через день, полный покой и постельный режим». Шарлотта верит: смутные силуэты, которые мог различать папа, со временем сделаются четче.
– Способность человеческого тела к регенерации – удивительнейший предмет для исследований, мистер Бронте.
Из тьмы – к свету. Папа рассказал ей, как проводил долгие часы, освежая память, и в результате обнаружил, что может вспомнить почти всю Библию, главу за главой.
– Невероятно, на что способен ум, – пробормотал он, – если поставить перед ним такую задачу.
Шарлотту мучила острая, убивающая сон зубная боль, но она отодвинула ее в сторону, придвинула поближе лампу, развернула обложку очередного блокнота и написала: «Глава десятая».
Когда они возвращались поездом домой, папа заметил:
– Листья в этом году рано желтеют. – И на секунду смолк, позволяя мысли дойти до сознания.
Шарлотта сказала:
– Насколько?..
– Цвета, все ярче. Так я различил листья. Светлое и темное в резком контрасте. Силуэты в движении все еще немного размыты. Но оно возвращается. Чудо. – Суровое, как у патриарха, лицо немного смягчилось. – Как говорится, увидеть – значит поверить.
В пасторате Эмили и Энн не ложились спать: ждали их. В прихожей папа отпустил локоть Шарлотты и шагнул вперед, предупреждающе подняв руки.
– Не говорите. Не говорите, девочки. Дайте, дайте посмотреть. Энн. Эмили. Да, да. Но вы выглядите усталыми, даже изнуренными. Что такое?
– Просто волновались за тебя, папа, но теперь, слава Богу, это закончилось, – сказала Энн.
– Гм. Где он?
– В Галифаксе, – ответила Эмили. – В последнее время он часто там бывает. Иногда он остается там на ночь у своего друга, мистера Лейланда. Присядь же, папа, ты, должно быть, устал.
– Все в порядке, Эмили, я теперь справляюсь без поводыря. Где он берет деньги?
– Я давала ему немного, – призналась Эмили. – Я знаю, что не следовало этого делать. Но это помогает избежать сцен, а в общем… нам их хватает. Кроме того, полагаю, он влезает в долги.
– Ясно. – Папа тяжело опустился на стул. Взгляд его покрасневших, бесчувственно плачущих глаз упал на посылку, которая стояла у стола. – Что это?
– Ах, ничего, – сказала Энн. – Просто кое-какие книги, которые мы посылали Элен Нюссей.
Эмили украдкой грустно кивнула Шарлотте. В этой посылке были их рукописи: блудные дети в очередной раз вернулись из большого города нищими и никому не нужными.
Утром папе стало настолько лучше, что настроение, учитывая его состояние, сделалось почти праздничным. Когда мистер Николс заглянул пораньше в пасторат, чтобы справиться о здоровье папы, тот заставил его позавтракать с семьей.
– Боюсь, мистер Николс, что, будучи поглощенным собственными тревогами, я не позаботился выразить вам благодарность за то, с какой готовностью вы несли большую часть нашего приходского бремени. Можете быть уверенным: как только мое зрение восстановится до степени, позволяющей читать, что, судя по ежедневному улучшению, должно произойти совсем скоро, вы получите заслуженный отпуск. Я знаю, что вы хотите навестить родственников в Ирландии. Шарлотта, подлей-ка еще чаю мистеру Николсу.
– Да, сударь. Однако же всему свое время. Давайте считать ваше полное выздоровление… основной задачей.
Конечно, нечестно было сравнивать его с Уильямом Уэйтманом: возможно, если бы Шарлотта не знала последнего, то не сочла бы манеры его преемника такими деревянными, а общество таким неуютным. Когда Шарлотта подавала мистеру Николсу чашку, пришлось переступить через какой-то тягостный момент нерешительности, от которого ей захотелось воскликнуть: «Что случилось? Вы не знаете, что такое чай? Или собираетесь уронить чашку на пол и устроить ей нравственный допрос? Что?..»
– Вы очень добры, мистер Николс. Для человека, приближающегося к седьмому десятку, – сказал папа, – возможность восстановить силы организма до уровня, на котором они были когда-то, сомнительна. Но воля – другое дело, и если пребудет со мной воля, я очень скоро вернусь к выполнению своих обязанностей.
– Спасибо, – сказал мистер Николс, благодаря Шарлотту за чай, который она вручила ему полминуты назад. Как будто эти слова требовалось взвесить. Шарлотта постаралась не раздражаться, да поздно.
– Каково это, папа, быть под ножом? – спросила Эмили, и у Шарлотты появилось ощущение, будто рядом раздался призрачный цокот тетушкиного языка.
– Ощущение едва ли указывало на нож, – сказал папа с характерной жилистой улыбкой. – Вся процедура в высшей степени интересна для любознательного ума. Сначала они капают на глаз белладонну, чтобы зрачок расширился до предела – мучительное ощущение, но короткое. Любопытно, вы не находите, что самый страшный яд используется в медицинских целях, а кроме того, носит имя, означающее «прекрасная леди»?.. В чем дело?
Шарлотта вскочила.
Брэнуэлл вернулся домой и, прежде чем она успела ему помещать, оказался в столовой.
– Папа. – Он нагнулся над столом, чтобы пожать руку отца, и опрокинул кувшин молока. – Тебе лучше! Я вижу, что тебе лучше, слава Небесам, но я знал, знал, что так и будет. – Брэнуэлл рывком восстановил вертикальное положение. Не пьяный, но его зудящее бодрствование и пульсирующий ум свидетельствовали о недавно завершенном долгом запое. Его губы были крепко сжаты, взгляд блуждал по комнате. Когда-то щеголь, Брэнуэлл выглядел теперь как человек, который часто спит в одежде. – Послушай, папа, позволь рассказать тебе, потому что многие вещи прояснились. Я получил письмо от доктора Кросби. Он был врачом в Торп-Грине, врачом, конечно, мистера Робинсона, но другом моего, то есть нашего дела, и он называет причину, по которой она не может связаться со мной – прилететь ко мне, как ей хотелось бы. Все дело в ее родственниках и в том, что они прямо-таки окружили ее запретами, давят на нее в момент, когда ей хуже и горше всего. Многое объясняет, как видишь. Ужасно думать, что она сейчас, наверное, переживает. Уверен, это выдавило бы слезу даже из каменного сердца. – Он протер рукавом глаза. – Простите, я не спал, и эмоции временами оказываются сильнее меня.
– Садись, Брэнуэлл, и выпей чаю, – предложила Энн. – Овсянки нет, но если хочешь хлеба с маслом…
– Уму непостижимо! – воскликнул Брэнуэлл; от раздражения его голос стал переливаться, как звуки флейты. – Почему некоторые люди считают, будто еда — это ответ на все вопросы? Просто продолжай есть – и все проблемы решатся. Тогда как на самом деле верно обратное. Ну, Николс, как поживаешь? Пригласили на завтрак, да? Большая честь, знаешь ли, большая честь. Ты не слишком разговорчив, верно? Нужно свести тебя с моей сестренкой Эмили, ах, как она искусна в таинственных молчаниях…
– Брэнуэлл, – произнес папа своим самым зычным ораторским голосом. Потом немного тише: – Ты говоришь, что устал и нуждаешься в отдыхе. Иди же к себе, отдохни, а потом мы с тобой все как следует обсудим.
Брэнуэлл вздохнул.
– Что ж, Николс, ты сам все видишь. Ах, ты ни в чем не виноват, знаю, но заметь, как тебя сердечно встречают там, где мне не рады. Поистине, это говорит о том, что тебя готовят в мужья одной из этих полуночных колдуний. В почтительные сыновья, которых у него никогда не было, и все прочее…
– Брэнуэлл! Довольно, сударь! – гаркнул папа, но Брэнуэлл, едва слышно хихикая, уже покинул столовую.
Мистер Николс налег на чай. Его глаза – электрические глаза на темной квадратной плите лица – ничего не пропустили, подумала Шарлотта. Ей пришлось на миг возненавидеть гостя за то, что тот увидел, как они живут. За то, что стал свидетелем.
– Прости, папа, – мягко произнесла Энн. – Пока тебя не было, у нас возникли некоторые… некоторые проблемы с ним.
– Не извиняйся, моя дорогая, это не твоя вина. Надеюсь, я сниму эту проблему с ваших плеч. – Он поднял палец к потолку, откуда доносилась шаткая поступь Брэнуэлла. – Там, там еще один мой долг.
Что хуже – излишества или лишения? Действие выпивки и опия или действие отказа от них? Вопрос, подвергнувшийся эмпирической проверке в пасторате жестокой зимой и затяжной весной.
Папа берет за правило спать в одной комнате с Брэнуэллом. Чтобы увещевать и молиться и, возможно, поначалу быть плотью и кровью, заменяющей библейский текст на стене. Вскоре, однако, это превращается в простую необходимость: нужно присматривать за ним. В пьяном состоянии Брэнуэлл становится угрозой самому себе: оставляет свечи зажженными, лежит на спине и не в полном сознании, когда его рвет. Лишенный выпивки – это случалось часто, ибо семья живет очень скромно, а почтовые дотации от Леди (теперь Брэнуэлл называет ее только так) осуществляются тайно и нерегулярно, – он мучается кошмарами, что звучит слегка мелодраматично или комично, но таковым не является.
– Если я убью себя, – кричит Брэнуэлл каким-то раздраженным, решительным тоном, будто обращается к шумному лекционному залу (даже подушка поверх головы не заглушает его голоса), – то согласно твоему прекрасному культу кровожадного Иеговы отправлюсь в ад! И если я убью тебя, тоже попаду в ад, так почему бы нам не отправиться туда вместе, папа? А? Во имя траханья, шлюх и других истинных богов, почему бы нет?
В этот момент становится невыносимо, нужно на цыпочках идти к спальне, прислушиваться, опутав пальцами ручку двери; иногда за этим следуют всхлипывания и папин голос, звучащий спокойно и утешительно. А однажды наступает такой покой, что Шарлотта заглядывает в комнату и видит папу, лежащего на спине – острый нос и подбородок торчат над подушкой, конечности скованы, прямо как было во время операции, – и Брэнуэлла, уткнувшегося лицом ему в грудь, как брошенная марионетка.
Что хуже – держаться за надежду или отбросить всякую надежду? Дерзнув почувствовать, что в последнее время он стал немного лучше – по меньшей мере капельку честнее и надежнее, – они обнаруживают на пороге пастората веселого судебного пристава. Немедленная уплата долга мистера Брэнуэлла Бронте или препровождение мистера Брэнуэлла Бронте в камеру должников Йоркской тюрьмы, чтобы подумать об этом.
Вместе они находят деньги. Когда пристав покидает их дом, Брэнуэлл спускается на первый этаж, нервно посмеиваясь и дуя на пальцы.
– Знаете, кредиторы Байрона были так настойчивы, что самый крупный из них прямо-таки жил у него дома, – чтобы быть абсолютно уверенным, что должник не улизнет. Они встречались за завтраком. Чудесная мысль, не правда ли?
Ты не Байрон. Но никто этого не говорит. Как будто они не хотят ворошить последние тленные останки иллюзии.
Так что хуже, в конце концов? Не получать никаких предложений о публикации трех романов или получить это скаредное, кривобокое, но хотя бы какое-то сообщение о желании публиковать?
– В конце концов, – говорит Энн, когда они кружат по комнате в летней ночной тиши, – мы заплатили деньги Айлотту и Джонсу и те поступили с нами честно.
– Но без выгоды, – замечает Шарлотта. – Вспомни про два экземпляра.
– Да, но то все-таки была поэзия. У романов гораздо более многочисленная читательская аудитория.
– Мы на это надеемся. И поэтому я сомневаюсь в мистере Ньюби. Не только потому, что он сомневается в «Учителе». Пятьдесят фунтов – это крупная сумма.
– Он говорит, что это необходимая страховка при теперешнем положении дел в торговле, – напоминает Энн. – И как только продажи книг покроют эту сумму, нам вернут первоначальный взнос плюс авторские гонорары. Выходит, это своего рода аванс.
– Но ведь это издатели должны предлагать нам его, а не наоборот.
– Однако не предлагают, – вздыхает Эмили. – И скольким мы уже писали? Даже не верится, что в Лондоне может быть столько издательств. Послушайте, мы заключим сделку с T. С. Ньюби, кем бы он ни был. При условии, что он согласится принять все три романа.
– Но ты не считаешь, что он… В общем, он пишет так, будто делает нам одолжение. Ты не думаешь, что «Грозовой перевал» заслуживает лучшего?