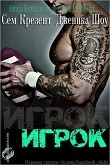Текст книги "Тень скорби"
Автор книги: Джуд Морган
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
– Что ж, я не против, – говорит Энн. – По крайней мере, хотя и против, но предпочту сделать вид, что наоборот. Я никогда еще не бывала в Лондоне, поэтому вылазка в логово волков только придаст новизны. Или страха.
– Ах, уж если говорить о волках, то в их роли скорее оказываемся мы, – подхватывает Шарлотта. – В буквальном смысле волки, которых выставят на всеобщее обозрение и заработают на этом…
– Прекрати! – восклицает Эмили. – Не подливай масла в огонь. Энн, подумай, подумай, что ты делаешь.
– Я думала, Эмили, – отвечает Энн. – До сегодняшнего дня я много размышляла над этим вопросом. – Ее лицо неподвижно и серьезно, когда она добавляет: – Знаешь, я не поддаюсь мимолетным импульсам.
– Значит, ты собираешься поехать и представить себя, как выставочный экспонат, как визитную карточку, которую рассматривают, лапают, а потом выбрасывают…
– Мне это видится иначе, – говорит Энн; на этот раз перемещение сил, кажется, заставляет дрожать землю под ногами. – Я еду туда, чтобы просто быть собой. В конце концов, я не Эктон Белл: я Энн Бронте. Но я была бы гораздо счастливее, если бы ты тоже поехала, Эмили. Поедешь? Это бы прояснило всю историю с Беллами. И ты помогла бы мне, если бы поехала. В конце концов, ты, в отличие от меня, уже путешествовала.
– Боже правый, теперь я вижу, что ты помешалась. Пытаешься победить меня лестью, – холодно произносит Эмили, бледная и суровая. – Делай что хочешь. А меня оставь в покое.
Точно кошка, которая собралась на охоту, Эмили выходит из комнаты.
– Папа, нам нужно ехать в Лондон, мне и Энн. У нас неотложное дело с издателями.
– Лондон? Но, дорогие мои, я не могу поехать с вами. Такие путешествия мне теперь не под силу.
– В этом нет нужды, папа. Ты забыл, что я уже самостоятельно ездила в Европу.
– Конечно. – Папа почему-то выглядит слегка раздраженным после ее слов. – В таком случае присматривай за малышкой Энн. Вы отправляетесь рано утром?
– Нет, папа… мы хотим выехать сегодня… после чая. Мы послали чемодан на вокзал в Китли. Сядем на вечерний поезд. Мы бы поехали раньше, но… но пришлось обсудить этот вопрос с Эмили.
– Ясно, – отвечает папа, и Шарлотта, глядя на него, задумывается, а все ли так ясно ему, не затмевает ли какая-нибудь катаракта его острый ум. – Что ж, все это очень внезапно, но, пожалуй, пора привыкать к тому, что вы меня удивляете. Остается вопрос, где остановиться. Советую вам снова выбрать «Чапте кофихаус». Я не знаю в Лондоне лучшего места.
«Это единственное место в Лондоне, которое ты знаешь», – думает Шарлотта и на какой-то странный миг чувствует себя старше отца.
Эмили провожает сестер до «Белого льва», разделяя с ними, по крайней мере, сырость и дождь. Летний хоуортский день завершается гневом и абсурдом, умудряясь одновременно сотворить шквальный ветер, грозу и даже пятна мокрого снега. «Такого вы в своем драгоценном Лондоне не получите, верно?» – словно бы говорит он.
– Только обещайте… – начинает Эмили и прикусывает губу. – Простите, вы уже пообещали.
– Мы не расскажем о себе ничего лишнего. Только то, что необходимо для разъяснения правовой ситуации, – говорит Шарлотта, стараясь, чтобы голос не выдавал ее утомленности. – Я обещаю.
– Мы вернемся как можно скорее, – добавляет Энн, целуя холодное гладкое лицо Эмили.
– Сделав это, – произносит Эмили (тут мускулы на ее лице дрогнули: то ли от улыбки, то ли от холода), – вы никогда уже не сможете по-настоящему вернуться.
В Лидсе они решают действовать в соответствии со статусом знаменитостей и покупают билеты первого класса. Они усаживаются, расправляя мокрые юбки в пугающем комфорте стеганой кожи и лака. Шарлотта ожидала, что ночной поезд окажется долгим тарахтением сквозь безымянную темноту, но каждый город и поселок по меньшей мере кажется наполовину живым. Свет разливается по склонам холмов, платформы звенят торопливыми голосами, кони бьют копытами, бидоны с молоком катятся и катастрофически сталкиваются друг с другом. Поднятый фонарь выхватывает кричащее, смеющееся лицо носильщика в незабываемых деталях, так что можно разглядеть каждую морщинку и волосок щетины, – внезапный портрет пером и чернилами. Наконец холмы начинают уступать место равнинам и железная дорога продвигается вперед уже без триумфального преодоления искусственных лощин, туннелей и мостов: север остается позади. Шарлотта и Энн опираются друг о друга, каждая зевает и, потирая усталые глаза, признается, что сон невозможен.
– Так много людей, – говорит Энн, когда поезд проезжает мимо очередной толчеи крыш и дымоходов. – Конечно, ты знаешь, что в мире много людей, но по-настоящему не задумываешься об этом – об этих тысячах и тысячах… Даже если не быть такими, как мы, то есть будучи очень общительными, за всю жизнь можно встретить лишь незначительное число людей.
– Лично – да. Но для нас с нашими книгами все иначе. Через них нас может узнать гораздо больше людей, чем нам когда-либо удастся встретить. А это мысль, не находишь?
– Узнать нас, – эхом отзывается Энн. – Не возражаю. Я предпочитаю роль объекта… Но если судить нас… Это тяжелее, хотя и подстегивает к движению вперед. Надеюсь, люди не станут думать, что два романа – это все, на что я способна. Мне по-прежнему кажется, что отчасти я лишь пробую силы. Я хочу пойти гораздо дальше, глубже… – Энн несмело сжимает руку Шарлотты. – Знаю, ты думаешь, что «Уилдфелл-Холл» был поворотом не туда. Но я должна была его написать.
– Просто он такой… тягостный. Такой беспощадный. Когда этот человек катится в пропасть… Это Брэнуэлл?
– Возможно. В каком-то смысле это все мы – когда опускаем руки.
«О, – думает Шарлотта, – я не опущу рук, только не я». Дорога к Лондону оживляет давние болезненные воспоминания: о временах, когда Лондон был только остановкой на пути к истинному назначению, назначению ее жизни – Брюсселю. Нет, она, конечно, не опустит рук. Она уже очень долго держится из последних сил, как тонущий человек, который хватается за обломок своего корабля и без устали барахтается в воде: только совершенно ясная линия суши на горизонте заставит ее выпустить из рук спасительную деревяшку.
На кухне Эмили кормит Сторожа, отдавая псу лучшие кусочки баранины, которые она не стала есть за ужином. Когда Тэбби с ворчанием отправляется спать, Эмили остается на месте, на выложенном каменными плитами полу.
– Понимаешь, я просто не смогла на это согласиться, – обняв рукой мощную шею собаки, говорит Эмили. В тишине летней ночи ее сухой голос кажется обыденным и на удивление спокойным. Она смотрит на свои пальцы, играющие с шерстью Сторожа. Пальцы. – Это означает, что рано или поздно люди начнут лезть пальцами тебе в голову. – Она вздрагивает, потом прячет лицо в теплую шерсть пса и вдруг начинает завывать. – Я не помахала им рукой на прощание. Они ушли, и я отпустила их, не помахав рукой на прощание, намеренно.
Наконец она вытирает слезы, наполняет водой таз и нежно, но тщательно умывает глаза и щеки, чтобы не осталось даже намека на пятно.
Эмили находит Брэнуэлла, полураздетого и растрепанного, в столовой. Большую часть дня он проспал после эпического пьяного кутежа.
– Тут холодно, нужно разжечь камин. Где Тэбби, где Марта?
– Пошли спать. В такое время они не станут разжигать камин.
– Почему нет? Мы им платим, разве нет? Они едят наши продукты… – Он вытирает рукавом сопливый нос. В его голосе теперь постоянно слышится какая-то катаральная морось. А моргающие глаза приобрели такое оскорбленное выражение, словно быть открытыми для них неестественно, а пробуждение – это разрывание старой раны. – И вообще, куда, черт возьми, запропастились Шарлотта и Энн?
– Поехали в Лондон.
Брэнуэлл кисло смотрит на сестру.
– В шутках ты не сильна, Эмили.
– Если хочешь, могу разжечь камин. Но думаю, что холод у тебя внутри.
– Я чувствую себя старым, – говорит Брэнуэлл, засовывая руку под расстегнутую рубашку, чтобы почесать белую костлявую грудь. – Старым – и в то же время младенцем, которому еще только предстоит испытать все тяготы и страдания жизни. Жаль, что нет тетушки.
– Неужели?
– Она бы меня пристыдила.
– Ты в этом нуждаешься?
– Не знаю. Папа не может этого сделать. Бедный старик, он все еще слишком сильно любит меня. Знаешь, прошлой ночью я даже поднял руку, чтобы ударить его. Но не сделал этого. Ты ненавидишь меня, Эмили?
Вопрос удивляет ее.
– Нет, – абсолютно искренне отвечает Эмили.
Брэнуэлл улыбается углям: жуткая улыбка, точно какой-то спрятанный во рту крюк растягивает ему губы.
– Шарлотта ненавидит меня.
Эмили тихонько усмехается, берет ведро с углем.
– Нет, нет, Брэнуэлл. Шарлотта завидует тебе.
Брэнуэлл удивленно смотрит на сестру.
– Господи, Эмили, ты действительно не сильна в шутках.
Ступая по лондонским улицам, Энн думает: «Я ни за что не сделала бы этого без Шарлотты». А потом приходит мысль: «Я скатилась назад». Потому что, в конце концов, как же Торп-Грин? Она отправилась туда одна, очень молодой, и продержалась на весьма нелегкой работе дольше и успешнее, чем удавалось остальным. «О, но вспомни, чем все это закончилось, – приказывает себе Энн. – Хвалиться тут нечем. Хотя и винить себя тоже не в чем. Безусловно». Только глубоко в душе, вспоминая о Торп-Грине, она видит жирную черную линию, которая пересекает белый лист, и поставленную с силой, рвущую бумагу точку.
С тех пор Энн была заново создана как Эктон Белл, она восстановила себя словами, захватывающе и вполне удовлетворительно. Но это проделывалось за письменным столом, в уединении. Шокирует мысль, что когда-то она была человеком, который выходил в мир подобно этим неисчислимым людям, что идут по своим странным делам гигантскими, ослепительными, перегруженными улицами. Они смотрят на нее, и, кажется, на миг их взгляд останавливается на ней, на ее чуждости, ее неспособности стать здесь своей. Оттого-то она и жмется поближе к Шарлотте и почти хочет кричать им всем: «Все в порядке, я с ней!»
Потому что Шарлотта такая: она делает это. В каком-то смысле она стесняется не меньше их, заметно страдает от тех же мук, когда входит в комнату, полную чужих людей, не может выдавить из себя ни одной из тех светских бессмыслиц, с которыми так легко справляется Элен Нюссей. Кроме того, Шарлотта до ужаса остро осознает, как она выглядит. Эмили никогда этим не страдала, а Энн научилась бороться. Шарлотта же постоянно отворачивается, чтобы спрятать уголок рта, из которого немного торчит наружу зуб, отчего выглядит еще более неуклюже, чем есть на самом деле. Но, тем не менее, именно она делает это: она идет вперед. Сегодня утром она заказала им комнаты в «Чапте кофихаус», а затем, пылая от смущения, твердо настояла, чтобы им нагрели воды для купания, – и это несмотря на заявление зевающей прислуги, что для начала им надо хотя бы раз переночевать в гостинице. Она останавливает кого-то, чтобы узнать, как пройти к Корнхиллу. Вероятно, Шарлотта станет отрицать, что она храбрая, что на самом деле она никогда себя таковой не чувствовала. Но действует она довольно решительно. Быть может, в этом секрет отваги.
Хотя сегодня суббота, в помещении, где расположились «Смит, Элдер и Ко», издательство и книжный магазин, кипит работа. Магазин, который находится в фасадной части здания, заполнен людьми: книги ищут, снимают с высоких полок, проверяют, упаковывают. Энн не может справиться с ощущением, что без покупок и заказов им абсолютно нечего здесь делать. Однако Шарлотта хватает за руку пробегающего мимо мальчика на посылках и говорит:
– Будьте добры, мы хотим видеть мистера Смита.
Мальчик хмуро на них посматривает.
– Имя?
Ах, в том-то и суть дела. Энн почти улыбается про себя, однако нетерпеливый взгляд мальчика излечивает ее от приятных эмоций.
– Мы бы предпочли пока не называть своих имен, – заявляет Шарлотта. – Мы хотим видеть мистера Смита по личному вопросу.
Посыльный ворчит:
– Ладно, поищу.
Его долго нет. Сестры поглядывают на книги, сложенные на прилавке.
– Наших нет, – шепчет Энн.
– Все проданы, конечно. Почему мы говорим шепотом?
Мальчик возвращается, а с ним некий джентльмен. Причем очень джентльменский – молодой, хорошо одетый, в легком облаке одеколона. Однако по его виду не скажешь, что он рад гостям, и, учитывая ситуацию, думает Энн, это грубейшая ошибка. Ей снова почти хочется рассмеяться. Беллы, книги, обзоры критиков и письма, банковские чеки – быть может, все это лишь сны или фантазии и все это время они играли в Гондал или в Ангрию?
Но нет, наблюдая за Шарлоттой, она тоже старается сохранять серьезность.
– Вы хотели видеть меня, сударыни?
– Вы мистер Смит?
– Да, это я.
Гладкая, тусклая вежливость: за ней может скрываться что угодно.
– Спасибо, что встретились с нами, мистер Смит. Вероятно, если я покажу одно письмо – от вас, – это поможет вам понять, в чем состоит наше дело.
Письмо Карреру Беллу, распечатанное. Мистер Смит поднимает на Шарлотту суровый взгляд.
– Да, его написал я. Откуда оно у вас?
– Оно было адресовано мне, – говорит Шарлотта. – Я та мисс Бронте, через которую все ваши письма должны были передаваться дальше… и Каррер Белл тоже я. – Энн никогда еще не видела, чтобы чей-нибудь скальп так четко и с такой силой пополз вверх, как это случилось с мистером Смитом из «Смит, Элдер и Ко»: это как сделать вздох узнавания видимым. – Это моя сестра, мисс Энн Бронте. Э. Б. Понимаете? Цель нашего приезда – предоставить наглядное свидетельство, что нас по меньшей мере двое.
– Каррер Белл. Эктон Белл. Боже мой, но это же изумительно!
В улыбке мистера Смита – от нее получаются очень милые ямочки, – в его внезапной теплоте и радушии, в том, как он спешит взять своих гостей за руки, Энн вдруг снова видит Уильяма Уэйтмана. И на секунду ей становится страшно: как будто кто-то, запертый в дальней комнате, тарабанит в двери; а еще она боится, что следование за Шарлоттой ей тут не поможет. Но потом Энн пожимает руку мистера Смита, и Уильям Уэйтман исчезает вместе со всеми своими чарами. Руки мистера Смита точные и энергичные, деловые. Деловые, да, так лучше.
– Что ж, меня еще никогда так приятно не удивляли. Каррер… конечно, без сомнений, я буду нем как рыба. Пойдемте, пойдемте…
Мистер Смит ведет их в маленький, тесный, обшитый панелями офис в конце здания с закопченным потолочным светильником. Клерк, заканчивающий какое-то письмо, протискивается в дверь, чтобы освободить для них место.
– Тысяча извинений, если в первые минуты нашего знакомства я был, так сказать, нелюбезен, но я просто не мог вообразить, о чем пойдет речь. Никогда бы не подумал, что меня дожидается один из моих самых ценных авторов. Дорогая моя мисс Бронте, мисс Энн, вам следовало предупредить меня письмом. Тогда я смог бы организовать более подходящий прием.
– Все это делалось в спешке, – говорит Шарлотта, – и в ответ на ваше письмо о негодяе мистере Ньюби и его шокирующих лживых заявлениях. (Да, Энн, он действительно негодяй.) Как видите, мы не один человек. Каррер, Эллис и Эктон Беллы – это три сестры. Эллис – это наша сестра Эмили, которая… – Энн предостерегающе наступает Шарлотте на ногу. – В общем, Эллис хочет сохранить анонимность. Как и все мы… – «Нет, – думает Энн, – ты не хочешь, Шарлотта, даже если сама едва ли это осознаешь». – Но мы не собираемся ради этого становиться жертвами мошенничества или, что еще хуже, навлекать на себя подозрение в заговоре с мошенником.
– Я писала мистеру Ньюби, – вступает в разговор Энн, удивляясь спокойному звучанию собственного голоса, – настаивая, чтобы он прекратил прибегать к обманным заявлениям в рекламе моей книги, но ответа не получила.
– Ах. Я, конечно, не могу комментировать профессиональные стандарты коллег-издателей, но могу сказать, что ваши слова не являются для меня полной неожиданностью, – отвечает мистер Смит с сухой насмешкой. – Но полно, давайте пока оставим эту неприятную тему. Позвольте еще раз выразить, как безгранично я рад наконец-то встретиться с вами. Очевидно, что до сих пор вы предпочитали избегать взглядов общества, – однако смею ли я надеяться, что этот визит знаменует перемену вашего мнения? В крайнем случае позвольте хотя бы представить вас мистеру Уильямсу – нашему рецензенту. Тому, кто первым побудил меня к напечатанию «Джен Эйр»…
Мистер Уильямс, усатый, худощавый, гораздо старше своего работодателя, настолько же изнурен и неуверен, насколько мистер Смит свеж и решителен. Однако он искренне рад встретиться с господами Беллами, ибо это для него честь. Мистер Уильямс слушает их сбивчивый рассказ о своих книгах и своей жизни с какой-то робкой жадностью, которая заставляет Энн осознать… В общем, заставляет осознать истинное, настоящее, не Гондал: они – известные авторы. И в этот миг кажется, будто все те тысячи людей, о которых она думала в поезде, выходят из домов, распахивают окна, оборачиваются на улицах, чтобы с любопытством взглянуть на них.
Страшно. Невыносимо ли это? Наверное, нет. Нужно только наблюдать за Шарлоттой и смотреть, как делает она.
– Но позвольте, будучи в Лондоне, вы просто не имеете права, да-да, не имеете права пропустить выставку Королевской академии. Кроме того, Оперный театр…
– Право же, сударь, мы намеревались пробыть здесь ровно столько, сколько необходимо, чтобы встретиться с вами и мистером Ньюби по нашему делу, и сразу же вернуться домой.
– Ах, но, мисс Бронте, раз уж вы здесь, позвольте хотя бы представить мою мать и сестер. Мне не будет прощения, если они узнают, что упустили шанс познакомиться с Беллами. И не только они: есть множество других, поверьте, в особенности мистер Теккерей, который пришел бы в восторг при мысли увидеться с вами. Доверьтесь мне, это можно устроить, соблюдая определенную степень инкогнито…
«Инкогнито не может быть определенной степени, – думает Энн, – это абсолютное понятие». Впрочем, ничего страшного. Наблюдай за Шарлоттой, которая сидит на краешке стула, прикрывает рот рукой, пытливо и с сомнением вглядывается в красивое, чисто выбритое лицо мистера Джорджа Смита.
Глажение. Хотя и свежевыстиранная, одежда всех домочадцев, замечает Эмили, по-разному пахнет, когда ее гладишь. У папиных рубашек колючий уличный запах. Одежда Брэнуэлла пахнет как-то грустно.
Интересно, думает Эмили, что сейчас делают Шарлотта и Энн? Потом одергивает себя: она не хочет интересоваться. Она не хочет уделять внимания тому, что они сделали. Пускай. Это далеко от чарующих волн белых простыней и утюга, который скользит по ним, точно пароход.
Суббота. Папа приглашает мистера Николса выпить с ним чаю и, поскольку Эмили как раз проходит мимо с охапкой стираного белья в руках, распространяет приглашение и на нее. Она соглашается, хотя вполне могла бы обойтись. Мистер Николс по-своему очень хороший человек, но Эмили нечего ему сказать. К счастью, им с папой многое нужно обсудить. Папа просто-таки светится от хорошего настроения.
– Ваши труды пропадут зря, сударь, ибо традиции Хоуорта неимоверно живучи. О, я восхищаюсь вами и полностью одобряю, но сам не стал бы тратить времени на препирательства с той прачкой.
– Я надеюсь заставить их осознать, что они делают, – угрюмо произносит мистер Николс. Черные волосы, брови, глаза, да еще черное одеяние священника на нем – слишком много черного; доза мистера Николса очень сильна, ему нужная какая-нибудь примесь. – Да, развешивая белье на могилах, они никому не вредят. Но в этом есть неуважение. Ах, мертвые не могут об этом знать, отвечают они. Но живые могут, живые всех возрастов и классов видят это и, должно быть, заключают, что нам нет дела до мертвых, раз мы такое допускаем. – Мистер Николс говорит с догматическим ритмом в голосе и вдруг, по-видимому, осознает это; он принимается неловко и шумно размешивать чай, смотрит на Эмили – или, точнее, бросает мимолетный взгляд на нее, а потом по обе стороны от ее кресла. – Мисс Бронте нет дома?
– Да, сударь, – говорит папа, все еще сияя, – уехала… в гости; вместе с Энн. Я ожидаю их возвращения через день-два.
Взгляд мистера Николса ускользает. И Эмили думает: «Ты не спрашивал про Энн. Тебе не было интересно, где она. Ах. Неужели?» Она быстро перебирает в памяти, как мистер Николс ведет себя в присутствии Шарлотты, как молниеносно он подскакивает с кресла, открывает двери… Ах. На миг Эмили почти становится жаль его – жаль размаха его ошибки. Будь у нее возможность поговорить с ним, она сказала бы: «Бесполезно, мистер Николс. Вы слишком близко. Мы, Бронте, не можем любить тех, кто близко. С нами только у недосягаемого есть шанс».
– Боюсь, всего лишь «Цирюльник», – говорит мистер Смит, когда они поднимаются по лестнице Королевской оперы. Такая широкая, думает Шарлотта, по ней можно на повозке спускаться. Она никогда не представляла, что лестница может быть настолько широкой. Ей видится архитектор, проектирующий лестницу, и человек, просматривающий наброски чертежей и спрашивающий: «Разве возможно построить такую широкую лестницу и зачем это нужно?» Мистер Смит галантно взял Шарлотту и Энн под руки. Такой он человек, хотя сестры, безусловно, выглядят тускло и неуместно в своих убогих дневных туалетах. Одна блистательная, усыпанная драгоценностями леди уже остановилась, чтобы поглазеть на незнакомок, осмотреть их с головы до ног. По обе стороны от гостий порхают вежливые сестры Смит, сверкая обнаженными припудренными плечами.
– Прошу прощения, какой цирюльник?
Мистер Смит облизывает губы.
– Простите, я не объяснил. Сегодня дают «Севильского цирюльника» Россини, оперу, которую некоторые считают уже приевшейся. О, добрый вечер, здравствуйте! Позвольте представить, мисс Браун, мисс Энн Браун. Спасибо, отлично. – Их инкогнито: Шарлотта настояла на нем отчасти из-за Эмили. – Все эти фальшивые имена, мисс Бронте, – боюсь, вы скоро не вспомните, кем являетесь на самом деле.
Шарлотта оглядывается по сторонам, когда они входят в ложу: огромное скопление светских людей. Так много, их никак не узнать. Она смотрит на красивого внимательного мужчину рядом с собой, вспоминает или напоминает себе, почему он внимателен, и качает головой.
– О, едва ли я об этом забуду, мистер Смит.
Воскресенье, день возможностей для Брэнуэлла, день, когда папа делает то, что делал всегда. Дом пустеет, и появляется свобода. Немного свободы и пространства, чтобы распланировать способ выживания на следующие день-два, если, конечно, удастся раздобыть выпивку, а также опиум в аптеке Бетти Хардэкр, пропорцию и сочетание которых можно будет потом определить в зависимости от потребностей…
– Я не должен этого делать, – бормочет Джон Браун, прячась в тень и съеживаясь в собственной прихожей, как будто он здесь случайный гость, а не хозяин. – По-хорошему, не должен. Ты и так уже синюшный, как я погляжу. Могу дать шестипенсовик, не больше. По-хорошему…
Он нравоучительно цепляется за эту фразу – Джон Браун, который всегда любил выпить, перекинуться скабрезным словцом и устроить какую-нибудь выходку; грустно и нелепо видеть, как он надувает из-за этого губы.
– По-хорошему, мы с тобой и добрая половина грешников этого прихода должны поджариваться на медленном огне, – говорит Брэнуэлл. – Но в этом мире ничего не происходит по-хорошему, Джон, и ты это прекрасно знаешь. Так что скажешь насчет шиллинга, шиллинга, который я твердо обещаю вернуть завтра?..
О, благослови тебя Господь. Да, иногда они сдаются от одной лишь скуки твоих объяснений. Повернувшись, чтобы уйти, Брэнуэлл слегка спотыкается. Удивительно. Мог бы поклясться, что к порогу Джона Брауна ведет всего одна ступенька.
Эмили открывает шкатулку для письма, точит перо и приступает к допросу своего ума и обстоятельств. Почему это не приходит? Как это приходило раньше? Вспоминается только скрытая комбинация; люди Гондала, их ненависть и страсти тревожат ум, пока она бродит по пустошам, а потом медленно просачиваются сквозь мембрану и одновременно меняются: Кэтрин, Хитклиф, образы. Мембрана – это благословенный посредник между тобой и остальной жизнью. Ты пропускаешь через нее только определенные вещи, причем только в том случае, когда у тебя есть выбор.
Но писать – нет, сейчас это не приходит к ней. Вероятно, причина в том, что ее мысли заняты другим, тем, что сестры делают на далеком острове Лондон. Там, несомненно, определяется порядок вещей. Каррера и Эктона Беллов выставляют напоказ, рассматривают и скоро того же потребуют от Эллиса Белла.
Нет, это вовсе не то, чего ей хочется. И да, она представляет уговоры Шарлотты; зачем тогда вообще писать, зачем публиковать? В ответ ей приходит на ум только образ. Он идет из Гондала, из сырых туманных вершин к северу от Реджайна, где над линией деревьев нависает огромный, как плита, профиль, вырезанный в скале, и никто не знает, кто и как его создал; никто не может даже определить, мужские или женские эти гигантские черты.
– Нет, правда, я не чувствую себя в силах знакомиться с мистером Теккереем, – говорит Шарлотта, когда мистер Смит ведет ее ужинать. – Вы должны понимать, что мне непривычно… все это. – В том числе столовая дома Смитов на Вестбурн-плейс, акр красного дерева, частокол серебра. Эмблема различия: тот факт, что бутылки вина, праздно нежащиеся в ведре со льдом, могут быть нормальной частью нормального вечера. Шарлотта думает о Брэнуэлле. Мысль одновременно пуста и зазубрена, как разбитая яичная скорлупа. – А что касается встречи с ним, после того как я допустила колоссальнейший промах в посвящении, – нет, полагаю, я с криком убегу прочь.
Восхищенная Теккереем, польщенная, что автор «Ярмарки тщеславия» одобрительно отозвался в печати об авторе «Джен Эйр», Шарлотта обратилась к нему в предисловии ко второму изданию и посвятила книгу ему. В награду за тщеславие, быть может, она вскоре узнает, что жена мистера Теккерея, подобно жене мистера Рочестера в романе, сошла с ума и содержится под замком – в гуманном приюте, конечно, а не на чердаке, но совпадение получилось достаточно разительным, чтобы поползли слухи. Возможно, Каррер Белл или Джен Эйр работали домашними учителями в семье Теккереев, и это все объясняет… Мало кто может оказаться настолько легковерным, полагала Шарлотта. И все же при одной только мысли об этом ее щеки начинали гореть, а язык прилипал к нёбу.
– Он бы очень расстроился, если бы вы так поступили, ибо, поверьте моему слову, его нисколько не смутила абсолютно невинная ошибка. Если на то пошло, он больше переживал за вас. – Мистер Смит усаживает Шарлотту за стол. От множества приборов разбегаются глаза: сколько в таких случаях полагается есть? Она оглядывается на Энн, надеясь, что сестре уютно в обществе матери мистера Смита, по-птичьи опрятной, невозмутимой, маленькой, но глубоко чтимой пожилой женщины, у которой, наверное, глаза не только впереди, но также сзади, по бокам и на макушке. – Теккерей с головы до пят джентльмен. Между нами говоря, – мистер Смит доверительно наклоняется к Шарлотте, – иногда мне хочется, чтобы в нем было капельку меньше от джентльмена и больше от автора. Подобно изящному дилетанту, он отмахивается от того, на что способен, как будто это не имеет значения. К счастью, издание сериями припирает его к стенке и заставляет производить «Ярмарку тщеславия», нравится ему это или нет. Как вы относитесь к периодичному изданию, мисс Бронте? Это не является необходимым условием, но так хорошо подошло Теккерею и, конечно, Диккенсу…
Шарлотта качает головой.
– Нет. Я бы так не смогла. Я бы не смогла ничего сказать, зная, что люди ждут моих слов.
– Вы предпочитаете поражать их? – Хотя у стола кружит слуга, мистер Смит сам разливает вино. Он проделывает подобные вещи без суеты и хвастовства: тело изящно делает свое дело, тогда как ум внимателен и сосредоточен. А также взгляд. У мистера Смита довольно красивые глаза с массивными веками, которые обнаруживают форму глазного яблока; в то же время на щеках затаились ямочки, всегда готовые к веселью.
– Возможно. Знаю только, что в таком виде сочинительства было бы слишком много… – Шарлотта вспоминает об Эмили, – раскрытия.
Мистер Смит выглядит горячо заинтересованным: на самом деле он все время выглядит горячо заинтересованным ею. «Но лишь как автором: я знаю это. Я не стану опускать рук ради вас», – думает Шарлотта.
«Мне нужно постараться запомнить все это ради Эмили», – думает Энн. Вермишелевый суп, треска под белым соусом с устрицами, анчоусы, «седло» барашка, фаршированные телячьи лопатки, «сладкое мясо»[110], спаржа – надо запомнить это, а не тошноту – соусы из сельдерея и смородины, французский салат, фруктовое желе, меренга…
– Отнеси поднос хозяину, – говорит Тэбби Марте Браун. Кухня утопает в сальном дыму. – А я закончу с кастрюлями. Как думаете, стоит дожидаться его светлости?
– Сомневаюсь, – отвечает Эмили. – Я ни слова не могу из него вытянуть. Нет, не нужно накрывать стол ради меня одной, Тэбби. Я поем здесь.
На папином подносе три толстых ломтя вареной говядины, картофель – то ли пюре, то ли каша – по особому рецепту Тэбби, кусочек хлеба, тонко намазанный маслом. У Эмили то же самое с запретной для папиного пищеварения добавкой в виде взбитого пудинга, который был приготовлен лично ею без вмешательства Тэбби и получился воздушным и золотистым, а не напоминающим по консистенции и запаху старый сапог. Тэбби грохочет кастрюлями у раковины: нарастающую медлительность и неуклюжесть она компенсирует шумом. Сторож и Пушинка с благоговением ждут мяса, которое привыкли получать после трапезы хозяев. На несколько минут схожесть этой картины со всеми остальными воскресеньями радует Эмили; она чувствует, что все на своих местах, и это дарит счастье, как чистая холодная вода. Потом мысль об отсутствующих, о том, что они делают, медленно окрашивает чувства Эмили в темные тона, и они воспринимаются как грязное пятно.
– Вы почти ничего не поели, – говорит Тэбби, когда Эмили оттесняет ее от раковины.
– Этого хватит. Садись теперь ты кушать, Тэбби. Я домою.
– Эту кастрюлю надо сначала замочить.
Нет, не надо. Если скрести ее с рвением и яростью до тех пор, пока не обдерешь костяшки пальцев до крови, то вымоешь, несмотря на боль, усиленную к тому же горячей водой.
– Я не вижу, – говорит Энн. Они преодолели всю гамму Национальной галереи и выставки Королевской академии, и Энн имеет в виду, что, пропустив через себя столько образов, глаза уже отказываются служить. Свет факелов, леопарды, моря, жемчужины, подлесок, лица: особенно лица, которые словно хотят рассказать ей о столь многом. Не может, просто не может больше видеть.
– Это утомительно, – соглашается Шарлотта; ее застывшее лицо кажется белым как мел. Но почему-то знаешь, что для нее все иначе, что она хочет идти дальше и не терять ни минуты.