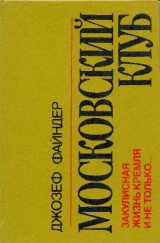
Текст книги "Московский клуб"
Автор книги: Джозеф Файндер
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
16
Москва
На следующий день после встречи с Федоровым Стефан узнал, что ему и отцу разрешено навестить в Институте судебной медицины им. Сербского его старшего брата Абрама. Обычно пациентам психушек не давали возможности встречаться ни с кем из внешнего мира, но Стефан и отец даже не задумались, чем могла быть вызвана эта неожиданная удача.
Их обоих, наоборот, переполняла страшная злоба на коварство советского правосудия, по решению которого Абрама, совершенно здорового и счастливого человека, запихнули в психбольницу. Весь мир был давно убежден, что теперь, во времена гласности, в Москве такие вещи стали уже недопустимыми, а на самом деле все оставалось по-прежнему.
– Ну, пожалуйста, – просила Соня, стоя в двери и глядя вслед уходящим Стефану и Якову, – возьмите меня с собой. Я тоже хочу увидеть Абрама.
Но Яков всегда был против афиширования их отношений. Он не хотел, чтобы ее имя ассоциировалось с фамилией Крамер. Поэтому он настоял, чтобы Соня осталась дома.
Она закусила губу, кивнула головой и провожала взглядом двух мужчин, которых она любила больше всех на свете, пока они не скрылись в промозглой темноте подъезда.
Она хотела окликнуть их еще раз, но сдержалась и стояла, прислушиваясь к удаляющимся звукам их шагов, которые становились все тише и тише. Наконец наступила полная тишина.
Несколько минут они ехали молча. Стефан ковырял набивку, вылезшую из порванной прокладки двери их старой «Волги».
– Надеюсь, они сбрили Абраму его дурацкую бороду, – неуверенно пошутил он. – Это не борода, а ужас.
Абрам был старше Стефана на двенадцать лет. Это был высокий, здоровый, красивый мужчина, но Стефан всегда дразнил брата из-за бороды, делающей его похожим на талмудиста.
Отец не засмеялся, и Стефан взглянул на него. В глазах старика отражалась мучительная боль, и это выражение еще больше усиливалось ужасными шрамами на лице.
Эти шрамы были у него со времен ГУЛАГа. Яков Крамер был красивым и жизнерадостным парнем, когда началась вторая мировая война, официально известная в СССР как Великая Отечественная. Он, как и миллионы его сверстников, самоотверженно сражался, защищая родину от фашистов. На войне он попал в плен и два года, пока не был освобожден американскими войсками, провел в немецком лагере для военнопленных. По возвращении домой он не встретил радостного приема соотечественников, а, наоборот, попал в другой концлагерь. Сталин не доверял военнопленным. Он считал, что все они подверглись идеологической обработке и были завербованы нацистской или американской разведкой. Поэтому большинство из них были брошены в лагеря.
Расположенная недалеко от Иркутска Вихоревская зона была сущим адом. Постепенно Крамер избавился ото всех иллюзий в отношении системы, ставшей причиной его несчастий. Некоторые его друзья по лагерю были сломлены ужасами лагерной жизни, но не Крамер. Он подружился с эстонцем и литовцем, разделявшими его ненависть к Кремлю. Но, в отличие от прибалтийцев, державших язык за зубами, Яков начал высказывать свое отношение к системе открыто. И некоторые заключенные, настоящие бандиты, чья злоба на то, что они оказались в лагере, выливалась в ненависть к таким смелым и искренним людям, как Яков, начали терроризировать его. Это была странная, но довольно распространенная реакция.
Однажды двое парней, назначенных на уборку помещения, украли банку сильного раствора соляной кислоты и ночью, когда Крамер спал, плеснули ею ему в лицо.
К счастью, глаза не пострадали. Но правая сторона головы была так изуродована, что с того времени он стал больше похож на чудовище, чем на человека. В лагере не было ни одного квалифицированного врача, поэтому лечили Якова смоченными спиртом тряпками, отчего страшная боль становилась еще невыносимее. Со временем ужасные красные шрамы на его лице побелели и превратились в менее заметные белые рубцы.
В 1956 году Крамер и многие другие заключенные были освобождены Хрущевым, но Яков был обречен до конца жизни остаться с этим чудовищным напоминанием о проведенном в ГУЛАГе времени. Людям было трудно смотреть на его лицо. Ему удалось стать редактором и со временем поступить на работу в издательство «Прогресс», где он занимался тем, что снабжал указателями книги. Рабочее место Крамера находилось вдали от остальных. Его начальник рассудил, что люди предпочтут не видеть постоянно страшное лицо Якова. И он был, конечно, прав.
Ненависть отца Стефана к системе была безгранична, хотя он и не высказывал ее открыто. Сейчас он сидел за рулем темнее тучи.
– Мы вытащим его оттуда, папа, – сказал Стефан. Однако оба они знали, что это практически невозможно.
Дежурный врач Зинаида Осиповна Богданова, чопорная дама средних лет в белоснежном халате, разговаривала с посетителями с некоторым оттенком презрения. Она считала себя слишком занятым человеком, чтобы беседовать с родственниками сумасшедших.
– Ваш сын шизофреник, – сообщила она. Стефан и Яков, осознавая бессмысленность спора, враждебно и молча смотрели на ее лицо. – Его официальный диагноз – преступная параноидная шизофрения. Поэтому курс лечения может быть очень долгим.
Стефан не удержался от замечания:
– Я и не знал, что существует такой психиатрический диагноз. Вы уверены, что не путаете медицину с политикой?
Врач оставила его реплику без внимания и надменным тоном продолжила:
– На свидание вам дается пять минут. Не больше. И постарайтесь не растревожить его.
Она уже повернулась, чтобы уйти, когда Стефан спросил:
– Он принимает какие-нибудь лекарства?
Она ответила так, будто Стефан тоже был сумасшедшим:
– Разумеется.
– Какие?
Она секунду помолчала и ответила:
– Успокоительные.
Несколькими минутами позже она ввела в комнату для посетителей Абрама и оставила их одних.
Стефан и Яков не верили своим глазам.
Это был совсем другой человек: исхудалый, согнутый, в сером больничном халате.
Он смотрел на отца и брата, будто видел их впервые в жизни. Из его носа текла какая-то слизь, язык вывалился, изо рта капали слюни, мокрые губы чмокали.
– О Боже… – выдохнул отец.
Абрам смотрел на них, вывалив язык, на его лице не отразилось никаких чувств.
– О Боже… – произнес Яков, обняв сына. – О Боже, что они с тобой сделали?.. – Он медленно подошел к сыну. – Абрам, это я, твой отец… – Он долго прижимал несчастного к груди, затем подошел Стефан и крепко обнял брата. Все это время лицо Абрама оставалось безучастным, глаза были полуприкрыты тяжелыми веками, он с бессмысленным выражением причмокивал губами.
– Ну, скажи что-нибудь, – попросил его Стефан. – Ты можешь что-нибудь сказать?
Но Абрам не мог…
– О Боже… – прошептал Стефан. – Я слышал о таких вещах! Один врач «скорой помощи», которого я возил, рассказывал мне, что в психдомах пациентам дают какие-то ужасные лекарства. – Он понял, что, должно быть, Абрама накачали антипсихотическим препаратом, голоперидолом. В больших дозах он вызывал именно такую реакцию организма: приводил к страшной дегенерации. Врач сказал тогда Стефану, что это называется запоздалой дискинезией.
– Его… его можно будет вылечить? – спросил отец.
– Не думаю. Этот… этот процесс необратим. О Боже… – срывающимся голосом ответил Стефан. Они оба, и он, и его отец, не могли сдержать слез, глядя на это бесформенное тело, накачанное препаратами.
Яков, плача уже открыто, опять обнял Абрама.
– Ты никогда не делал ничего плохого. Ты был… ты был таким осторожным… таким спокойным… Ты никогда не делал ничего против них… Как же они могли так с тобой поступить?
Абрам только бессмысленно смотрел на них, открыв рот. Вдруг что-то глубоко внутри него отозвалось, едва заметная вспышка гнева прорвалась сквозь толщу воздействия препаратов и наркотиков, в его глазах блеснули слезы.
– Мы должны забрать его отсюда, – тихо сказал отец.
Неожиданно появилась доктор и безапелляционно заявила:
– Мне очень жаль, но вы должны уйти. Ваше время истекло.
В тот же день поздно вечером, почти ночью, в заброшенном гараже на южной окраине Москвы два человека разговаривали при свете керосиновой лампы.
– Я решил принять твое предложение, – сказал Стефан бывшему соседу по камере. – Если, конечно, оно еще осталось в силе.
17
Штат Нью-Джерси. Ист-Нек
Женщина, которая когда-то была личным секретарем Ленина, жила в прелестном крошечном фермерском домике за аккуратно подстриженной живой изгородью и ровной лужайкой, как будто застеленной коротким дерном. Городок Ист-Нек, штат Нью-Джерси, расположен на равнине. Вдоль широких улиц стоят чистенькие, маленькие квадратные домики из рыжевато-коричневого камня с правильными квадратами лужаек перед ними. Местные жители, видимо, считали их очень уютными. На Стоуна они навели тоску.
Странно, что она жила в таком месте. Русские эмигранты последней волны в основном держались вместе и селились в больших городах, образуя шумные и колоритные маленькие России и Одессы. И даже их потомки, уже ассимилировавшись, предпочитали жить в крупных городах, население которых постоянно менялось, а не в таких маленьких среднеамериканских местечках, где все соседи знали друг друга в лицо на протяжении многих десятилетий. Было ясно, что Анна Зиновьева стремилась держаться подальше от своих соотечественников.
Стоун прибыл в Ист-Нек накануне вечером и провел ночь в мотеле, на кровати, в матрац которой был вмонтирован массажер-вибратор типа «волшебный палец». На следующий день рано утром он взял такси и поехал к Зиновьевой. Отпустив машину за несколько кварталов до ее дома, Чарли медленно подошел и предусмотрительно огляделся. Ничего подозрительного он не заметил, но после того, что произошло с Энсбэчем, ему следовало быть очень осторожным.
Еще раз проверив обстановку, он наконец удовлетворился, быстро поднялся на низенькое крыльцо и нажал на кнопку звонка.
Дверь открыла сама Анна Зиновьева. Это была сухонькая старушка с редкими растрепанными волосами, едва прикрывающими череп. Она опиралась на металлическую палку. В дверном проеме за ее спиной была видна крошечная гостиная, обставленная мягкими стульями с прямыми спинками и обитой коричневым твидом софой. Даже по тому, что можно было рассмотреть с порога, было видно, что за сорок лет в этой комнате ничего не менялось.
Глаза старушки были чуть-чуть раскосые. Это делало ее лицо немного азиатским и навело Стоуна на мысль, что у ее бывшего начальника, Ленина, во внешности тоже было что-то такое.
– Айрин Поттер? – спросил он.
– Да, я вас слушаю.
– И Анна Зиновьева, – спокойно и уже утвердительно сказал Чарли.
Старушка отрицательно покачала головой.
– Вы ошиблись, – произнесла она на плохом английском языке. – Пожалуйста, уходите.
– Я не причиню вам вреда, – тихо и убедительно, как только мог, сказал Чарли. – Мне необходимо с вами поговорить. – Он подал ей документ, отпечатанный им перед визитом на фирменном бланке ЦРУ, который когда-то давно взял у Сола. В нем на неопределенном бюрократическом языке сообщалось, что ее дело нуждается в пересмотре с целью приведения его в соответствие с требованиями текущего момента, для чего ей предлагалось ответить на ряд вопросов. Письмо было подписано несуществующим заместителем начальника отдела документации и представляло некого Чарльза Стоуна как человека, назначенного для проведения вышеупомянутого опроса.
Последний раз американская разведка беспокоила ее своими расспросами уже много десятилетий назад, поэтому старушка в какой-то мере утратила бдительность.
Она поднесла бумагу к самым глазам, серым от катаракты, и долго разглядывала текст и подписи. Она была почти слепа. Через несколько минут Зиновьева взглянула на Стоуна.
– Чего вы от меня хотите?
– Это займет всего несколько секунд, – бодро сказал Чарли. – А вам разве не звонили насчет меня?
– Нет, – подозрительно ответила старушка. – Уходите отсюда. – Она даже подняла палку, слабо пытаясь предотвратить вторжение непрошеного гостя в дом, но Стоун уже начал проходить в комнату. Бедная женщина закричала: – Уходите отсюда! Пожалуйста, уходите!
– Не беспокойтесь, – вежливо сказал Чарли, – это займет лишь несколько минут.
– Нет, – почти прошептала Зиновьева. – Они обещали мне… Они обещали, что больше не будет никаких допросов. Они обещали оставить меня в покое.
– Всего несколько вопросов. Простая формальность.
Старушка заколебалась.
– Что вам от меня надо? – повторила она с несчастным видом, делая шаг назад и пропуская Стоуна в комнату.
Но благодаря учтивым манерам Чарли подозрительность Зиновьевой в конце концов рассеялась. Сидя на покрытой прозрачным клеенчатым чехлом софе и разглаживая выцветший халат старческими, но все еще изящными руками, она, сначала запинаясь, а затем уже гладко и бегло, насколько ей позволял ее плохой английский, рассказала Стоуну историю своей жизни.
Она пришла работать к Ленину совсем юной. Ей не было еще и девятнадцати лет. Ее отец был другом Бонч-Бруевича, одного из ближайших соратников Ленина. Но она никогда не выполняла никаких обязанностей, кроме чисто канцелярских. С 1918 года, когда советское правительство переехало из Петрограда в Москву, Зиновьева перепечатывала бесконечные письма вождя. В 1923 году она вместе с ним переехала в Горки, где ему суждено было умереть.
Через несколько лет после смерти Ленина Зиновьева попросила разрешения эмигрировать в США. Так как она честно послужила на благо отечества, ей дали визу. Она сказала, что была самой молодой из секретарш Ленина, поэтому ни к какой секретной информации ее не допускали. Но, конечно, она не станет утверждать, что ничего не видела и не слышала.
Проговорив часа полтора, Чарли заметил, что подозрительность в ее глазах исчезла, взгляд старушки становился попеременно то спокойным, то вызывающим.
– Тридцать два года от вашей знаменитой разведки не было ни слуху ни духу, – злобно сказала Зиновьева. – А теперь вы вдруг мною так заинтересовались.
– Я ведь уже сказал вам: это такой порядок. Мы заполняем белые пятна в вашем деле.
Ему сначала показалось, что она его не поняла, но старушка вдруг игриво улыбнулась и сказала:
– А у вас не должно быть никаких белых пятен, – в эту минуту ее старое и мудрое лицо приобрело выражение семнадцатилетней кокетки.
– Мои вопросы не отнимут у вас много времени.
– У меня вообще осталось не слишком много времени, – спокойно, без тени жалости к себе произнесла Зиновьева. – Скоро вы наконец сможете прекратить разорять ЦРУ, посылая мне бесконечные чеки и бесчисленные сокровища.
– Да, начальство у нас не слишком щедрое, – согласился Стоун. Управление действительно не баловало перебежчиков.
– В России за мою работу с Лениным мне бы назначили огромную пенсию, – проворчала она. – Иногда я сама себе не могу сказать, зачем я уехала.
Стоун сочувственно кивнул и спросил:
– Может, я могу вам чем-нибудь помочь?..
– Послушайте, – прервала его Зиновьева, – я уже старуха. Я живу в этой стране уже больше шестидесяти лет. И если великая американская разведка до сих пор не вытянула из меня крохи известной мне информации, то все это не так уж важно. – Она подняла голову, склонила ее на плечо и улыбнулась. – Так что не тратьте понапрасну время.
– Что, это относится и к завещанию Ленина?
Зиновьева резко вздрогнула и напряглась, но через несколько секунд взяла себя в руки и, хитро улыбнувшись, спросила:
– Вы приехали сюда поговорить со мной об истории? Могли бы просто почитать книги. Об этом завещании теперь знают абсолютно все.
– Я имею в виду другое завещание Ленина.
– Да? А что, было какое-то другое? – Зиновьева с показной скукой пожала плечами. Она нервно вертела в руках пустую чайную чашку.
– Я думаю, вы и сами знаете.
– А я думаю, что нет, – отрезала она.
Стоун улыбнулся и решил положить конец этим препирательствам.
– Это выяснилось в ходе плановой проверки вашего дела, – сказал он и замолчал, ожидая ее ответа. Но старуха молчала. Тогда он произнес как можно безразличнее:
– Он ведь был отравлен, не так ли?
Она опять долго не отвечала и когда наконец собралась, слова ее почти потонули в гуле холодильника, включившегося вдруг в соседней с комнатой кухне.
– Я думаю, да, – торжественно произнесла она.
– Что заставляет вас так думать?
– Он… он написал об этом и дал мне перепечатать это письмо. Попросил сделать два экземпляра: для Крупской, его жены, и для… – она вдруг замолчала.
– Так кому предназначался второй экземпляр?
Зиновьева сделала слабый жест рукой и произнесла с безнадежностью в голосе:
– Я не знаю.
– Знаете.
Последовало долгое молчание, затем Стоун продолжил:
– Ваш контракт предусматривает полное сотрудничество. В противном случае в моей власти прекратить материальную поддержку…
Она торопливо перебила его, слова посыпались, как горошины:
– Понимаете, это было так давно… Да это и неважно. Был какой-то иностранец. Ленин боялся, что в его же доме против него что-то замышляют… Думаю, что так оно и было. Все, даже садовник, повар и шофер, были сотрудниками ОГПУ, секретной полиции.
Теперь она говорила так быстро, что Стоун с трудом понимал ее.
– Почему? Почему он отдал второй экземпляр иностранцу? – переспросил он.
– Он боялся Сталина, боялся, что Сталин может сделать что-нибудь с Крупской. Ленин хотел быть уверенным, что документ будет увезен из страны.
– Кто был этот иностранец?
Она отрицательно покачала головой.
– Вы ведь знаете его имя, верно? – ровно произнес Стоун.
Зиновьева не могла больше сопротивляться.
– Это был высокий и красивый американец. Бизнесмен. Ленин встречался с ним несколько раз. Но это все неважно.
– Его имя?
– Уинтроп Леман.
После долгой паузы она, немного скосив глаза, тихо повторила:
– Леман… Ленин встречался с ним несколько раз.
– Он приезжал в Горки?
– Да. Уинтроп Леман.
– О чем говорилось в письме? О возможном отравлении?
– Не только, – она опять говорила очень медленно, – Ленин сделал кое-какие наброски… накануне отъезда в Горки. Он был тогда уже болен. В них он очень плохо отзывается о советском государстве. Признается, что совершил чудовищную ошибку, что Советский Союз становится государством террора. Он пишет, что напоминает сам себе… доктора Франкенштейна, создавшего ужасное чудовище.
Она замолчала.
– Значит, этот документ – решительное осуждение советского государства самим же его создателем, – тихо произнес Чарли. Слова прозвучали по-дурацки, как будто он сказал прописную истину. – И сейчас он у Лемана.
– Как-то раз Ленин потребовал отвезти его в Москву. Мы пытались отговорить его, но он настоял на своем. Всю дорогу он подгонял шофера. В Москве он сразу поехал в Кремль и пошел в свой кабинет.
– Вы были с ним?
– Нет. Я узнала обо всем этом уже позже. Он осмотрел стол в своем кабинете и увидел, что секретный ящик открыт. Он обыскал все, он был взбешен, кричал на всех вокруг. Но письмо пропало… Но он… он восстановил его по памяти.
– И продиктовал его вам, – продолжил Стоун. – Это и был документ, напечатанный вами в двух экземплярах…
– Да.
– У вас есть свой экземпляр?
– Нет, конечно, нет. Я его даже почти не помню.
– А что случилось с экземпляром Крупской?
– У нее его наверняка отобрали.
– А копия Лемана?
– Я не знаю. – Из соседней кухни доносился запах куриного бульона, щедро приправленного чесноком.
Чарли вдохнул уютный запах старого дома, оглядел комнату и спросил:
– А почему вы считаете, что его отравили? И кто это мог сделать?
– Пожалуйста, не ворошите всего этого, – взмолилась она. – Пусть люди думают, что Ильич умер своей смертью, тихо и мирно.
– Но ведь было произведено вскрытие, не так ли? Мне кажется, что…
– Ладно, – Зиновьева, слабо взмахнув рукой, выразила свое согласие со сказанным Чарли. – Да, вскрытие было. Врач обследовал внутренние органы, но ничего подозрительного не обнаружил. Тогда вскрыли череп… – Она скроила гримасу отвращения и продолжила: – Мозг был… как камень. Он у него затвердел. За-твер-дел, – произнося это слово, она постучала указательным пальцем по столу. – Когда по нему постучали скальпелем, он звенел.
– Это артериосклероз. А они искали следы отравления в организме? – тут Чарли перешел на русский язык: он не сомневался, что бедной старушке так будет намного легче. И действительно, она взглянула на него с благодарностью и ответила:
– Нет, зачем им это было нужно?
– У них что, не было оснований подозревать, что Ленин отравлен?
– А вы знаете, что личный врач Ильича, доктор Готье, просто отказался подписывать заключение о вскрытии? Он отказался! Он точно знал, что Ленина отравили. Это же исторический факт!
Стоун молча уставился на нее.
Зиновьева многозначительно кивнула.
– Я думаю, что Готье знал обо всем.
– Но кто это сделал? Кто его отравил?
– Я думаю, что кто-нибудь из обслуги. Они ведь все работали на ОГПУ. Сталин хотел убрать Ленина, чтобы захватить власть в стране. А почему вы опять всем этим заинтересовались? Почему опять спрашиваете об этом?
– Опять?
– Ну, я же все вам рассказывала еще тогда, в 1953 году.
– В 1953 году? – Слышно было, как в паре кварталов от дома прогромыхал автобус. – Кто именно расспрашивал вас тогда?
Анна Зиновьева долго смотрела на Стоуна серыми от катаракты глазами. Она как будто не поняла его вопроса. Затем старушка медленно поднялась, опираясь одной рукой на алюминиевую палку, другой – на ручку кресла.
– Я раньше всегда читала газеты, – с вызовом заявила она. – И у меня отличная память на лица. Ильич всегда хвалил меня за это. – Она подошла к буфету из орехового дерева, выдвинула один из ящиков, вытащила из него тяжелый альбом для газетных вырезок в зеленом кожаном переплете и положила его на блестящую полированную полку. – Подойдите сюда, – позвала она.
Стоун подошел к буфету. Зиновьева медленно, как будто они были свинцовые, перелистывала страницы.
– Вот, нашла, – наконец произнесла она, склонившись к самому альбому, почти касаясь его лицом.
Она указала на неровно вырезанную пожелтевшую заметку из эмигрантской газеты «Новое русское слово», издаваемой в Нью-Йорке. От даты, поставленной внизу, остался только год – 1965. Месяц и число были небрежно отрезаны ножницами при вырезании статьи из газеты.
– Я тоже узнал этого человека, – сказал Стоун, стараясь скрыть свое потрясение. На фотографии был изображен Уильям Армитидж, государственный служащий госдепартамента США, назначенный, как сообщалось в статье, на пост помощника госсекретаря. Стоун знал, что и сейчас Армитидж является заместителем госсекретаря США. Это был очень влиятельный человек, представитель высшего эшелона власти. И именно с ним говорил Сол Энсбэч буквально за несколько часов до того, как был убит.
– Это он тогда с вами беседовал?
– Да, он. Это Армитидж.
Чарли кивнул. Сол знал, что в стране все прогнило. Насколько же высоко распространилась эта гниль?
– А что ему от вас было нужно? Почему он вдруг в 1953 году заинтересовался тем, что случилось в 1924 году?
Старуха посмотрела на него сердито, дивясь его тупости.
– Его заинтересовало то, что тогда произошло совсем недавно. Его заинтересовало нападение на мой дом и угрозы.
– Угрозы?
Она почти закричала:
– Да, угрозы! Угрозы! – на ее лице появилось выражение ужаса.
– Кто вам угрожал? Надеюсь, не наши агенты?
– Мне угрожали русские. – В глазах старушки блеснули слезы. – Вам же все это отлично известно. Не надо…
– Почему они вам угрожали? – тихо перебил ее Чарли.
– Они… – она медленно покачала головой, отчего слезы потекли по ее щекам, – они искали это проклятое завещание. Они были уверены, что оно у меня. Перевернули вверх ногами весь дом и сказали, что убьют меня. Я им говорила, что у меня ничего нет…
– Кто это был?
– Чекисты. Люди Берии. – Зиновьева объясняла все, как будто разговаривая с маленьким ребенком. – Я была так напугана… Они часто повторяли слово «иконоборчество».
– То есть уничтожение икон.
– Да. Они все говорили: «Первым мы уничтожим этого ублюдка Ленина. Эту чертову икону».
Стоун кивнул. Да, в СССР было такое подпольное движение озлобленных противников Ленина.
– А этот американец, Армитидж, чего конкретно он хотел?
– Он хотел узнать, что они мне тогда говорили. Я сказала ему, что они просто требовали документ, которого у меня никогда и не было.
– Вы сказали ему не все, – заметил Стоун, но не обвиняющим, а, наоборот, сочувствующим тоном.
– Он мне долго не верил. Затем предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не рассказывала никому об этих чекистах, обо всем, что тогда произошло. Он сказал, что мне придется плохо, если я проболтаюсь. Поэтому я и удивилась, что вы опять начали расспрашивать меня обо всем этом.
– Он хотел, чтобы все осталось в тайне.
– Он хотел, чтобы я молчала, – согласилась она. – Чтобы я никому ничего не говорила. Вы киваете… Вы, должно быть, понимаете меня…
– Но ведь чекисты могли взять документ и у Лемана, разве нет?
Губы старухи задрожали, она поискала невидящими глазами лицо Стоуна.
– Нет, – наконец произнесла она. – Я слышала…
– Что?
– Мне говорили… мне говорили, что у них не было в этом никакой надобности, потому что Сталин… он имел власть над этим человеком. А может, они не могли этого сделать потому, что у них был с ним какой-то договор. Я не знаю… – Она, казалось, теряла нить разговора, лицо стало серым от усталости.
– Договор?
– Сталин… это был страшный человек. Он знал что-то, что дало ему власть над этим американцем.
…Моя мама, съежившись, прижимается к старому холодильнику. По ее щекам текут синие от косметики слезы, она кричит: «Я не заставляла тебя садиться в тюрьму! Почему ты сердишься на меня?! Сердись на того, кто в этом виноват!»
Да.
Итак, Сталин контролировал Лемана… Чарли был ошеломлен. Да могло ли такое случиться? Советник Рузвельта и Трумэна, человек, из-за которого Элфрид Стоун попал в тюрьму. Не это ли секрет Лемана, ради сокрытия которого он пошел на такую подлость? Непостижимо, чтобы Леман имел какие-то тайные связи с советским правительством…
– А что могло дать ему эту власть? – спросил он.
– Я не знаю. Я ничего не знаю, никаких великих секретов. Я была только секретарем. Вы должны разбираться в этом намного лучше меня.
– Вы правы, – признался Стоун, чувствуя, что его опять охватывает страх.
С улицы донеслись крики играющих детей, опять проревела машина, в которой давно следовало сменить глушитель, и снова стало тихо. Чарли слышал бешеное биение своего сердца.
Он подумал: «Конечно, американцы, кто бы ни стоял за всем этим, сделают все возможное, чтобы никто не узнал, что они принимали участие в ниспровержении советского правительства».
Стоун оглядел убогую маленькую комнату, взглянул на старуху, чьи запавшие глаза – глаза, которые когда-то видели Ленина, были усталыми и тусклыми от старости, и подумал: «А сейчас они делают новую ошибку, ввязываясь во все это».
За окном опять взревела машина с изношенным глушителем. Она промчалась. Наступила мертвая тишина.








