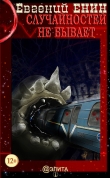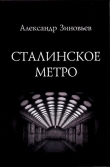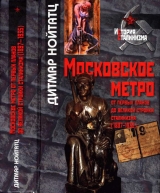
Текст книги "Московское метро: от первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935)"
Автор книги: Дитмар Нойтатц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 53 страниц)
Вскоре пришлось столкнуться с геологическими и техническими проблемами, с которыми нельзя было справиться на основе примитивных, ремесленных методов {436} . Уже в мае 1932 г. пять шахт было законсервировано, поскольку в них оказалось невозможным продолжать проходку {437} . Из угледобывающих районов были доставлены шахтеры, которые применили свою методику проходки с использованием деревянной крепи. Однако из-за близости грунтовых вод дерево быстро гнило, что приводило к обвалам и прорыву грунтовых вод {438} .
До конца 1932 г. из 18 шахт с запланированной общей глубиной проходки 498 м реально было пройдено на 4 шахтах всего 68 м. Прочие 14 шахт неоднократно консервировались, а отчасти и вовсе были закрыты {439} .
Одной из причин неудач являлось гидрологическое состояние грунта. Предсказанный Маковским стабильный слой юрского периода, на котором покоилась идея глубокой проходки, оказался в значительной мере заблуждением. В ходе работ выяснилось, что этот слой во многих местах оказался тоньше, чем ожидалось, или вообще отсутствовал. Самое плохое заключалось в том, что и этот слой не отличался стабильностью, легко размывался водой и под влиянием грунтовых вод превращался в плывуны (плавучие пески) [44]44
Стенограмма беседы с главным инженером геологических работ Мильнером, 2 февраля 1935 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Он. 7. Д. 316. Л. 313-314). Плавучими песками в горном деле называются насыщенные водой пески, которые при обнажении ведут себя аналогично густой жидкости. Плывуны проявлялись в Москве прежде всего в районе подземных водных потоков, пересекавших линии метро. Старая Москвы была изрезана речками и оврагами, которые со временем были засыпаны или осушены. Подземные речки протекали на глубине менее 25 м, т. е. выше уровня строящихся тоннелей глубокого залегания. Часть потоков направлялась по трубам, другая часть под ними протекала в форме плывунов. Ширина русла таких потоков достигала 300 м (Стенограмма беседы с начальником 4-й дистанции Соколовым. ГА РФ. Ф. Р-7952. Оп. 7. Д. 308. Л. 223-224). На трассе первой очереди строительства пришлось преодолеть пять таких потоков: ручей Черторый под Арбатом и у Дворца Советов, речку Неглинку у пл. Свердлова и под Александровским садом, речки Ольховку и Ольховец на Каланчевской ул. у Казанского вокзала и речки Чечора и Рыбинка между Каланчевской пл. и Сокольниками (см. рис. 28) (Федорова. 1981. С. 6-7). Неглинка в ходе реконструкции Манежной пл. в 1997 г. частично вновь выведена на поверхность в районе Александровского сада.
[Закрыть].
Пока летом 1932 г. работы продвигались ни шатко ни валко, комиссии экспертов в составе советских, немецких, французских и английских специалистов подготовили свои заключения. Обнародованные в августе 1932 г. отзывы резко различались между собой и отражали преференции иностранных фирм в практике строительства метрополитена: немецкая комиссия (Сименс-Бауюнион) отдавала предпочтение берлинскому способу. Для сохранения уличного движения котлованы предлагалось перекрывать, а линии городских коммуникаций подвешивать на опорах. Против технологии глубокого залегания немцы приводили аргументы, что такое метро обойдется дороже при строительстве и эксплуатации, является технически сложным в геологических условиях Москвы и, кроме того, окажется неудобным для пассажиров. Французская комиссия в составе инженеров Шарпантье, Виар, Анри и Леле из фирмы «Густав Томсон» (Gustav Thomson) также отвергла принцип глубокого залегания, став на сторону парижского и берлинского метода неглубокой проходки. Английские эксперты (консультант Андерсон, директор Пик) высказалась за комбинацию щитового метода и открытого способа строительства. Они предлагали проложить глубокую линию между Сокольниками и библиотекой Ленина с использованием 10 импортированных из Англии горнопроходческих щитов, а далее в направлении Крымской пл. постепенно перейти к открытому способу строительства на небольшой глубине {440} . Комбинированное решение предлагала также советская комиссия экспертов под председательством академика Губкина: между пл. Свердлова и Дворцом Советов трасса метро проходит на большой глубине, затем постепенно поднимается к поверхности, линии от Дворца Советов и до Крымской пл. и на Арбатском радиусе сооружаются открытым способом {441} . По поводу участка между Сокольниками и пл. Свердлова советская комиссия не высказала мнения, поскольку решением Политбюро от 23 мая 1932 г. здесь уже была намечена линия глубокого залегания.
По поводу схемы линий метрополитена французская комиссия не решилась высказать свое мнение {442} . Английские и немецкие эксперты одобрили ее и предложили небольшие дополнения {443} . Советская же комиссия потребовала существенных исправлений: запроектированную на юго-востоке Москвы промышленную зону требовалось связать не только с центром, но и с районами проживания рабочей силы. Необходима также была кольцевая линия, которая должна была проходить по Садовому кольцу и соединять некоторые крупные предприятия (заводы «Серп и Молот», АМО-ЗиС) и Парк культуры и отдыха им. Горького {444} .
Результаты работы комиссий обсуждались на партсобраниях, совещаниях специалистов и в прессе, а затем совместно с обоими проектами Метростроя опубликованы в виде книги {445} . Ротерт. продолжал упорствовать и в июле 1932 г., ссылаясь на результаты работы комиссий, вновь выступил за открытый способ строительства за исключением одного участка в центре города (между Охотным рядом и Красными воротами). Сверх того реальным сроком окончания работ на первой очереди строительства он называл теперь конец 1934 г. {446} Оба его предложения – вероятно, под впечатлением неудач с прокладкой вновь заложенных шахт – фактически не считались с решением Политбюро от 23 мая 1932 г. Каганович на это раздраженно отвечал, что Ротерт. упрощает выводы комиссий и намечает «неверные» сроки {447} . В декабре 1932 г. Ротерт. представил новую версию своего проекта. Теперь он придавал большее значение линиям глубокого залегания, но по-прежнему предусматривал на участке от Каланчевской пл. до Сокольников применение открытого способа строительства и отодвигал срок завершения работ еще на один год, а именно на октябрь 1935 г. {448} Московский горком партии в начале января 1933 г. обсудил этот доклад, постановив принять за основу строительства заключение советской экспертной комиссии и просить Центральный комитет ВКП(б) продлить срок завершения работы над объектом с 1 января на 1 декабря 1934 г. Для окончательного определения способа сооружения было принято решение провести заново геологические изыскания на каждом отдельном участке. Схема линий метро при этом оставалась неизменной {449} .
Каганович принял решение на основе множества совещаний и технических консультаций, для участия в которых привлек в партийный комитет авторитетных геологов и других ученых {450} . Насколько позволяют судить источники, для Кагановича в первую очередь важно было определиться со способом строительства, который в минимальной мере затрагивал бы городскую жизнь, вероятно, чтобы не настроить население города против стройки. Возможно, свою роль сыграли и военные соображения: в самом начале дискуссии инженер Маковский обратил внимание Хрущева на то обстоятельство, что в случае войны тоннели глубокого залегания смогут служить надежными бомбоубежищами, чем привлек Хрущева на свою сторону {451} . По свидетельству внука одного из метростроевцев, Каганович приказал на военном полигоне проложить фрагменты метротоннелей на различной глубине и бомбардировать их с воздуха, чтобы проверить пригодность в качестве защитных сооружений {452} . В газете «Вечерняя Москва» в начале 1933 г. появилась статья с требованием соблюдать при строительстве метро правила противовоздушной обороны и потому прокладывать тоннели глубокого залегания, оборудовав ряд станций газонепроницаемыми переборками {453} .
Еще до принятия окончательного решения партией о способе строительства, руководство Метростроя в начале ноября распорядилось о прекращении работ глубокого залегания. Экспериментальный участок, теперь шахта № 29, был перестроен на первоначальную глубину. Прочие шахты были ликвидированы, и вновь перешли к открытому методу строительства {454} .
Итог деятельности Метростроя к концу 1932 г. выглядел неутешительно: с момента создания организации прошло 16 месяцев, а до сих пор не было утвержденного технического проекта, на основе которого можно было бы начать детальное проектирование, не говоря уже о самом строительстве {455} . Там, где, несмотря на отсутствие необходимых предпосылок, попытались приступить к прокладке шахт, потерпели неудачу. Инженеры и рабочие были разочарованы. Инженер Кучеренко вспоминал, что люди сидели у шахт и плакали. Он сам, инженер-мостостроитель и специалист по кессонной технике, трудился на постройке бараков на Арбатском участке, где царила полная неразбериха: «Ничего не знают, опять занялись бараками. Основные работы стояли. Никто не знал, каким способом строить: открытым ли, закрытым или траншейным. Идет дискуссия, идет борьба, а установки никакой нет. Посовещаемся вечером, посовещаемся днем, придешь, посмотришь на этот барак, и в конце концов досовещались до того, что законсервировали Арбат как ненужный участок. Закрыли, ликвидировали его» {456} .
Разочарованный ходом дела, заместитель начальника Метростроя инженер Осколков осенью 1932 г. написал заявление об уходе, заметив, что дешевле купить каждому десятому москвичу автомобиль, чем построить метро. Тогда люди могли бы реально ездить, в то время как при теперешних темпах проектирования и производства работ неизвестно, когда же метрополитен вступит в строй {457} .
Помимо волокиты из-за дискуссии о способе строительства явно не на высоте были организация и снабжение стройки: Ротерт. обустраивал трассу, как на обычной железной дороге, т. е. с разделением на пять участков, на каждом своя администрация с обширным аппаратом. Участки делились на дистанции, дистанции – на шахты, так что между начальником Метростроя и рабочим на стройплощадке находились четыре административные инстанции {458} . Получили развитие параллелизм в руководстве и безответственность. Участки стали рассадником мелких строительных начальников {459} . В июле 1932 г. на стройке было занято 5299 рабочих и инженерно-технических служащих, которым противостояла раздутая армия управленцев в количестве 2217 чел. {460}
В декабре 1932 г. впервые был подсчитан объем предстоящих и осуществленных работ, а также составлена смета потребности в рабочей силе, материалах, деньгах и транспортных средствах. Количественные параметры, только теперь появившиеся на свет, застали руководство Метростроя врасплох и вынудили самым серьезным образом взяться за строительство {461} . Уже нельзя было рассчитывать на то, чтобы до конца 1935 г. сдать в эксплуатацию требуемые 58 км путей, как надеялись еще в июле 1932 г. {462}
Тот образ действий, которому в 1931/32 г. следовали строители московского метро, не был единичным случаем. Множество новостроек первой пятилетки было заложено до разработки планов строительства. Когда план оказывался наконец завершен, все приходилось менять или даже начинать заново. В конце 1934 г. правительство запретило приступать к строительству до тех пор, пока не будут утверждены план и механизм финансирования стройки. Проблема эта, очевидно, так и не была изжита, поскольку даже в 1936 г. в прессе продолжали клеймить такого рода недостатки {463} .
Б) 1933 г.: на пути к преодолению кризисаПосле провальных попыток начать стройку и бесконечных дискуссий в 1933 г. было принято несколько важных решений, на основе которых впервые смогли приступить к планомерным строительным работам. В декабре 1932 г. Каганович вызвал к себе руководство Метростроя, начальников участков, шахт и дистанций, а также секретарей парторганизаций с отчетом о проделанной работе. Он потребовал от них прекратить дискуссию о способах строительства и назвать реальные сроки сдачи участков в эксплуатацию {464} .
Резолюция московского городского и областного комитета партии «О ходе работ по строительству метрополитена», принятая 28 февраля 1933 г. совместно с президиумом Моссовета, обозначила переход ко второй, более эффективной фазе строительства. Руководству Метро-строя поручалось на основе принципа единоначалия {465} ввести строжайшую дисциплину в управленческом аппарате и на строительных объектах, а также представить к 1 марта 1933 г. технический проект. Были одобрены предложенные Метростроем календарные планы работ по отдельным участкам. Что же касается способа строительства, то в резолюции молчаливо пересматривалось решение Политбюро от 23 мая 1932 г. Партия поддалась давлению аргументов Ротерта и для участков Сокольники – Красные ворота и Дворец Советов – Крымская пл. признала целесообразным открытый способ строительства. На трассе же Красные ворота – Смоленская пл. предусматривался закрытый способ. Сверх всего прочего Метрострой обязывался реорганизовать свой аппарат, сократив к 1 марта 1933 г. штат управленцев на треть {466} .
В дополнительной резолюции перечислялись конкретные меры: руководители строительства отныне должны минимум половину своего рабочего времени проводить непосредственно на объекте, а не в конторе. От начальников требовалось полностью использовать предоставленные им административные права, не разводя «мелкобуржуазный демократизм». Ротерту приказали в течение месяца представить план механизации работ. В качестве стимулирующего фактора для рабочих вводилась сдельная оплата, причем рабочим, занятым в шахте, устанавливалась оплата на 25% выше по сравнению с обычным уровнем зарплаты в строительной отрасли. Руководство Метростроя и профсоюзный комитет обязывались организовать техническое обучение рабочих. Каждый принимаемый на шахту рабочий обязан был впредь пройти курс обучения, необходимый для усвоения «технического минимума». Партийному комитету Метростроя поручалось проверить распределение коммунистов и комсомольцев в шахтах и позаботиться о том, чтобы в каждой рабочей смене имелось твердое ядро коммунистов и комсомольцев, способное вести за собой остальных рабочих. Московская организация комсомола должна была с этой целью мобилизовать на строительство метро 1 тысячу комсомольцев московских предприятий. Перед Моссоветом была поставлена задача улучшения условий жизни метростроевцев {467} . Для придания постановлению местных партийных органов большего веса оно было представлено на утверждение Центральному комитету ВКП(б) {468} .
Однако никаких изменений не произошло, и в марте 1933 г. Каганович повторно вызвал руководство Метростроя в горком партии. Заместитель Ротерта Крутов был уволен со своей должности. Ротерт. объяснял отсутствие сдвигов на стройке слабой поддержкой со стороны партии и профсоюзов, его второй заместитель Рошаль и секретарь парторганизации Метростроя Сивачев выступили с критикой стиля руководства Ротерта. Каганович поручил Хрущеву и Булганину проверить управленческий аппарат и стройплощадки Метростроя {469} .
После того как Метрострой представил технический проект, Политбюро и Совнарком соответственно 20 и 21 марта 1933 г. опубликовали обширное постановление о строительстве метрополитена.
Высшие инстанции на основе заключений экспертных комиссий и новейшего проекта Метростроя вынесли следующее решение: утвердить схему линий, в основе повторяющую предложенный в ноябре 1931 г. вариант (см. рис. 19, табл. 4), общей протяженностью 80,3 км [45]45
Ср. разъяснения инженера Циреса (Цирес, Семенов и др. За лучший… 1933. С. 14). Некоторые частности были все же изменены: Усачевский радиус получил на звание Фрунзенского, Тверской после переименования Тверской ул. в ул. Горького стал Горьковским. Станции «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова» были объединены, поскольку расстояние между ними оказалось совсем невелико. Станция «Фрунзе» (между библиотекой Ленина и Дворцом Советов) была упразднена, и Краснопресненский радиус пересекался теперь с Фрунзенским у Дворца Советов, получив тем самым вторую линию. Станции «Мансуриков переулок» (между Дворцом Советов и Крымской пл.) и «Серебряный переулок» (на Арбате) также были отменены. Дзержинский радиус теперь проходил не через пл. Дзержинского, где оказалось слишком сложно соорудить трехуровневую пересадочную станцию, а через Трубную пл. (пересадка на сквозную железнодорожную линию) и пл. Свердлова (пересадка на линию метро пер вой очереди).
[Закрыть].
Решение по поводу способа строительства обосновывалось для каждого отдельного участка: от Сокольников до Красных ворот линия прокладывалась открытым способом, поскольку улицы здесь были достаточной ширины, а геологические условия неблагоприятны для строительства закрытым способом. Последний должен был применяться только у Митьковской эстакады (экспериментальный участок). Между Красными воротами и библиотекой Ленина намечалась прокладка тоннелей глубокого залегания, поскольку этот участок располагался в центральной части города с оживленным уличным движением. От библиотеки Ленина до Кропоткинской пл. стройка должна была вестись снова открытым способом. Последний участок пересекал ул. Остоженка, движение на которой было невелико, и эту улицу можно было миновать по параллельным трассам. Для Арбатского же радиуса предусмотрели закрытый способ, чтобы не направлять оживленное уличное движение по объездным путям.
Срок окончания первой очереди метро был перенесен с 1 января на 1 декабря 1934 г., одновременно инвестиции на 1933 г. по статье строительства канала Москва-Волга были повышены с 80 до 110 млн. руб. Госплану и Совету труда и обороны было дано указание снабжать Метрострой материалами и оборудованием лучше, чем прежде. Московский комитет партии, Моссовет и Метрострой обязывались устранить недостатки при организации работ, обеспечив также финансовую дисциплину и высокое качество строительства {470} .
В тот же день, 20 марта 1933 г., Политбюро приняло основополагающее постановление о реорганизации работы на шахтах Донбасса, на которых возникли затруднения. Постановление имело в виду и Метрострой, став основой его реорганизации, хотя прямо в документе об этом не говорилось {471} . Реформа была нацелена на то, чтобы эффективнее наладить работу с помощью механизации, строгого единоначалия, лучшей организации труда, социалистического соревнования, сдельной оплаты на основе норм, разработанных при хронометрическом изучении трудового процесса, перехода к хозрасчету и лучшего снабжения рабочих [46]46
Ср. указания Метрострою в постановлении Моссовета от 4 апреля 1933 г. (ГА РФ. Ф. Р-7952. Оп. 7. Д. 138. Л. 197-198). Хозрасчет означал, что предприятие следует вести на основе принципов экономики и организации производства. Хозрасчет был одним из «шести условий хозяйственного строительства», которые Сталин сформулировал в июне 1931 г. в одном из своих директивных выступлений (см.: Сталин И. В. Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства. Речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г. // Сталин И. В. Соч. Т. 13: июль 1930 – январь 1934. М, 1951. С. 51-80).
[Закрыть].
С этим была тесно связана четкая организация управленческого аппарата Метростроя. Участки, которые разрослись до громоздкого средостения между центральным аппаратом и строительными объектами, по настоянию Кагановича и Хрущева были ликвидированы, несмотря на сопротивление Ротерта {472} . Основными административными единицами стали теперь шахты (при закрытом способе строительства) и дистанции (открытый способ). Отчасти им было придано новое руководство. С этой целью к строительству метрополитена привлекли опытных горных инженеров из Донбасса и переместили на стройплощадки инженеров из руководящего аппарата {473} .
Начальник угольного треста в Донбассе Егор Трофимович Абакумов из-за совершенных ошибок лишился своего поста и был назначен заместителем начальника Метростроя {474} . Уволить Абакумова от прежней должности порекомендовал Политбюро Молотов. Инициатором его перемещения на Метрострой стал Каганович, который видел в Абакумове верного товарища по партии, который мог хорошо сработаться с Хрущевым, поскольку они были хорошо знакомы с 1912 г., когда вместе трудились на одном горно-металлургическом заводе. Хрущев, не доверявший Ротерту, даже предложил своего старого друга на пост начальника Метростроя, однако для этого, с точки зрения Кагановича, ему не хватало высшего технического образования {475} .
Егор Абакумов, родившийся в 1895 г. в Донбассе, не был ни инженером, ни специалистом-строителем, а простым выдвиженцем из рабочих, и прошел после революции путь от шахтера до начальника треста, обойдясь без дополнительного образования {476} . Он был примечательной фигурой своего времени, выделялся знанием народных поговорок и шуток и был хорошо известен на всех шахтах {477} . Благодаря своей связи с народной массой он быстро завоевал высокий авторитет и среди рабочих-метростроевцев. Отношения с Ротертом у него не сложились, так как они были совершенно разными по характеру людьми: Ротерт – спокойный и сдержанный, Абакумов – бурный и эмоциональный {478} , да и Ротерт считал Абакумова в профессиональном плане малополезным. В частных беседах начальник Метростроя называл своего заместителя «дураком», не имеющим никакого представления о строительстве метрополитена {479} .
Несмотря на все это, с прибытием Абакумова на Метрострое началась новая эра. Его сильными сторонами были организационный талант и настойчивость в достижении поставленной цели {480} . В течение мая 1933 г. Абакумову удалось перестроить аппарат и стиль работы Метростроя согласно директивам Политбюро. Кроме того, он привез с собой значительное число инженеров, техников и шахтеров из Донбасса, обладавших опытом прокладки тоннелей глубокого залегания {481} . Впрочем, возник известный антагонизм между первыми строителями и шахтерами, так как первые считали строительство метро своим делом и считали неуместным вмешательство со стороны горняков {482} .
Настоящий перелом в работу Метростроя внесла мобилизация комсомольцев московских предприятий, о которой шла речь в партийном постановлении от 28 февраля 1933 г. Ранее доля коммунистов и комсомольцев среди метростроевцев была крайне невелика. Трудовая мораль рабочих в целом была низка, мотивация труда также весьма слаба {483} . Партийная организация – насколько она вообще существовала на строительных объектах – могла опереться лишь на немногочисленных членов партии. С призывом комсомольцев ситуация радикально изменилась. Летом и осенью 1933 г. на Метрострой хлынули три волны комсомольцев – сначала 1 тыс. чел., затем 2 тыс. и наконец 10 тыс. {484} Совместно с 1 тыс. коммунистов, мобилизованных районными комитетами партии, и 500 избранными беспартийными ударниками {485} они призваны были образовать прочное ядро метростроевцев и гарантировать влияние, контроль и воспитание «отсталых» рабочих {486} .
Из 13 тыс. призванных по мобилизации комсомольцев едва ли половина была действительно занята на строительных объектах {487} ; прочие либо не явились на стройку, либо сбежали с нее. Те же, кто остался, отличались высокой мотивацией, в удивительно короткий срок приобрели необходимую квалификацию и в течение нескольких недель заняли руководящие позиции среди рабочих {488} . Они сформировали отчасти собственные комсомольские бригады, отчасти же влились в существующие бригады, укрепив в них прослойку комсомольцев и коммунистов {489} . Чаще всего мобилизованные забирали в свои руки ведущие позиции в партийной, комсомольской и профсоюзной работе, развивая социалистическое соревнование и движение «ударников» {490} .
Наряду с проблемами организации, руководства и мотивации труда в 1933 г. удалось решить и техническую проблему, с которой ранее не могли справиться. В начале апреля 1933 г. впервые на трех шахтах Мясницкого радиуса наметился существенный прогресс. Прочие шахты и дистанции следовало сначала реконструировать, перестроить с закрытого на открытый способ работ или заложить заново. На Фрунзенском и Арбатском радиусе пока велись лишь подготовительные работы. С апреля по июль 1933 г. дистанции и некоторые новые шахты Мясницкого радиуса были буквально взяты с боем.
На шахтах, где столкнулись с водоносными слоями грунта и плавучими песками, оказался неприемлем способ проходки штольни с помощью деревянной крепи, практиковавшийся специалистами из Донбасса. Появились деформации, частичное обрушение и повреждение зданий. Ряд шахт пришлось законсервировать {491} до тех пор, пока благодаря кессонной технологии не появилась возможность прорыва в этой области. 22 апреля 1933 г. под руководством инженеров Кучеренко и Тесленко был создан кессонный отдел, в ведение которого перешли работы на «замороженных» шахтах {492} . По настоянию Хрущева на особо тяжелом участке южнее Казанского вокзала, где пришлось преодолевать подземную речку Ольховку, кессонную технику стали использовать не только при проходке вертикальных шахт, но и при прокладке горизонтальных тоннелей. Для этого на поверхности изготавливали 25-метровые бетонные фрагменты тоннеля, которые укладывались друг за другом, пока кессон не достигал проектной глубины {493} .
В июне 1933 г. первые шахты достигли требуемой глубины, и стало возможным перейти к прокладке горизонтальных штолен {494} . В конце августа 1933 г. на Фрунзенском радиусе между Кропоткинской пл. и Крымской пл. начались работы по берлинскому способу {495} . Осенью 1933 г. на некоторых участках приступили к соединению горизонтальных штолен, проложенных между шахтами {496} .
Несмотря на достигнутые в ряде областей успехи, положение Метростроя в конце 1933 г. внушало тревогу: план в целом не был выполнен, организация работы и снабжение материалами, рабочей силой, жильем и транспортными средствами далеко не соответствовали объему предстоящих работ {497} . Даже при строительстве вагонных депо, мастерских, гаражей, жилых домов и бараков, где не требовалось решать сложные технические задачи, план 1933 г. был выполнен едва наполовину, а результаты строительства оказались удручающими: «Качество гражданского строительства Метростроя безобразно. Все построенные в прошлом году бараки уже потребовали капитального ремонта. Междуэтажные перекрытия стандартных домов в поселке им. Ворошилова еще до сдачи их в эксплуатацию проваливались и были переделаны, столярные изделия в домах Черкизово недопустимо низкого качества. Постройка здания лесопильного завода граничит с прямым вредительством: проект этого здания был составлен безграмотно, технологический процесс не продуман, и это повлекло неоднократные переделки и приспособления уже выстроенного здания к процессу производства. В эксплуатацию постройки сдаются, как правило, с крупными недоделками [,..]» {498}
Утвержденный в марте 1933 г. Моссоветом годовой план Метростроя на практике при составлении месячных планов игнорировался. Ориентировались не на плановые задания, а на реальные возможности шахт и дистанций, и постоянно уменьшали требования. По плану строительство предстояло закончить к 1 июля 1934 г., а к 1 декабря 1934 г. метрополитен следовало сдать в эксплуатацию. В начале октября 1933 г. Метрострой выполнил лишь 33,5% земляных работ от уровня годового плана, а по бетонным работам и вовсе лишь 14,7%. Метрострой не располагал к тому времени и утвержденным техническим проектом {499} .
13 августа 1933 г. Метрострой представил Московскому комитету партии и Моссовету технический проект первой очереди строительства. Проект был рассмотрен экспертными комиссиями {500} , но не прошел процедуру официального утверждения {501} . В схему линий (см. рис. 20) Метрострой внес ряд мелких изменений и наметил две новые линии, а именно кольцевую линию вдоль Садового кольца и диаметральную от Ленинских гор через Парк культуры и центр к Савеловскому вокзалу и далее на северо-запад города. Протяженность намеченных линий теперь составляла 110,8 км {502} .
Осенью 1933 г. не был решен еще ряд важных вопросов: точное прохождение трассы на Арбате, положение и тип станции «Дворец Советов» и «Улица Коминтерна», ширина станций, гидроизоляция, система доставки пассажиров на станции, профиль тоннелей и габариты поездов (железнодорожная колея или уменьшенная) и снабжение электроэнергией подвижного состава. Вследствие вопиющего отставания проектных работ на ряде объектов в 1933 г. в ходе строительных работ пришлось переделывать готовые сооружения. В этом отношении заметных улучшений не наблюдалось. Механизация работ, которую требовали в марте, оставалась неудовлетворительной и нарушала все планы. Поставки оборудования не были систематическими, а носили скорее случайный характер, поскольку осуществлялись начальниками строительных объектов самостоятельно. Оборудование поступало разукомплектованным, а имеющиеся машины не использовались или применялись неправильно. Выемка и отвал грунта производились все еще по преимуществу ручным способом. Не хватало транспортных средств. Прогресс на различных производственных стадиях был неравномерен: шахты угрожающе долго оставались только с деревянной крепью, поскольку бетонные работы запаздывали. Несмотря на высокий расход цемента, качество бетонных работ оставалось низким. Затраты же на строительство оказывались непомерно высоки {503} . Производительность труда рабочих была чрезвычайно невелика, управленческий же аппарат оставался крайне раздутым {504} .

Рис. 20. Схема линий Метростроя, август 1933 г.
В октябре 1933 г. Каганович поручил особой комиссии внимательнее присмотреться к деятельности Метростроя и созвал ряд совещаний с руководством этой организации, на которых обсуждались накопившиеся проблемы. Его приговор был уничтожающ: «То, что сейчас делается, совершенно не годится: без нормирования, без порядка, без дисциплины, без требования дисциплины, без организации» {505} . Несмотря на слабый прогресс в ходе строительства, Каганович настаивал, чтобы до конца 1934 г. завершить первую очередь. Совместно с инженерами Метростроя он в течение недели разработал в Московском комитете партии постановление, призванное внести решающий перелом. Не посягая на конечную цель, Метрострой должен был, однако, включить в постановление все необходимое с точки зрения предприятия. Каганович оказывал давление на Метрострой, но в то же время всячески его поддерживал {506} .
Обширное постановление было принято 29 декабря 1933 г. и представление лично Кагановичем в эмоциональной речи на собрании метростроителей и рабочих московских заводов {507} . Постановление 29 декабря 1933 г. наметило решающий прорыв. В нем для каждой шахты и дистанции устанавливались жесткие сроки завершения строительства, давались детальные указания по оптимальной организации и созданию наиболее благоприятных условий для проведения работ. Руководству Метростроя и его парторганизации постановление на всем протяжении 1934 г. служило основанием и директивой, когда речь заходила о форсировании темпов и требованиях выполнения плана. В оставшиеся месяцы предстояло повысить темп земляных работ в 5 раз, а бетонных – даже в 9 раз {508} .
Прежде Каганович внес ясность в еще один важный вопрос строительства, а именно по поводу трассы метрополитена на Арбате. Политбюро 20 марта 1933 г. распорядилось вести работы на Арбате закрытым способом. Метрострой в связи с этим разработал технический проект сооружения метро парижским методом, непосредственно под уличной мостовой. Однако на Арбате сложились особенно неблагоприятные геологические условия: до глубины 11 м грунт состоял из сухого песка, а под ним находились насыщенные водой плывуны {509} . Кроме того, при парижском методе требовалось переместить линии городских коммуникаций, что привело бы к длительной блокировке улиц. 20 октября 1933 г. в Моссовете состоялось совещание с участием Кагановича и Хрущева, на котором развернулась острая дискуссия {510} .
Каганович поставил предварительное условие, чтобы линии городских коммуникаций остались неповрежденными и не создавалось помех для уличного движения. Население района настроено лояльно и терпеливо, но надо иметь в виду его реакцию, тем более что Арбат густо населен {511} . Там живет интеллигенция, писатели и художники; нельзя оставить этих людей без света или канализации {512} . Каганович указал проектировщикам Метростроя на то, что при советских отношениях собственности они не связаны направлением улиц, но без всяких формальностей могут тянуть трассу через дворовые участки. Комиссии под председательством Абакумова было поручено разработать несколько вариантов прокладки линии, в том числе и неглубокого залегания, начинающейся под библиотекой Ленина, проходящей далее по задним дворам левее улицы Коминтерна, через Арбатскую пл. и далее по дворовым участкам правой стороны Арбата {513} .
15 ноября 1933 г. комиссия Абакумова представила проект, большинством голосов высказавшись за обходной маршрут, поскольку иначе не было гарантии сохранить неповрежденными линии городских коммуникаций. Для проходки тоннелей под домами, которые занимали половину трассы, инженер Ломов предложил траншейный способ, который уже успешно применялся в Мадриде и Париже. Каганович, Хрущев, а также Ротерт. поддержали это предложение. Несмотря на сопротивление инженеров Гертнера и Шелюбского, которые опасались обрушения домов, было решено разработать точный маршрут и технический проект обходной линии {514} .