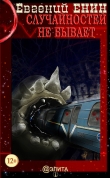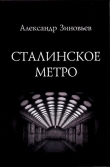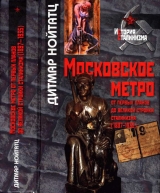
Текст книги "Московское метро: от первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935)"
Автор книги: Дитмар Нойтатц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 53 страниц)
Если в декабре 1928 г. важную роль в нападках на Моссовет и, вероятно, при исключении строительства метро из первого пятилетнего плана сыграл конфликт между группой Сталина и московским правым крылом партии, то в 1930 г. при аресте проектировщиков метро атмосферу определяла кампания против «буржуазных специалистов» и «вредителей». Тем не менее сыграл свою роль и некий третий фактор.
Инстанции, которым собственно и принадлежало право принять решение, а именно Московский партийный комитет и ЦК ВКП(б), в 1929/30 г. никак не касались темы метрополитена. Неудивительно, что решения Московской парторганизации 1927-1928 гг. никогда больше не упоминались, так как они принимались отправленными в отставку «уклонистами». Новое руководство в лице Бауманна, а с марта 1930 г. – Кагановича какое-то время воздерживалось от любых высказываний за или против метрополитена.
Выжидательная позиция партии была связана с тем, что в период «культурной революции» 1928-1931 гг. широко дебатировались радикальные концепции городской планировки в духе «дезурбанизации» {269} . До тех пор, пока не было вынесено принципиальное решение о будущей реконструкции города и до конца не выяснено, будет ли Москва продолжать существование в прежней форме, не имело никакого смысла предрешать вопрос о начале строительства и конкретных линиях проведения метро {270} . Одновременно нужно было оставить пространство для маневра, чтобы не дискредитировать властные структуры официально принятым решением. На этом фоне становится понятным, почему в московском муниципалитете и после событий 1930 г. не отказались от идеи метрополитена.
Начало дебатов о метро в связи с вопросом городской планировки относится еще к дореволюционному периоду. Уже в 1914 г. инженер И. Касаткин подверг критике все предложенные проекты городской железной дороги, поскольку они не учитывали разрастание Москвы в будущем, и предложил принципиально иную альтернативу: Касаткин представлял себе будущую Москву как децентрализованный мегаполис, с целым рядом второстепенных центров, удаленных от исторического ядра города на расстояние 6-8 верст (см. рис. 15). Каждый из таких центров должен был располагать лучевой по форме сетью коммуникаций с трамваями и полной инфраструктурой, чтобы разгрузить центральную часть города. Связь этих пунктов между собой и с главным центром призвана была осуществлять городская железная дорога с 6 радиальными линиями. Из общей ее протяженности в 135 верст более половины приходилось на наземную часть, проходящую по насыпям {271} .

Рис. 15. Транспортная схема «большого города», по И. Касаткину (Касаткин. 1914. С. 13).
На проектах 20-х гг. негативно сказывалось то обстоятельство, что до 1935 г. отсутствовал план застройки Москвы, а до 1931 г. не было и общепризнанного перспективного плана развития города и создания инфраструктуры. Застройка и рост столицы социализма проходили, как констатировал в 1931 г. ЦК ВКП(б), «спонтанно» и вне плана {272} . Единственными данными, на которые могли ориентироваться проектировщики метро, были сведения о загруженности трамвайных линий. Составители проекта МГЖД 1930 г. определенно ссылались на них. Ориентация на существующие линии таила в себе опасность, что узкие места городского сообщения сохранятся навсегда, и проблема окажется решена лишь на словах. Критики планов прокладки метрополитена неоднократно и справедливо указывали на то обстоятельство, что некоторые трамвайные линии без всякой необходимости проложены через центр города. При парижском способе строительства, предусмотренном МГЖД, появлялась возможность независимо от трамвайного движения проектировать подземные линии метро, способные повернуть пассажирские потоки.
В 1925 г. проф. С. С. Шестаков {273} опубликовал свой план «большой Москвы». Он исходил при этом из исторических традиций города и наметил концентрические круги различного назначения {274} . Москва должна была вырасти в крупнейший мегаполис мира, с обширными зелеными зонами вокруг центра. План Шестакова вызвал заметный резонанс в обществе, намечалось даже приступить к некоторым подготовительным работам. Однако на официальном уровне план так и не был принят {275} .
1928-1931 гг. стали периодом расцвета «социалистического» городского планирования и архитектуры. Целый ряд градостроителей, ободренных поддержкой партийного руководства, предлагали революционные концепции развития советских городов {276} . Велись оживленные дебаты о том, что составляет суть социалистического города в противоположность капиталистическому {277} . Самыми известными участниками этих дебатов были архитекторы Л. Сабсович {278} (концепция «Урбанизм»), М. Охович («Дезурбанизация»), М. Гинзбург («Зеленый город»), Н. Ладовский («Параболообразный город»), Н. А. Милютин {279} («Соцгород») и Ле Корбюзье {280} («Город небоскребов») {281} . Некоторые архитекторы, например Гинзбург, выступали за децентрализацию Москвы {282} , другие, как Корбюзье, описывали свое видение совершенно нового города, который должен быть построен на месте Москвы {283} .
Некоторые из тогдашних концепций планировки города предусматривали также метро и городские железные дороги. Ле Корбюзье, например, полагал, что метро из-за его преимуществ зимой как будто создано для Москвы. Линии метрополитена ни в коем случае не следовало ориентировать по городским улицам, их задача – обеспечивать кратчайшую связь между двумя пунктами. Схема линий должна быть простой и запоминающейся. Трамвайное движение совершенно упраздняется {284} .
П. И. Лопатин, который через несколько лет писал пропагандистские брошюры о реконструкции Москвы и строительстве метро {285} , в 1928 г. изображал грядущую Москву как зеленый, солнечный город-сад с метрополитеном и трамваем на эстакадах. Кремль станет музеем, правительство переедет на окраину города, в центре Москвы он видел большие бульвары и высотные дома. С севера на юг и с востока на запад город пересекают несколько подземных и надземных железнодорожных линий. Поезда метро следуют с более высокой скоростью в интервале от одной до полутора минут. Метро дойдет до пригородов и даст людям возможность жить на лоне природы, не заставляя в то же время отказываться от культурных удобств центра {286} .
В 1930 г. Всероссийское общество рационализации строительства разослало многочисленным архитекторам и градостроителям анкету, в которую среди прочих был включен пункт о городских средствах сообщения. Результатом стал целый калейдоскоп различных мнений. Метрополитен упомянули в ответах лишь некоторые: С. Гуревич («Зеленый город») отозвался о метро как о второстепенном виде городского транспорта, так как он не способствовал децентрализации жилой зоны. Н. В. Докучаев из Ассоциации новых архитекторов, напротив, весьма высоко оценивал значение трамвая и метро для центральной части города, в отличие от идеи проведения в город железной дороги {287} . П. Кожанин из Всесоюзного совета жилищных кооперативов ратовал за новое жилое строительство в хорошо оснащенных пригородах, сэкономив на сооружении дорогого метро {288} . В. Коларов, член Исполнительного комитета Коминтерна, назвал метро ненужным делом, отвечающим потребностям капиталистического города {289} . К. С. Мельников (Ассоциация новых архитекторов) отвергал метрополитен как пустую затею, отдавая предпочтение в будущем автобусам, трамваям и тротуарным ленточным транспортерам. Профессор В. Н. Образцов из Московского института инженеров путей сообщения в том же духе выступал за автобусы и ленточные транспортеры на тротуарах, призывал из гигиенических соображений свести подземное движение до минимума, но одобрял электрическую железную дорогу на виадуках. Т. Б. Пузис из Госплана заклеймил метрополитен за бесперспективную расточительность {290} . Н. Соболев (Московское общество архитекторов) намеревался децентрализировать Москву, связав новые центры линиями городской железной дороги и упразднив трамвай {291} .
О конкретном плане строительства метро в Москве в 20-е гг., за исключением упомянутых сотрудников МГЖД, высказывались лишь немногие специалисты. Задуманная проектировщиками широкая дискуссия так и не стала реальностью. Одно из немногих высказываний эксперта со стороны прозвучало в 1929 г. Н. Калашников не отвергал идеи строительства метро, но опасался, что до открытия первой линии, которое могло последовать не ранее 1933 г., наступит паралич городского движения, и предлагал поэтому в качестве первоочередной меры – как и Московская городская дума в 1911 г. – прокладку трамвайного тоннеля длиной 800-900 м между Театральной пл. и пл. Ногина (до 1924 и после 1992 г. – Варварские ворота) {292} .
А. И. Колычев, выступавший за трамвайный тоннель, был принципиально против метро: оно не является логическим очередным этапом эволюции городского транспорта после трамвая и тем более – конечным пунктом технического развития. Будущее принадлежит автомобильному и воздушному транспорту. Пассажиры метро вынуждены отказаться от солнца и воздуха и отправиться под землю. Но человек предпочитает наземные виды сообщения. «Не обязан ли человек XX столетия, в особенности социалистический человек, вывести себя из-под земли на свет и солнце?» В Лондоне и Берлине динамика автобусного сообщения опережала метро. Автобусы не требовали столь высоких инвестиций и быстрее окупали себя. В случае изобретения новых видов городского транспорта можно было быстрее перестроиться, продав автобусы мелким городам и заново инвестировав капитал. Все более обременительный транспортный кризис в Москве нужно анализировать критически: в 1929 г. транспортные средства состояли из 26,3 тыс. извозчиков (в том числе грузовых), 3235 автомобилей, 173 автобусов и 1426 вагонов трамвая. Многочисленных извозчиков можно заменить относительно небольшим числом такси и грузовиков. О перегрузке уличного движения говорить не приходится, если сравнить ситуацию в Москве с заграничной: в Лондоне насчитывалось 2500 трамвайных вагонов, 4400 автобусов и 250 тыс. автомобилей; в Берлине -2900 трамвайных вагонов, 200 автобусов и 44 тыс. авто. Перегрузка московских улиц является следствием неспособности урегулировать уличное движение и результатом того, что трамвайные линии без необходимости проложены через центр города {293} .
Необычную альтернативу метро предложил в 1930 г. другой автор: уже 30 лет на различных выставках можно наблюдать пассажирский ленточный транспортир бесконечного принципа действия. Проведенный через небольшие тоннели по радиальным линиям, этот вид транспорта потребует меньше дорогостоящей техники и будет прост в эксплуатации {294} .
Поскольку проектировщики МГЖД рассматривали метрополитен как чисто внутригородской транспорт, иную трактовку получила старая проблема о продолжении железнодорожных линий до центральной части города. В 20-х гг. появилось несколько проектов реконструкции московского железнодорожного узла, предусматривавших ликвидацию системы головных вокзалов и прокладку железной дороги пригородного и дальнего сообщения вплоть до центра города. В 1921-1925 гг. профессор В. Н. Образцов предлагал среди прочего проложить две диаметральные линии для связи вокзалов, чтобы пригородные поезда могли проходить сквозь город {295} . В проекте Наркомата путей сообщения (НКПС) 1926/27 г. намечалось направить все пригородное сообщение по ветке, связывающей Курскую и Октябрьскую железные дороги (см. рис. 16).

Рис. 16. Проведение пригородных линий в городе, проекты НКПС и Розанова, 1927 г.
Профессор Розанов критиковал предложенное направление линий как негодное, поскольку железнодорожные пути в этом случае оказались бы слишком удалены от центра города. Сравнение с заграницей свидетельствует, подчеркивал Розанов, что проведение железнодорожных линий через центр вполне осуществимо. Он предлагал проложить вдоль Бульварного кольца железнодорожную петлю, соединенную подъездными путями с каждым вокзалом, чтобы пассажиры из пригорода могли без пересадки добраться до центра Москвы. Поезда следовали по кольцу вокруг города и затем возвращались на свою радиальную линию. В сочетании с метрополитеном этот проект, по убеждению его автора, мог решить транспортную проблему «большой Москвы» {296} . Ядром более детально проработанного проекта НКПС 1930/31 г. была идея о прокладке через центр города железнодорожных линий с севера, востока и юго-востока (см. рис. 17) {297} .
3. Политическое решение о начале строительства. 1931 г.
А) Вмешательство партииДо 1931 г. Москва в административном отношении находилась в подчинении непосредственно Областного исполнительного комитета и Московского областного комитета партии [МК ВКП(б)]. Московская область была образована в 1929 г. из прежних губерний Московской, Рязанской, Тульской, Тверской и части Калужской и к 1931 г. включала 151,7 тыс. кв. км (вдвое больше, чем площадь Баварии) с 11,36 млн. жителей {298} . Правда, Москва в 1929 г. получила самостоятельный бюджет и подотдел в структуре Областного исполкома для управления городским коммунальным хозяйством. За этим стояла идея, что Москва как центр индустриального пролетариата, в духе марксистского положения о преодолении различий между городом и деревней, окажет позитивное воздействие на сельскую округу. Город и область имели совместный Президиум и Исполком {299} . Однако вскоре стало ясно, что таким способом Москвой с ее 2,78 млн. жителей (1931 г.) нельзя эффективно управлять.
Опасное обострение кризиса московского коммунального хозяйства побудило в 1930 г. областной партийный комитет вмешаться.
В апреле 1930 г. близкий соратник Сталина Л. М. Каганович занял пост первого секретаря Московского областного комитета партии [29]29
Лазарь Моисеевич Каганович (1893-1991) родился в селе в Киевской губернии, обучался ремеслу сапожника, в 1911 г. вступил в партию большевиков. В годы Гражданской войны он служил комиссаром, в 1922-1924 гг. – заведующий отделом кадров ЦК ВКП(б), в 1924-1925 гг. и в 1928 г. занимал пост секретаря ЦК, в 1925– 1928 гг. – руководитель партийной организации на Украине, член Политбюро с июля 1930 г. С апреля 1930 по май 1935 г. он работал Первым секретарем Московского областного комитета партии, в феврале 1931 – январе 1934 г. одновременно состоял Первым секретарем Московского городского комитета, с 1935 г. – народный комиссар путей сообщения, затем на различных ответственных постах. В 1957 г. в ходе десталинизации отправлен в отставку (Colton. 1995. Р. 783).
[Закрыть]. Каганович, который одновременно являлся ключевой фигурой в ЦК и Политбюро, в последующие месяцы и годы проявил себя движущей силой при решении назревших проблем Москвы. Обилие постов и функций облегчало ему действенно проводить в жизнь замыслы в области коммунального хозяйства.
В декабре 1930 г. было проведено новое районирование Москвы и одновременно принято решение обратиться к насущным вопросам московского коммунального хозяйства. Президиуму Моссовета поручили представить основные генеральные линии развития Москвы как политического, экономического и культурного центра на последующие 10-15 лет {300} .
В начале 1931 г. Московский комитет партии устроил слушания по отдельным отраслям коммунального хозяйства. На совещание помимо партийных функционеров были приглашены также ведущие служащие и рабочие коммунальных предприятий. От них настойчиво потребовали без обиняков изложить все неполадки {301} . На заседании о трамвайном движении 9 февраля 1931 г. открылась безрадостная картина: пути и подвижной состав устарели и даже примерно не соответствовали росту пассажиропотока, не говоря о том, что четверть всех вагонов из-за поломок была исключена из эксплуатации {302} .
Немного позднее партия сделала оргвыводы из состояния коммунального хозяйства столицы, предоставив городу собственное муниципальное управление и комитет партии. Инициатива исходила от Кагановича, который доложил вопрос на Политбюро. 20 февраля 1931 г. Политбюро приняло решение направить соответствующую резолюцию в Моссовет и заседавшему в Москве второму съезду областных советов {303} , [30]30
Объединенный пленум Московского комитета партии и Московской контрольной комиссии от 25 февраля 1931 г. высказался о решении Политбюро и Бюро Московского комитета, отдавая последнему приоритет в этом начинании.
[Закрыть]что и было сделано три дня спустя {304} . 24 февраля последовало аналогичное постановление областного комитета партии о парторганизации {305} .
Городская парторганизация оформилась 25 февраля 1931 г. {306} Вновь образованный Московский городской комитет [МГК ВКП(б)] был тесно связан персональными узами с областным комитетом [МК ВКП(б)], что, с одной стороны, ограничивало его самостоятельность, но, с другой, придавало городу больший вес. Каганович занимал пост Первого секретаря обеих организаций, в МК ему помогал Второй секретарь Каминский, в МГК – Рындин (с 1932 г. Хрущев) [31]31
Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971) в годы Гражданской войны являлся комиссаром Красной армии, затем на партийной работе на Украине, в 1931-1932 гг. – председатель одного из районных советов Москвы и районный парторганизации, в 1932-1934 гг. – второй секретарь МГК, с января 1934 по январь 1938 г. – Первый секретарь МК, с февраля 1934 г. – также член ЦК ВКП(б). С 1938 г. он возглавлял партийную организацию Украины, работал на других высших постах, в 1953 г. избран Первым секретарем ЦК КПСС, в 1958 г. – Председателем Совета министров СССР, по решению Пленума ЦК КПСС в октябре 1964 г. отправлен в отставку со всех постов (Colton. 1995. Р. 783; Москва. Энциклопедия. М., 1997. С. 875-876).
[Закрыть]. Некоторые члены бюро МГК [32]32
Бюро на всех уровнях представляло собой узкий по составу руководящий орган партийного комитета.
[Закрыть]одновременно заседали в Бюро МК {307} . На административном уровне был образован городской исполнительной комитет с Президиумом Моссовета как непосредственным руководящим органом. Председателем Моссовета был избран Булганин [33]33
Николай А. Булганин (1895-1975) в 1918-1922 гг. работал в тайной полиции (ЧК), затем в промышленности. В 1927-1930 гг. он состоял директором Московского электрозавода, с 1930 г. назначен заместителем председателя Московского областного совета, с февраля 1931 по июль 1937 г. – председатель Моссовета, затем председатель Совета министров РСФСР, работал на других высоких постах, в 1955-1958 гг. – председатель Совета министров СССР (Colton. 1995. Р. 783).
[Закрыть]. В Президиум Моссовета входили первый и второй секретари МГК {308} .
Из совещания 9 февраля 1931 г. партийное руководство Москвы вынесло впечатление, что хотя трамвайное дело нуждается в основательной реорганизации, однако одного этого недостаточно для исправления тяжелой ситуации на городском транспорте. Комиссия под председательством Рындина разработала решение, утвержденное 5 марта 1931 г. Бюро МГК, согласно которому Моссовету совместно с областными плановыми органами и МГЖД поручалось в течение 6 месяцев разработать концепцию реконструкции транспортной системы города, причем определить «тип дополнительных средств сообщения (метрополитен, проведение железных дорог внутрь города), новые кольцевые линии трамвая и автобуса» {309} .
Политбюро 20 февраля 1931 г. отдало распоряжение Бюро МК и Моссовету в течение двух недель представить свои предложения по улучшению московского хозяйства {310} . Комиссия во главе с Булганиным и Кагановичем подготовила обширный перечень практических мероприятий, который 3 мая 1931 г. был обсужден и с некоторыми изменениями принят на совместном заседании Бюро МК и МГК. По поводу городского транспорта в перечне отмечалось, среди прочего, что предстоит установить «электрическое быстроходное сообщение во вновь осваиваемых промышленным и жилищным строительством районах путем использования и соответствующего приспособления существующих кольцевых и соединительных железнодорожных веток». Следует просить Центральный комитет обязать Наркомат путей сообщения совместно с горисполкомом представить до конца 1931 г. проект сети городских электрифицированных железных дорог. При этом необходимо предусмотреть линию, которая могла бы разрешить транспортную проблему на Каланчевской пл. путем соединения оканчивающихся там железнодорожных линий с Курской и Нижегородской железными дорогами. Помимо этого городские власти должны обсудить с Наркоматом путей сообщения вопрос об организации пассажирского движения по Московской окружной железной дороге {311} .
Тем самым комиссия МК и Моссовета подхватила не план строительства метро, разработанный МГЖД, а старую идею городских железных дорог, соединенных с железнодорожными магистралями, теперь на основе использования окружной дороги. В МК в этот период явно симпатизировали идее дезурбанизации. Как вспоминал позднее один из членов комиссии, упомянутый ранее инженер Катцен из МГЖД, комиссия исходила из того, что «большая Москва» в центре постепенно станет музеем, и основной объем промышленности и населения переместится на юго-восток. Стремились дать Москве новый транспорт, тесно связанный с понятием «социалистический город». Поэтому необходимым признавался не метрополитен городского типа, но ориентированная на окраины городская электричка на эстакадах {312} .
5 мая 1931 г. Каганович и Булганин доложили в Политбюро о плане мероприятий. Политбюро образовало собственную комиссию для подготовки решения на основе этого плана. В состав комиссии под председательством Кагановича наряду с функционерами московской парторганизации и городской администрации вошли такие представители правящей верхушки, как Сталин, Молотов, Ворошилов, Ягода и Киров {313} . На своем втором заседании 14 мая 1931 г. комиссия Политбюро постановила внести в план мероприятий новый пункт в следующей редакции: «Поручить Моссовету и МК образовать комиссию для рассмотрения всех существующих проектов различных средств сообщения и разработать проект метрополитена. Срок: 3 месяца» {314} .
Здесь отчетливо шла речь о метрополитене. Что имел в виду Сталин, от которого исходила инициатива включения этого пункта, метро ли для внутригородского сообщения, городской транспорт типа железной дороги или то и другое вместе, из текста постановления и стенограммы обсуждения остается не вполне ясным:
«Сталин: Нужно образовать особую комиссию по метрополитену и решить, что необходимо, срок, за который она это сделает, и сколько это стоит. Нужно постановить, что метрополитен необходим и что это дело следует форсировать. Рассматривая метрополитен в качестве основного средства сообщения, немедленно начать ориентировать на него все наземные линии.
Молотов: И для осуществления пригласить иностранных специалистов из Берлина, Парижа и Лондона.
Сталин: Хватит немцев.
Каганович: Разработать проект метрополитена в связи с экспертизой всех существующих проектов различных средств сообщения. Срок 3 месяца. Для этого создать особую комиссию при Моссовете» {315} .