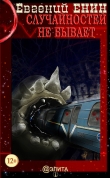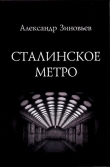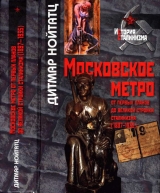
Текст книги "Московское метро: от первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935)"
Автор книги: Дитмар Нойтатц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 53 страниц)
Военную подоплеку нельзя отделить и от повседневной жизни на строительстве метро. «Комсомол игнорирует оборонную работу!» – с таким заголовком в июне 1933 г. вышел один из номеров «Ударника Метростроя». На некоторых шахтах, среди прочих на комсомольской шахте 12, писала газета, до сих пор не созданы ячейки Осоавиахима и не назначены военные организаторы (военорги). Партком обязал партячейки следить за военной работой на шахтах {1823} .
С середины марта 1933 г. в пос. Лось был организован подготовительный лагерь, который проходили военнообязанные метростроевцы перед призывом в Красную армию. Обстановка в лагере напоминала казарму: день начинался с гимнастики, затем следовал завтрак и сразу же начиналась военная подготовка, включая учебные стрельбы. Первое время профсоюзы и комсомол плохо следили за снабжением лагеря, в нем не хватало постельных принадлежностей и спортивных снарядов {1824} .
12 июля 1933 г. Осоавиахим Метростроя с участием 350 чел. провел первые боевые учения в виде скрытого марша с наступлением и обороной. Батальон «Москва-метро» наступал, батальон «Пос. Ворошилова метро» оборонялся {1825} . До конца августа 1933 г. 1,5 тыс. чел. проходили инструктаж по противовоздушной обороне, были проведены беседы с 1200 рабочими; предприняты две «военных вылазки» с 700 участниками, а также организованы экскурсии в Музей Красной армии и на выставки {1826} .
В августе 1933 г. военно-спортивная деятельность сосредоточилась на подготовке призывников 1911 года рождения. В военном лагере Лось были проверены социальное происхождение и уровень политической подготовки призывников, чтобы отделить «классово чуждые и морально разложившиеся элементы». Одновременно неграмотные обучались чтению и письму {1827} . В январе 1934 г. начался призыв военнообязанных 1912 и 1913 годов рождения. Они заканчивали курсы на пунктах военной подготовки, которые Осоавиахим основал на стройплощадках и в барачных поселках, двухмесячная программа курсов включала военную и политическую подготовку {1828} .
К январю 1934 г. количество членов Осоавиахима на Метрострое хотя и перевалило за 5,5 тыс. чел., но из них «ворошиловских стрелков» насчитывалось всего 300. Ячейки Осоавиахима нередко существовали только на бумаге, лишь на считаных шахтах действовали стрелковые кружки. Полностью отсутствовали команды противовоздушной обороны. Партячейки игнорировали эту область и не ввели, как предписывалось, должность военоргов, которые должны были возглавить ячейки Осоавиахима {1829} .
В течение 1934 г. активность Осоавиахима возросла, военорги партии и комсомола озаботились тем, чтобы члены их ячеек участвовали в стрелковой подготовке. В феврале 1935 г. 2850 метростроевцев получили значок «Ворошиловский стрелок», 28 посещали занятия в школе снайперов, 567 были отмечены значком ГСО [207]207
Значок «Готов к санитарной обороне» (ГСО) был введен в 1934 г. для военно-санитарной подготовки широких кругов населения.
[Закрыть], 1758 сдали военно-технический экзамен «Мотор» {1830} .
Массово-политические мероприятия, воспитательные меры, культурные и спортивные акции коснулись тысяч рабочих Метростроя и – за исключением политпросвещения – охотно использовались ими для проведения досуга. Эти акции преследовали несколько целей: во-первых, они были призваны обеспечить режиму контроль за людьми и во внерабочее время в форме наблюдения, воздействия и воспитания рабочих. Сталинская система претендовала на тотальный контроль над человеком и возможно полное вытеснение частной сферы. В противовес оценкам теории тоталитаризма следует, во всяком случае, учитывать то обстоятельство, что реализация притязаний режима в практической жизни по многим причинам носила ограниченный характер.
Во-вторых, новые формы проведения досуга облегчали интеграцию гетерогенного по составу трудового коллектива. Организованные партией, комсомолом и профсоюзами виды коллективного досуга переняли при этом роль, которую в обществах с иной организацией играли спортивные, музыкальные и др. союзы, а именно объединить совместной деятельностью людей разного происхождения, преодолеть барьеры социального и регионального происхождения, а также привить людям чувство общности. Большевистский режим – в еще более яркой форме, чем национал-социализм, который, несмотря на всеохватывающий контроль и меры воздействия на жизнь общества, терпел существование общественных союзов [208]208
Хотя национал-социалисты в 1934 г. создали в спортивной области несущую конструкцию в виде авторитарного «имперского руководителя спорта» («Reichssportführer») и 21 «имперской службы» («Reichsfachamter»), призванных заменить прежние спортивные союзы, однако они не ставили под сомнение существование 43 тыс. немецких спортивных объединений. Впрочем, идеологически выстроенные массовые организации нацистской Германии (СА, Гитлерюгенд, Немецкий рабочий фронт) параллельно играли важную роль и в спорте (подр. см.: Enzyklopadie des Nationalsozialismus. 1997. S. 253-256; Bernett. 1983).
[Закрыть], – установил монополию «общественных организаций» на активность отдельных сообществ и групп.
Насколько удалось таким образом изменить сознание рабочих и сплотить их в единый коллектив – вопрос, для ответа на который в источниках недостает собственных высказываний метростроевцев. Однозначно можно констатировать, что формы совместного проведения досуга способствовали складыванию у рабочих группового осознания себя как «нас», т. е. как «метростроевцев» [209]209
Ср. Гл. VI. 4Б.
[Закрыть]. Те метростроевцы, чья особенно интенсивная связь со стройкой проступает в интервью или дневниках, кто свидетельствовал, что все свое свободное время проводит на стройке, объясняли, правда, этот факт не столько культурными или спортивными акциями, сколько личными контактами, «жизнью» на стройке или в комитете комсомола и скучной обстановкой дома в бараке. На походы в театр или кино у них совсем не было времени {1831} . С уверенностью можно сказать, что у беспартийных рабочих дело обстояло иначе, поскольку они не обнаруживали склонности просиживать на собраниях или стараться после окончания смены отработать еще одну ради выполнения плана, а были рады любой возможности сбежать из скучного барака.
В-третьих, массово-политические мероприятия – по аналогии с организацией «Сила через радость» («Kraft durch Freude») и подобными популярными объединениями нацистской Германии – несли в себе важную компенсаторную функцию {1832} . Они возмещали те лишения, которые рабочий нес из-за тяжелой работы и примитивных условий жизни. Если рабочую силу намереваются использовать не на короткое время, но с более отдаленной перспективой и в расчете на повышение производительности труда, тогда следует позаботиться о восстановлении сил рабочего в форме отдыха, а также с помощью духовных и спортивных компенсаторов. Защита труда и медицинское обслуживание должны рассматриваться в этом же целеполагающем контексте как средства поддержания производительности рабочих. Помимо этой относительно узкой цели организованные формы досуга на фоне господствующего в стране чрезвычайного положения, атмосферы мобилизации и страха перед преследованием образовывали некие острова временного возвращения к мнимой нормальности, где можно было забыть о чудовищной повседневности. В этой связи следует упомянуть созданные в СССР в те же годы «парки культуры и отдыха», которые наряду с другими функциями, такими как проведение частых и роскошно инсценированных общественных праздников и сознательное содействие культуре общения, также имели компенсаторный характер, имитируя нормальную жизнь.
Глава VI.
СТРУКТУРЫ «ЗА КАДРОМ»: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА НИЗОВОМ УРОВНЕ
1. Организация «Метрострой» и ее руководство. 1931-1935 гг.
Основными понятиями руководства советских предприятий в 1930-е гг. были «хозрасчет» и «единоначалие». Единоначалие было провозглашено уже в начале 1920-х гг. Правда, в период нэпа был введен тип коллегиального руководства («треугольник») в составе директора предприятия, секретаря партийной организации и профсоюзного лидера, причем по силе влияния профсоюз явно уступал администрации и партии, а с 1929 г. еще более утратил свое значение {1833} .
С переходом к форсированной индустриализации и в связи с кампанией борьбы против вредителей, ставшей следствием «шахтинского дела» [211]211
В марте 1928 г. на горнодобывающих предприятиях г. Шахты в Донбассе был раскрыт «контрреволюционный заговор». Инсценированный по этому поводу показательный процесс дал толчок кампании против «буржуазных спецов», которых сделали козлами отпущения за промахи экономической политики правительства (Ср.: Hildermeier. Geschichte der Sowjetunion. 1998. S. 409).
[Закрыть], в 1928-1929 гг. наметился кризис в руководстве производством. С одной стороны, партийные секретари все больше вмешивались в сферу администрации. С другой стороны, назначенные в массовом порядке «красные директора» из-за недостатка профессиональных знаний фактически превратились в довесок своих номинальных подчиненных, а именно технических директоров и главных инженеров {1834} .
ЦК ВКП(б) отреагировал на кризис постановлением от 5 сентября 1929 г., в котором потребовал осуществления принципа единоначалия. В постановлении подвергалось критике недостаточное распределение компетенции в «треугольниках», но более значимым было другое: отныне руководство предприятия обязано было сосредоточить в своих руках все экономическое управление, но принимая во внимание инициативу рабочих. Парткомы должны были проводить в жизнь общие директивы партии, но при этом не вмешиваться в конкретные распоряжения администрации. Профкомы обязывались дать толчок рабочей инициативе и заботиться о реализации технико-производственных улучшений и внесении рационализаторских предложений, однако не вторгаясь в то же время в компетенцию руководства предприятием {1835} .
«Треугольники» в итоге были сохранены, и единоначалие на практике реализовывалось противоречиво. Правда, был устранен дуализм «красных» и технических директоров и тем самым утверждено преобладание «красных» директоров над «буржуазными» специалистами. Однако отношения между директором и секретарем парткома складывались непросто. Многие руководители ввиду нехватки профессиональной квалификации не полностью использовали свои права и стремились разделить ответственность за принятые решения с другими членами «треугольника». Другие объявили себя диктаторами на своих заводах. Там, где директор проявлял неспособность осуществить единоначалие, секретарь парткома нередко пытался взять на себя его функции. На XVII съезде партии в 1934 г. Сталин подверг критике как тип беспомощного директора, так и самовластного «вельможи», которого не волнуют решения партии {1836} .
Постановление о единоначалии ничего не изменило в обычной практике, когда партия, а также и другие органы, такие как ОГПУ или Рабкрин, массированно вмешивались в хозяйственное руководство на всех уровнях, с самого верха до отдельного предприятия. Для партийных секретарей выполнение своей задачи было сродни хождению по лезвию бритвы между обвинениями в пассивности или во вмешательстве в оперативную работу администрации {1837} .
Конфликты и перераспределение функций в «треугольниках» касались не только центрального руководства предприятием, но воспроизводились на нижних уровнях, в отделах, или – как на Метрострое – на шахтах и дистанциях. И там начальники отделов, дистанций или шахт противостояли партийным секретарям и председателям профкомов. Не предусмотренным в «треугольнике», но на практике еще более влиятельным, чем профсоюзный лидер, был на Метрострое секретарь комсомольской организации.
На начальной стадии строительства партийная организация Метростроя не пользовалась влиянием, а Ротерт как директор имел столь широкие полномочия, предоставленные ему Моссоветом и Московским комитетом партии, что мог руководить стройкой вполне независимо. Структурно он создал Метрострой по образцу Днепростроя. Осенью 1931 г. по его инициативе был организован ряд отделов, из которых постепенно сформировался центральный аппарат {1838} . С началом строительных работ в декабре 1931 г. он разделил трассу, как то обычно делалось на железной дороге, на несколько участков. Первыми стали четыре участка между Дворцом Советов и Сокольниками {1839} , в январе 1932 г. к ним добавились участки между Дворцом Советов и Крымской пл., а также на Арбате {1840} . Каждым участком руководил один начальник, участок в свою очередь состоял из нескольких дистанций [212]212
«Дистанции» 1932 г. не следует смешивать с таковыми периода 1933-1935 гг., когда этим понятием обозначались отдельные строительные объекты, возводимые от крытым способом.
[Закрыть], руководители которых находились в подчинении начальника участка. Дистанции делились на отдельные объекты или группы, из которых после перехода к закрытому способу строительства возникли шахты {1841} . Для возведения барачных поселений, депо, мастерских и других вспомогательных объектов была создана контора промышленного и гражданского строительства {1842} .
Организационная структура Метростроя постоянно менялась ввиду учреждения новых отделов и объектов, а также ликвидации или слияния прежних. Так, осенью 1932 г., когда собственно строительные работы были приостановлены, поскольку не было принято окончательного решения о способе строительства, были упразднены три участка, а рабочие с них переданы конторе промышленного и гражданского строительства для скорейшего возведения бараков {1843} .
Многоступенчатая система руководства с участками и дистанциями как промежуточными звеньями уже летом 1932 г. проявила себя как чересчур сложная. Участки раздували управленческий аппарат с теми же отделами, что и в центральном руководстве. Они развивались в сторону автономных предприятий внутри Метростроя и часто игнорировали распоряжения центральной администрации {1844} .
Совещание руководителей стройки в ноябре-декабре 1932 г. высказалось за сокращение административного аппарата. Отделы на участках следовало ликвидировать, шахты подчинить непосредственно начальнику Метростроя и покончить с прежней практикой параллельных распоряжений начальников участков и дистанций {1845} . Поскольку Рабкрин в свою очередь требовал сокращения штатного расписания {1846} , дистанции в декабре 1932 г. были упразднены {1847} .
Комиссия партийного контроля и Рабкрин в начале 1933 г. составили проект совершенно новой структуры Метростроя с целью резкого сокращения административного аппарата и устранения излишних инстанций (участков). Реструктуризация прошла в ходе общей реорганизации предприятия после постановления Политбюро от 20 марта 1933 г. по Донбассу и Метрострою {1848} . Несмотря на сопротивление Ротерта [213]213
Даже сутки спустя после принятия решения Ротерт убеждал Кагановича и Хрущева в необходимости сохранения участков // Протокол совещания у Кагановича, 9 апреля 1933 г. (РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 198. Л. 76).
[Закрыть], новая структура в апреле 1933 г. была утверждена Московским комитетом партии {1849} .
Проведение реформы партия доверила новому заместителю начальника Метростроя Абакумову. С его приходом de facto закончилось единовластное правление Ротерта, хотя Политбюро в своем постановлении от 20 марта 1933 г. требовало именно соблюдения принципа единоначалия. В качестве заместителя Ротерта Абакумов не имел отдельной области компетенции, а напротив, так же как и сам Ротерт, мог принимать решения во всех сферах строительства. Действуя каждый сам по себе, оба они несли полную ответственность по всем техническим и административным вопросам {1850} . Ввиду его безусловной преданности партии при одновременно недостаточной профессиональной подготовке Абакумов еще более, нежели партийный секретарь Метростроя, зарекомендовал себя «рукой партии» в администрации предприятия.
После ликвидации участков и дистанций (старого типа) основными структурными подразделениями Метростроя стали отдельные строительные объекты. При закрытом и траншейном способе строительства они стали называться шахтами,при открытом методе – дистанциями.Шахты и дистанции теперь подчинялись непосредственно начальнику Метростроя, но были переданы в ведение главного инженера, который отвечал за решение технических вопросов при соответствующем способе строительства {1851} . В апреле-мае 1933 г. был назначен ряд новых начальников шахт {1852} , так как комиссия партийного контроля и Рабкрин распорядилась о дальнейшем сокращении центрального аппарата и переводе 92 инженеров и техников из отделов центрального руководства непосредственно на строительные объекты {1853} . Каждое изменение штатного расписания впредь следовало заранее согласовывать с уполномоченным комиссии МГКК РКИ по Метрострою {1854} .
В 1933 г. согласно составленной наконец структуре административное руководство было разбито на ряд отделов, объединенных в группы. Непосредственно начальнику Метростроя и его первому заместителю были подчинены производственный отдел с главными инженерами, а также сектор научных исследований, проектировочный отдел «Метропроект», а также плановый и контрольный отделы. Второй заместитель Ротерта ведал транспортным отделом, отделом снабжения «Метроснаб», главной бухгалтерией и отделом вспомогательных предприятий. Помощник начальника Метростроя по кадровым вопросам нес ответственность за работу отдела кадров, отделов приема и увольнения, а также коммунального отдела [214]214
Отдел кадров занимался служащими, отделы приема и увольнения ведали рабочими, коммунальный отдел отвечал за условия жизни работающих на стройке.
[Закрыть]. Второй помощник начальника Метростроя курировал хозяйственный отдел, канцелярию и службу охраны {1855} .
Число шахт и дистанций неоднократно менялось, поскольку некоторые шахты, поспешно заложенные в 1932 г., пришлось закрыть или реорганизовать в участки открытого профиля. По мере продвижения строительных работ расположенные по соседству друг с другом шахты, как только их штольни соединялись, сливались в одну. Так появились такие названия, как «шахта 13-14» [215]215
Там, где прокладывались два отдельных тоннеля для каждого из направлений движения, параллельная шахта получала приставку «бис» («вторая» – франц.), например «шахта 21 бис». Дистанции с 1 по 4 находились между Каланчевской пл. и Сокольниками, дистанции с 5 по 8 пролегали между Крымской пл. и Библиотекой им. Ленина. Там к ним примыкал участок, построенный по парижскому способу, с шахтами 7 (станция «Библиотека им. Ленина) до 29 (экспериментальный участок у Митьковского виадука). Нумерация начиналась с цифры 7, поскольку в 1932 г. действовали также шахты с 1 по 6, от которых впоследствии отказались. Шахты 26, 27 и 28 также были закрыты. Арбатский радиус подразделялся на шахты с 30 (Александровский сад) до 51 (Смоленская пл.).
[Закрыть].
2. Постепенное утверждение власти партии
А) Низовые парторганизацииЧтобы привлечь рабочих и служащих к реализации честолюбивой программы, разработанной партийным руководством, партия должна была пронизать все предприятие своими организациями и развить такие механизмы, с помощью которых была в состоянии удерживать власть и осуществлять эффективный контроль над инженерами, техниками и рабочими. Освещенные в главе IV модели поведения и мотивация метростроевцев отражают только одну сторону реальности. Другим, не менее важным аспектом является проблема вовлечения людей в сталинскую командную экономику. Это вовлечение базировалось не только на добровольном сотрудничестве, но и на принуждении различного рода и интенсивности. Поэтому вопрос следует ставить не только о внутренней мотивации действий, но и о внешних принуждениях и механизмах реализации власти и контроля, а также об эффективности этих механизмов. Их следует рассматривать в контексте искусственного нагнетания «верхами» военно-мобилизационной обстановки, о которой уже шла речь при анализе жизненного мира метростроевцев, и данное сочетание придавало сталинизму свою оригинальную специфику по сравнению с реализацией крупных экономических проектов в других странах.
Характерной чертой советской системы было наличие параллельных партийных структур, пронизывающих все уровни государственного управления и народного хозяйства. Повсюду, начиная от цехов и предприятий, районов, областей и вплоть до общесоюзного уровня, управленческий и хозяйственный аппарат дополняли партийные органы. Их задача заключалась не в замене обычных органов управления, но в контроле над ними {1856} . Партийная организация строилась по принципу «демократического централизма», т. е. вышестоящие органы избирались (по крайней мере формально) нижестоящими, избранные функционеры обязывались держать отчет перед общим партийным собранием, но спущенные «сверху» решения и указания подчиненные организации должны были выполнять беспрекословно {1857} .
Низовые организации составляли партячейкив селах или на предприятиях, с середины 1920-х гг. они действовали также в цехах и отделах, вплоть до отдельных смен на крупных заводах. Ими для текущей работы избирались бюро.На более высоком уровне, а также на ряде крупных предприятий создавались партийные комитеты (парткомы),которые также из своей среды выбирали бюро. Руководили комитетами и бюро партийные секретари,в распоряжении которых в зависимости от величины организации находился аппарат с отделами и функционерами {1858} .
От размера организации зависело и то, был ли партийный секретарь чистым функционером («освобожденный» секретарь) или совмещал партработу с производственной деятельностью. Бюро партячеек переизбиралось дважды в год, причем его состав существенно обновлялся. Ячейки обычно заседали дважды в месяц или собирались по требованию не менее трети членов парторганизации. Самым низким уровнем, на котором создавались ячейки, была производственная смена. Внутри смены действовали партийные группы (партгруппы),возглавляемые партийными организаторами (групорги).В функцию групорга входило и выдвижение кандидатов на прием в члены партии {1859} . Если коммунистов оказывалось недостаточно для создания партячейки, в цехах или даже на предприятиях довольствовались партгруппами {1860} .
Организационные формы на отдельных предприятиях не отличались единообразием, поскольку Центральный комитет партии в 1929-1932 гг. осознанно предоставил низовым организациям свободу действий {1861} . На некоторых предприятиях парткомы создали обширный аппарат с многочисленными отделами и секторами (экономическим и производственным, культурно-массовым, агитационным, просветительным, по работе с молодежью, женским и т. д.), которыми заведовал член парткома. Такая структура могла воспроизводиться и на уровне парткома цеха или отдела {1862} .
В годы первой пятилетки в партию было принято много новых членов, так как руководство страны стремилось повысить долю рабочих в составе партии до 50% и завести парторганизацию на каждом предприятии и в каждом цехе {1863} . Партячейки, в задачу которых, согласно уставу партии, входило налаживание связей рабоче-крестьянской массы с партией, в значительной мере усилились. Тем не менее во множестве мест они бедствовали, и большая часть вновь принятых в партию вела себя пассивно и политически несознательно {1864} . Сложная система вертикальных и горизонтальных структур крайне обременяла низовые организации, которым не хватало подходящего персонала во многих сферах работы {1865} .
В 1932 г. в ответ на растущую некомпетентность партийных функционеров организационная схема подверглась перестройке. На большинстве предприятий создали партячейки рабочих смен, сократили число цеховых ячеек и передали руководство существенно большего числа низовых организаций штатным («освобожденным») функционерам {1866} . Одновременно избирательнее стали относиться к приему в партию новых членов. Тем самым партия отказалась от царившей в предшествующие годы концепции массового привлечения рабочих, сместив акцент с мобилизации на контроль {1867} .
В этом контексте следует оценивать и партийную чистку 1933 г. На стадии ее подготовки Политбюро 10 декабря 1932 г. постановило приостановить прием новых членов, и этот запрет оставался в силе до 1936 г. {1868} После XVII съезда ВКП(б), прошедшего с 26 января по 10 февраля 1934 г., реформирование партийной жизни продолжилось: понятие ячейкаисчезло, низовая организация избирала теперь партком,тогда как организациями с числом членов менее 15, а также нижестоящими организациями на предприятиях отныне ведал партийный организатор (парторг) {1869} .На крупных предприятиях по согласованию с городским и районными комитетами партии парткому дозволялось вводить партийные организации на цеховом уровне. Результатом реформы стала более четкая и наглядная система. Активность членов низовых организаций отошла на задний план по сравнению с более эффективным руководством со стороны вышестоящих инстанций {1870} .
Партком Метростроя был создан по решению Московского горкома партии от 16 апреля 1932 г. В партийную организацию Метростроя тогда входило всего 75 коммунистов (при 3287 рабочих и 1048 служащих) {1871} . Организационное бюро (оргбюро) парткома образовало партячейки на участках, в пос. Лось и в важнейших отделах Метростроя {1872} . На отдельных строительных объектах были созданы партийные группы. Такая группа на шахте 29 появилась осенью 1932 г. и состояла всего из трех членов партии и одного кандидата {1873} . К концу 1932 г. количество партгрупп возросло до 42, а число членов партии – до 343 {1874} .
В связи с ликвидацией участков с конца апреля 1933 г. на шахтах и дистанциях были введены партячейки, подчинявшиеся непосредственно парткому Метростроя {1875} . В составленном по этому поводу списке значилось, что на 17 шахтах и дистанциях работало в общей сложности 153 коммуниста, или в среднем по 9 членов партии на одном строительном объекте {1876} . Немногие образованные к лету 1933 г. партячейки возглавляли слабые в организационном плане секретари, и эти подразделения не вели сколько-нибудь заметной работы. Ввиду столь неудовлетворительного положения для усиления парторганизации летом 1933 г. Московский горком партии направил 10 опытных функционеров для работы в качестве руководителей партячеек и еще несколько непосредственно в партком Метростроя {1877} . В сентябре партсекретарь Метростроя Сивачев был смещен со своего поста и заменен Матусовым {1878} , который ранее руководил организационным отделом Московского комитета партии. Формально должность Матусова стала называться не «секретарь парткома Метростроя», как у его предшественника, а «партийный организатор Московского комитета партии на Метрострое», что подчеркивало отчужденное отношение к парторганизации Метростроя {1879} .
Партийные организации отдельных шахт и дистанций возникли в основном осенью и зимой 1933 г. в ходе мобилизации комсомольцев и коммунистов на строительство метро. Низовая организация считалась открытой после выборов бюро партячейки. На участках шахт и дистанций [216]216
Здесь имеются в виду некрупные участки 1932 г. В 1933 г. шахты и дистанции были вновь разбиты на участки.
[Закрыть]были созданы партячейки с правом цеховых ячеек, которые соответственно избирали бюро. В рабочих сменах ввели партгруппы с парторгами {1880} . [217]217
Формально должность парторга и партийного секретаря была выборной. Многие, впрочем, были направлены на шахты и дистанции для выполнения этих функций Московским комитетом партии или парт комом Метростроя. Часто парторгов и партсекретарей прямо назначали (ср.: Стенограмма беседы со слесарем Синицыным, 4-я дистанция, 28 февраля 1935 г. // ГА РФ. Ф. Р-7952. Оп. 7. Д. 344. Л. 72).
[Закрыть]Политическое образование у большинства из них ограничивалось «кандидатской школой». Некоторые уже работали ранее парторгами на заводах или посещали школу активистов при райкомах партии {1881} . 135 парторгов для выполнения возложенной на них задачи закончили учебные курсы при Коммунистическом университете им. Свердлова {1882} .
Вновь пришедшие на стройку в 1933-1934 гг. коммунисты были поставлены на учет, распределены по сменам и бригадам и введены в партгруппы. Складывание организаций продлилось до весны 1934 г. {1883} В зависимости от численности своих организаций партийные секретари и парторги освобождались от производственных задач или совмещали их с партийной работой {1884} .
Несмотря на предпринятые в 1933 г. усилия, парторганизация Метростроя к началу 1934 г. оставалась малоэффективной. Многие коммунисты не были внесены в списки членов партии, и речи не было о сколько-нибудь действенной массовой агитации. На первой партконференции Метростроя в январе 1934 г. один из выступавших говорил о «полном отсутствии Советской власти» на Метрострое {1885} . Инструктор Азанова, направленная в феврале 1934 г. на 6-ю дистанцию, установила, что большинство рабочих здесь и не слышали о речи Кагановича и решении Московского комитета партии от 29 декабря 1933 г. Партком на 6-й дистанции был избран лишь в марте 1934 г. {1886}
Каганович, недовольный работой парторганизации Метростроя, в феврале 1934 г. после XVII съезда ВКП(б) вывел партячейки шахт и дистанций из ведения Матусова и подчинил их непосредственно районным комитетам партии. Функции Матусова в качестве партийного организатора и инструктора Московского горкома партии на Метрострое отныне ограничивались контролем за реализацией решений Московских областного и городского комитетов по строительству метрополитена {1887} .
Кроме того, были упразднены партячейки и бюро на участках, их заменили партгруппы с парторгами {1888} . Партгруппы рабочих смен, по большей части возникшие всего несколько недель назад, вновь были упразднены {1889} . Таким способом сократили число партячеек, партгрупп и парторгов {1890} . Партийные организации шахт и дистанций были прикреплены к райкомам партии таким образом, что даже те районы, территорию которых не затронуло строительство метрополитена, все равно значились ответственными за несколько строительных объектов. На ряде шахт и дистанций в марте-апреле 1934 г. сменилось партийное руководство. Московский горком и райкомы посылали на стройку новых партийных секретарей и парторгов {1891} . Коммунисты на строительных объектах в большинстве своем были настроены против функционеров, вышедших не из их рядов, а присланных со стороны, чтобы усилить эффективность контроля «сверху».
Для активизации низовых организаций районные комитеты партии назначили шахтам и дистанциям «шефские предприятия» [218]218
О шефской помощи Метрострою подр. см. Гл. VII. ЗБ.
[Закрыть]и командировали на Метрострой своих инструкторов. Последние ревизовали деятельность партийных секретарей на шахтах и дистанциях, при необходимости их смещали и полным ходом развернули «партработу»: на многих шахтах и дистанциях в апреле-мае 1934 г. впервые были проведены регулярные партсобрания и сформированы партгруппы, которые заслуживали такого звания. Членов групп регистрировали и оценивали в аспекте их знаний и профпригодности. Если кандидатура признавалась подходящей, то члену партии давалось поручение {1892} .
«Мы решили считать основной нагрузкой каждого члена партии – прикрепление его к отдельным группам рабочих, в частности в той бригаде, где он работает. За эту группу рабочих он должен был отвечать. Он должен был так организовать дело, чтобы группа выполняла свой план, ежедневно читать с ними в обеденный перерыв газеты, привлечь их на политучебу, на техучебу, знать досконально их настроение, бывать даже у них дома. Сначала это коммунистам показалось не под силу. Тогда мы решили прикрепить не всех сразу, а более сильных» {1893} .
В конце марта 1934 г. Каганович лично принял важное решение, касавшееся парторганизации Метростроя: по состоянию здоровья Матусов был смещен со своего поста [219]219
Единственным документальным свидетельством по этому поводу является отзыв Абакумова: Стенограмма беседы с Абакумовым, 23 декабря 1934 г. (ГА РФ. Ф. Р-7952. Оп. 7. Д. 310. Л. 8).
[Закрыть]. Новым «парторганизатором и уполномоченным Московского горкома партии по партийной работе на Метрострое» назначили секретаря Сокольнического райкома партии Старостина. Поскольку он сохранил за собой пост секретаря райкома, а значительная часть строительных объектов и жилых поселков Метростроя располагалась на территории Сокольнического района, Старостин обладал гораздо более прочными позициями, нежели Матусов.
Партийные секретари и парторги шахт и дистанций, а также их заместители с этого момента по распоряжению Кагановича больше не избирались, а назначались и отзывались Московским горкомом ВКП(б) [220]220
Внутрипартийные выборы, впрочем, во множестве случаев сводились к фарсу. Процедура избрания благоприятствовала тем кандидатам, кто выдвигался вышестоящими инстанциями или уже фактически был назначен на должность. Голосовали не путем раздачи бюллетеней со списком кандидатов, а по обычной практике открытой подачей голосов. Если первый кандидат получал большинство, то по другим кандидатурам голосование не проводилось. Ср.: Объединенное партсобрание руководства Метростроя и Метропроекта. Протокол 14, б/д [конец ноября – начало декабря 1934 г.] (ЦАОПИМ. Ф. 455. Оп. 1. Д. 2. Л. 59).
[Закрыть]. Кроме того, Каганович командировал на строительство метро сотрудника ОГПУ Кузнецова в качестве уполномоченного по кадровым вопросам (в ранге заместителя Ротерта) и одновременно назначил руководителя городской службы снабжения Дыхне начальником отдела рабочего снабжения Метростроя {1894} . К. Ф. Старостин оставался на своем посту вплоть до завершения строительства первой очереди, а в январе 1935 г. был заменен А. В. Осиповым, который ранее состоял председателем профкома Метростроя {1895} .
Таблица 39.
Численность коммунистов на Метрострое, 1932-1935 гг. {1896}
Дата …… Члены партии / Кандидаты / Всего (% к общему числу занятых)
1 января 1932 …… – / – / 34 (9,3)
Апрель 1932 …… – / – / 75 (1,9)
Декабрь 1932 …… – / – / 343 (4,3)