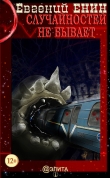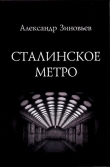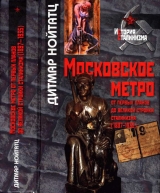
Текст книги "Московское метро: от первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935)"
Автор книги: Дитмар Нойтатц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 53 страниц)
Поскольку газеты могли предать гласности недостаток в лучшем случае с опозданием на день, бригады прессы [250]250
В марте 1934 г. 80 редакторов из состава редакций газеты «Ударник Метростроя», журнала «Массовик» (орган Московского комитета партии) и 35 московских многотиражек были отозваны со своих мест, сформированы в 10 бригад прессы и по сланы на отстающие участки Метростроя. Там они сначала выпускали бюллетени и стенгазеты, позднее и производственные многотиражки (Стенограмма беседы с редактором Антиповым, 24 марта 1935 г. // ГА РФ. Ф. Р-7952. Оп. 7. Д. 341. Л. 90-98).
[Закрыть]искали другие возможности для скорого и «оперативного», по выражению тех лет, реагирования на проблему. Одним из таких способов стали «окна метро»: большие плакаты размером 2 на 3 м с крупной карикатурой, которые вывешивались на стройплощадке таким образом, что их можно было видеть и с улицы, и, так сказать, позволяли заглянуть на стройку. Эти плакаты сильно действовали на виновных в неполадках и вынуждали их принять необходимые меры. Если желаемый результат не заставлял себя ждать, плакаты снимали. На 8-й дистанции с помощью «окон метро» ускорили бетонные работы, на 4-й дистанции плакаты дали толчок атаке «легкой кавалерии» на склад материалов, к которой впоследствии подключилась государственная прокуратура {2099} . Если внутрипроизводственные акции не оказывали нужного действия, плакаты с карикатурами развешивались и на домах, где жили инженеры и прочие ответственные лица. Последний способ применяли в первую очередь против систематически опаздывавших на работу {2100} .
Другой формой быстрого реагирования служили «молнии»: листовки, которые по недостатку времени не печатали, а писали от руки, прикрепляли на двери адресата или копировали в нескольких экземплярах, развешивая в шахте и распределяя по бригадам. Особый эффект давали молнии, снабженные карикатурой и повешенные так, чтобы их тоже можно было видеть с улицы {2101} . «Молнии» звучали, например, следующим образом:
«Бьем тревогу. Гостев срывает монтаж лестницы на 16 вентиляционной шахте. 1 марта первый завод Метростроя (отв. за монтаж тов. Гостев) должен был приступить к монтажу лестницы в стволе вентилятора. Сегодня 3 марта, Гостев к монтажу не приступил. Позор срывщикам графика. Редакция газеты “Вентилятор”» {2102} . [251]251
Монтаж предположительно начался на следующий день.
[Закрыть]
«Тов. Быковский, вы обязаны были поставить насос к [такому-то] числу. Не поставили. Почему?» {2103}
«Молнии» применяли не только редакторы газет, но и коммунисты и комсомольцы, работавшие на стройке. Когда инженер 4-й дистанции заявил, что работа не может быть выполнена к назначенному сроку, рабочие тотчас взяли лист фанеры и написали на нем «молнию» о том, что инженер является «правым оппортунистом», не желает выполнять свое задание и т. д. Такие «молнии» и плакаты развешивались на каждом углу {2104} . Если начальник шахты или участка плохо распределил работу, на своей двери он обнаруживал плакат, как Абакумов, когда на шахте 9 бис из-за недостатка электроэнергии остановилась работа {2105} . Плакаты и молнии, равно как и стенгазеты, которые имелись на каждом строительном объекте, часто даже в отдельных бригадах, давали несомненный эффект. Каждый стремился избежать упоминания своего имени в негативном контексте {2106} .
Б) Реализация власти внутри партийной или комсомольской организацииОтнюдь не все члены партии и комсомола были «энтузиастами». Многих, в том числе и тех, кто был назначен или выбран групоргами, следовало сначала воспитать и дисциплинировать в организации. С консолидацией низовых организаций, прошедшей на большинстве шахт и дистанций в первые месяцы 1934 г., партийные и комсомольские секретари фактически получили возможность руководить своими людьми и влиять на них.
Наиболее распространенной формой реализации власти в партийной или комсомольской группе (ячейке) являлось проведение собраний. Если их вели нормальные люди, эти собрания могли действовать стимулирующим и даже вдохновляющим образом {2107} . Им придавалась важная дисциплинирующая функция. Секретари партийных и комсомольских организаций всех уровней и групорги охотно использовали собрания, чтобы обратить внимание товарищей, каким-то негативным образом проявивших себя, на их персональные ошибки и дать повод коллегам для критических высказываний. Если таким способом и не могли изменить поведение одного члена организации, то во всяком случае для других разбор на собрании становился мерой устрашения.
На первой партконференции Метростроя, состоявшейся в январе 1934 г., лидер партийной организации Матусов осведомился, присутствуют ли на собрании определенные члены партии, исполняющие ведущие функции в управлении Метростроя, и после этого в жесткой форме публично отчитал их за ошибки {2108} . Аналогично протекали собрания на шахтах и дистанциях:
«Большим подспорьем и зарядкой для нашей работы являлись общепартийные собрания. На этих партсобраниях всегда обсуждались вопросы авангардной роли коммунистов на производстве. Например, если механик Бутюгин плохо наладил работу механизмов, то на партсобрании выступают коммунисты, говорят об этом, и это заставляет Бутюгина подтянуться в работе. Были случаи, когда отдельные коммунисты начинали сдавать в работе, но достаточно было поговорить об этом на собрании, чтобы они справлялись. […] Мы старались, чтобы каждое партсобрание идейно обогащало коммунистов» {2109} .
Если смена или бригада не выполняла план, членов партии или даже всю партгруппу вызывали в партбюро и строго спрашивали, почему они сами плохо работали и не позаботились о том, чтобы беспартийные рабочие лучше выполняли задание {2110} . Некоторые групорги ежедневно после работы собирали рабочих своей группы, чтобы узнать, как работали коммунисты, и проверить, выполнили ли они свои обязательства. Одновременно обсуждался и план на следующий рабочий день {2111} .
Сомнительно, чтобы эти меры были действительно столь эффективны, как о том рассказывали метростроевцы в своих интервью. Опрошенные партийные функционеры, разумеется, стремились представить свою работу и работу партии как чрезвычайно успешную и соответствовать ожиданиям интервьюера. Не ясно также, в какой мере описанные методы применялись в отдельных низовых организациях.
Следующей ступенью критики на партийном и комсомольском собрании служило требование выступить с формальным отчетом. В течение 1934 г. многие партийные и комсомольские организации проводили систематические «самоотчеты»: каждый коммунист и комсомолец с определенным интервалом должен был отчитаться перед собранием, как он выполняет свои обязательства на производстве и в политической работе. Коллеги, перед которыми их товарищ держал отчет, знали его по повседневной работе и могли с полным основанием судить о том, сказал ли он правду или просто симулировал активность. Речь при этом шла не столько о том, чтобы рассказать о себе другим, сколько о том, чтобы выступающий с отчетом осознал, где он еще должен «работать над собой». В идеале он сам указывал на собственные ошибки и недостатки. Если он их скрывал или не осознавал, коллеги говорили ему об этом {2112} .
Членов партии и комсомола, которые хотя и были ударниками на производстве, однако не выполняли своей политической задачи, а именно не смогли контролировать и оказывать воздействие на остальных рабочих, побуждали проявлять активность и в этом аспекте:
«На собраниях партгрупп, которые проводятся ежедневно после окончания работ, каждый коммунист и кандидат партии отчитывается о своей работе, говорит, что он сделал, что не сумел сделать. Так мы друг от друга учимся, критикуем, добиваемся темпов, высокого качества работ, добиваемся, чтобы сами коммунисты были политически грамотными, были бы политическими вожаками беспартийных» {2113} .
Если обсуждение отчета в партгруппе или ячейке складывалось для коммуниста или комсомольца неблагоприятно, ему объявляли выговор или лишали звания ударника {2114} . В рамках обсуждения отчета члены партгруппы и ячейки интересовались также обстоятельствами жизни своего товарища. У некоторых причина низкой активности заключалась в том, что им приходилось жить в тяжелых условиях. Тому или другому после «самоотчета» партийная и комсомольская организация оказывали поддержку {2115} .
Изучение жизненных обстоятельств членов организации являлось элементом еще одного распространенного метода реализации власти, который были обязаны использовать партийные секретари и групорги: они должны были «обрабатывать» коммунистов по одиночке, т. е. индивидуально. Хорошие групорги или партийные секретари лично знали своих людей, вели с ними беседы, навещали их в бараках или на квартирах, чтобы составить себе общее представление. «Обработка» могла заключаться в том, что коммуниста призывали проявлять большую активность, благодаря информации, чтению или участию в системе политучебы повышали его «политический уровень», помогали ему в личных делах или предавали гласности его случай на собрании и тем самым оказывали на него моральное давление.
Когда партсекретарь Гусев заметил, что проходчик Трушин охладел к партийной работе, появляется на работе пьяным и четыре месяца не платил членские взносы, он пригласил его для личной беседы в партком. Трушин рассказал, что у него сложности в семье и потому он пропивает свои деньги. Гусев отправился к нему домой и обнаружил, что Трушин с женой и тремя детьми живет в жалких условиях.
«Мы поставили вопрос о работе коммуниста Трушина в бригаде на заседании парткома. На это заседание пригласили всех коммунистов. На Трушине мы учили партийную организацию и комсомольскую организацию, каким не надо быть коммунистом в производстве и как надо бороться. Дали определенное задание, дали срок, выправили в работе и указали, что ему нужно делать. Поставили перед начальником вопрос об улучшении его бытовой стороны» {2116} .
Объектом проверки служили не только отдельные коммунисты и комсомольцы, но и целые комсомольские бригады, большей частью в форме взаимной проверки бригадами итогов работы и выполнения плана. Таким способом бригады, не выполнявшие план, «подтягивали» до уровня передовых {2117} .
Взаимный контроль, как и отчет перед коллективом, стимулировали развитие у людей чувства гордости и честолюбия: комсомольцев вызывали в бюро ячейки и спрашивали, достойны ли его поведение и трудовые успехи звания комсомольца {2118} . Следующим схожим стимулом было поручение ответственного задания:
«Одного я назначил ответственным по вопросам инструментов в бригаде, другого – по вопросам учебы бригады в техкружках и по вопросу политического характера – негласного, невыборного, не-назначенного политруководителя, который следил за членскими взносами, за участием в общественной комсомольской работе, за каждым членом бригады в отдельности, как он работает, чем живет. Был еще культурно-бытовой и административный сектор – это я.
Я следил за нуждами каждого члена бригады, за культурными нуждами, за заработной платой, за его интересами в области производства, особенно разрядов. На разряды я не скупился тем, которые заслуживали этого. Все это создавало в бригаде стимул к повышению производительности» {2119} .
С помощью таких методов партийному секретарю Левитасу удалось вновь привлечь к комсомольской работе одного юношу, который прежде был активным функционером, потом за какой-то проступок был исключен из комсомола и с того времени не хотел иметь дела с комсомолом, большую часть времени праздно проводил в шахте, отвлекая коллег от работы. Левитас узнал, что молодой человек, которого рабочие из-за внешности и манеры держаться прозвали «профессором», был действительно интеллигентом, и поручил ему организовать многодневное массовое представление для молодежи, отпустив необходимые средства {2120} .
Укрепление дисциплины среди коммунистов и комсомольцев осуществлялось также с помощью прессы, газеты «Ударник Метростроя», многотиражек на шахтах и дистанциях, стенгазет, плакатов и «молний». Таким способом освещалась не только их позиция на производстве, но и политическая активность (или отсутствие таковой). Члены партии, которые не посещали кружки политучебы, ничего не делали для «культурного роста» или в качестве парторгов не занимались «массовой работой», могли очутиться в виде карикатуры на страницах газеты или на плакате. В «окнах метро» высмеивали и тех, кто опаздывал на занятия кружков политучебы {2121} .
Упомянутые выше бригады прессы не только разоблачали не справляющихся со своими обязанностями парторгов, но и оказывали им помощь. Они давали советы при распределении коммунистов и комсомольцев по бригадам, помогали при составлении расписания занятий и тематики кружков политучебы и предоставляли материал для чтения {2122} . Когда секретарь парторганизации кессонной группы проигнорировал предложенные бригадой прессы материалы и не улучшил партийную работу, бригада подключила партийный орган – газету «Рабочая Москва». В итоге райком партии взял на себя заботу о партячейке шахты {2123} .
Почти все из описанных методов реализации власти основывались на принципе превращения в публичное дело всего коллектива таких сторон жизни личности, как поведение, ошибки или даже семейные обстоятельства. Если коммунист вел себя политически пассивно, пил или избивал жену, это было не только его личной проблемой, но и предметом разбирательства на партгруппе или в ячейке, которые, само собой разумеется, не оставались в стороне и активно вмешивались в жизнь членов организации.
В) Реализация власти в среде рабочихПубличность и вовлечение в жизнь коллектива были ядром механизма реализации власти и среди рабочих. «Каждый знал, что в случае невыполнения плана ему придется отчитываться не только перед начальством, но и перед целым коллективом, где уже истинные причины отставания никак не скроешь», – полагал начальник 7-й дистанции {2124} . В «окнах метро» на стройплощадках друг напротив друга были выставлены достижения бригад и отдельных рабочих. Медленно работавшие обозначались улитками или черепахами на посмешище своим коллегам и получали зарплату в особой, черной кассе, которая помещалась на самом видном месте. В других странах такие методы вызывали протест со стороны профсоюза. В сталинском же Советском Союзе сами профсоюзы таким способом оказывали на рабочих моральное давление {2125} .
Точно так же, как члена партии подвергали острой критике на партсобрании, простого рабочего «разбирали» на собрании бригады или производственном совещании {2126} . Если речь шла о серьезном проступке, присутствовавшие на рабочем собрании коммунисты и комсомольцы принимали решение просить администрацию об увольнении проштрафившегося {2127} . Хотя коммунисты и комсомольцы почти всегда были в меньшинстве, в подобных случаях им удавалось привлечь большинство присутствовавших рабочих на свою сторону и добиться нужного решения.
В стенной печати и многотиражках рабочие, позитивно или негативно проявившие себя, перечислялись поименно или даже помещалась их фотография с хвалебными отзывами или жесткой критикой. Зачастую помещали карикатуры на нерадивых работников с сатирическими стихами. Чтобы подействовать на лодырей и прогульщиков, которые не реагировали на заметки в газете, карикатуры на них вывешивались в жилых бараках {2128} . Карикатуры и стихотворные вирши об отстающих, а также о передовых рабочих вывешивались в шахтах в виде плакатов. В стихах выражались также простые требования к конкретным лицам или бригадам выполнить определенную работу в срок и надлежащим образом {2129} . Такие методы «массовой» работы особенно интенсивно применялись на заключительной стадии строительства. В тоннелях были развешаны плакаты следующего содержания:
«Бригада плиточников Борисова. Вы взяли обязательство ежедневно давать по 2 квадратных метра на человека. Вы это обязательство не выполняете. Вы срываете нам срок сдачи станции. 3-угольник предлагает вам напрячь все силы и выполнить свою задачу».
«Товарищи, бригада Ларина, треугольник дистанции отмечает вашу ударную работу. Вы взяли встречный [план]. Сделали третий кессон, вы выполнили эту задачу. Мы отмечаем вашу ударную работу и призываем рабочих равняться по бригаде Ларина. Треугольник» {2130} .
Особой формой таких плакатов служили так называемые «сигналы». Они готовились редакторами шахтных многотиражек, брали на прицел тех рабочих, кто работал медленно или недостаточно качественно, и вывешивались у входа в шахту. Чтобы еще оперативнее выпускать «сигналы», редакция газеты «Ударник щита» в разгар работ несколько дней провела прямо на шахте, подготовив в общей сложности 90 таких «сигналов». Мимо «сигналов» постоянно проходили рабочие. Ударники подшучивали и издевались над изображенными в карикатурном виде лентяями, прогульщиками и неумехами.
Часто для исправления недочетов хватало заявления, что материал отправляется в редакцию {2131} .
В самый пик работ, когда речь шла о том, чтобы в экстремально короткий срок закончить проходку тоннеля или отделку станции, комсомольцы и коммунисты выпускали листовки с краткими рифмованными лозунгами, как, например, следующие:
«Чтобы не было видно швов в облицовке,
Мраморщик – больше вниманья к фасовке».
«Мы платим за мрамор высокие цены —
Каждую плитку – в колонны и стены».
«Выметем начисто брак с облицовки,
Мраморщик – больше рабочей сноровки».
«Чтобы станция глядела зеркалом со всех сторон,
Чище полируйте грани облицовочных колонн» {2132} .
Во время проведения кампании по подписке на займы индустриализации на некоторых дистанциях с интервалом 5-6 минут выходила очередная «молния»: рабочие приходили в редакцию и заявляли, что подписываются на заем в размере месячной зарплаты, и называли имена других рабочих, которых вызывали на соревнование, призывая последовать своему примеру {2133} .
Кампании подписки на займы являются наглядным примером того, как давление оказывалось на каждого отдельного рабочего. Профсоюзные активисты уговаривали рабочих, которые совсем не брали облигаций займов или брали немного, подписаться еще и в конце концов добивались своего. Рабочих, которых вызывали на соревнование их товарищи, а они продолжали упорствовать и отказывались приобретать облигации займов, подкарауливала опасность быть разоблаченными на следующем производственном собрании как «вражеский элемент» {2134} . Поскольку у многих метростроевцев было сомнительное социальное происхождение, они предпочитали лучше избежать этого риска. «Если вы позволите провести тайное голосование, за вас никто не проголосует», – цитировал профсоюзный доклад в этой связи выражение одного рабочего {2135} . Другие агитаторы по подписке на займы прибегали к психологическим трюкам, в частных беседах создавая впечатление, будто бы они особо доверяют собеседнику и просят им помочь. Такими методами удавалось добиться желаемого результата, в том числе и в бригадах сезонников, которые явно сторонились займовых операций {2136} .
Не только в период займовых кампаний, но и в других ситуациях рабочие держали себя весьма сдержанно из страха преследований и демонстрировали желательную для властей модель поведения. В источниках по истории строительства метро этот страх лишь редко находит отражение. Одним из немногих примеров является интервью главного инженера шахты № 21-21 бис, в котором старый метростроевец признался, что при прорыве плывуна он полез в шахту с угрозой для жизни только потому, что знал – в противном случае его на следующий же день заберут в ОГПУ {2137} .
Грубые нарушения производственной дисциплины жестко пресекались. Наказанием могло стать лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет {2138} . [252]252
На транспорте мерой наказания могла стать и смертная казнь.
[Закрыть]Трудно сказать, насколько широко на строительстве метро применялось уголовное преследование как средство повышения трудовой дисциплины. Отдельные случаи – не принимая во внимание воровства, растраты и других преступных действий -упоминаются летом 1934 г. в связи с усилиями покончить с вопиюще низким качеством бетонных работ. «Серьезное предупреждение всем бракоделам и их покровителям! Каждый бригадир, десятник, инженер и рабочий должен отдавать себе отчет, что за плохую бетонную работу может попасть на скамью подсудимых», – говорилось в одной шахтной многотиражке в июне 1934 г. {2139} Рабочих и инженеров, виновных в плохом бетонировании тоннельных сводов, народный суд мог приговорить к тюремному заключению на срок от 5 до 12 месяцев {2140} .
Чаще, по сравнению с вмешательством прокуратуры и уголовным преследованием, проходили заседания товарищеского суда и других дисциплинарных органов на самом предприятии. Таблица наказаний по образцовому уставу предприятия, выпущенному правительством 17 декабря 1930 г., предусматривала следующие дисциплинарные взыскания: 1) выговор; 2) выговор с оглашением на предприятии, сообщением в профком и занесением в личное дело; 3) привлечение к ответственности перед товарищеским судом по согласованию с профсоюзной организацией; 4) бессрочное увольнение без выплаты подъемных и запрет занимать должности в промышленности и на транспорте на срок до 6 месяцев {2141} . Эффективная реализация этих взысканий зависела, впрочем, от готовности руководства предприятия строго следовать штрафным нормам, что не всегда имело место в условиях хронического дефицита рабочей силы.
Введенные в 1930-1931 гг. товарищеские суды имели право накладывать следующие наказания: 1) предупреждение; 2) общественное порицание с извещением или без в стенгазете; 3) обязательство возместить причиненный ущерб, если его размер не превышает 50 рублей; 4) представление в дирекцию предприятия об увольнении осужденного; 5) представление в соответствующую профсоюзную организацию об исключении осужденного из профсоюза {2142} .
Инструкция ВЦСПС в апреле 1931 г. призывала товарищеские суды переводить «злостных прогульщиков и летунов» на более низкую категорию снабжения максимум на срок 3 месяца. Побывавшие под товарищеским судом обязывались сдать свои ордера на посещение рабочего кооператива и получить новые, низшей категории. При неисполнении приговора товарищеского суда их исключали из закрытого распределителя и увольняли с предприятия {2143} .
В целом товарищеские суды не оправдали возлагавшихся на них надежд, и в течение 1930-х гг. были оттеснены на задний план народными судами. Они не пользовались уважением рабочих и потому не смогли выполнить поставленной задачи, а именно содействовать их воспитанию. Этим судебным учреждениям не хватало компетенции для того, чтобы дисциплинировать рабочих принудительно {2144} .
На Метрострое товарищеские суды заседали часто, на одной шахте № 22 в 1933 г. прошло 116 таких заседаний. По большей части здесь разбирались дела об алкоголизме и связанных с ним эксцессах и драках в барачных поселках. В 1934 г. под товарищеским судом оказалось много рабочих-бракоделов {2145} . Такие суды зачастую выносили постановления об исключении провинившегося из профсоюза, увольнении его с работы и выселении из барака {2146} .
Комсомольцы и коммунисты придавали черты товарищеского суда также собраниям бригад или рабочих смен. Некоторые комсомольские бригадиры решали наказывать рабочих, замеченных в бездельничании или постоянных опозданиях на работу, выговорами, переводом на пониженную категорию снабжения или исключением из бригады. Для повышения воспитательного эффекта провинившимся давался испытательный срок {2147} . Распространенным наказанием, часто выносимым на собраниях бригады, было лишение звание «ударника» и связанных с ним привилегий:
«Я каждый день проверяю, кто опоздал, кто пришел, кто не пришел. Если выявляются опоздавшие, я в этот же день собираю собрание, и мы обсуждаем это. Тех, кто опоздал на 10-15 минут, мы исключаем из ударников. Список прогульщиков и опаздывающих мы передаем в шахтком. Если знают, что он без уважительной причины прогулял, его увольняют. В отношении же опаздывающих мы сами принимаем меры» {2148} .
На шахте №17 комсомольцы добились от начальника шахты и парткома, чтобы устранение дефектов производилось за счет тех, кто несет ответственность за эти работы. Если произведенная работа не соответствовала техническим требованиям, ее оценивали как брак, рассчитывали расходы по доделке и вычитали их из зарплаты виновника брака. Чтобы бракодела не покрывали его товарищи, каждый, кто заступал на смену, принимался за работу и не сообщал о дефектах, лично отвечал за вскрытые после того недостатки {2149} .
Бригадирам не обязательно надо было накладывать штрафы, чтобы воздействовать на членов бригад. Одной из новаций, введенных комсомольцами на стройке, стали ежедневные «пятиминутные собрания» бригад. На этих собраниях, которые проходили, как правило, после окончания рабочей смены, бригадир оценивал работу каждого в отдельности, причем обходился без церемоний: «Если мы отставали, мы проводили пятиминутное совещание, на этом совещании раздраконишь людей, и на следующий день они больше ворочают», – так заявлял комсомольский бригадир шахты № 12 {2150} . «После окончания работы устраивается пятиминутка, где обсуждается весь прошедший день работы. Тут выявляется работоспособность каждого. И тут происходит самоотсев. Бригада говорит такому-то: ты лодырь и, если ты не исправишься, завтра мы тебя выгоним», – добавлял к этому член партии {2151} . Пятиминутки призваны были не только повысить трудовую дисциплину и темпы работы, но и служить средством воспитания рабочих, отвлекая их, например, от пьянства {2152} . Впрочем, остаются сомнения по поводу того, что эти методы оказались столь эффективны, как это описывали комсомольцы в своих рассказах:
«В нашу женскую бригаду пришли еще парни. Причем, наверное, нам дали самых худших ребят. Вот был такой Болтунов. Первые дни, когда он пришел к нам, он был большим лодырем. А у нас был заведен такой порядок, что по окончании работ мы устраивали пятиминутку и обсуждали на ней, кто как работал. Я всегда говорила сама, что сегодня тот хорошо работал, этот плохо. И о Болтунове пришлось поставить вопрос так: если ты, Болтунов, не исправишься в течение нескольких дней, не будешь работать так, как работают другие девчата, то мы тебя выбросим из бригады. В ударники мы его, конечно, не провели. Болтунов дал слово, что он исправится, и верно, через некоторое время он исправился и стал после лучшим ударником бригады. Вообще моя бригада считалась как бы воспитательной бригадой. Основа у нас была хорошая, и нам стали вливать постепенно парней. Вот, скажем, Скородумов. Его выгнали из бригады проходчиков Владимирова, потому что он очень плохо работал. По решению сменной комсомольской организации его перекинули в мою бригаду на перевоспитание. И через некоторое время Скородумов действительно стал у меня ударником, потому что масса вся заражала работой. Ему было неудобно смотреть и стоять, когда все ударно работали. Еще один такой тип – Балахина Маша. Ее выгнали с 18-й шахты за хулиганство. Она меня знала, знала, что наша бригада хорошо работает, пришла со слезами и плачет: Леля, возьми меня в свою бригаду. Я взяла, решив, что дивчина здоровая и, если над ней поработать, из нее выйдет толк. Она здорово матом ругалась, пуще ребят; в драку иногда лезла из-за вагонов с ребятами. У нас не хватало тогда бетонных вагонов. Над ней пришлось поработать и дома с ней много разговаривать пришлось. Мы жили с ней в одном общежитии. И эта Маша тоже стала хорошо работать, после мы ее назначили звеньевой на поверхности» {2153} .
Собрания или производственные совещания создавали внутри бригады, группы или смены общественное мнение, которое коммунисты и комсомольцы использовали, чтобы проводить свои решения даже против воли большинства и заткнуть рты противникам. На собраниях и производственных совещаниях, в работе которых принимали участие и другие функционеры, многие явно боялись высказать свое мнение, если оно не совпадало с общепринятым, поскольку вынуждены были считаться с опасностью получить нагоняй, или просто не находили в себе мужества публично выступить. С помощью личного примера и призыва к другим рабочим не запятнать свое имя отказом от помощи комсомольцам удалось, например, справиться с маленькой забастовкой против сверхурочных отработок:
«В конце марта на дистанцию приехал т. Каганович. После посещения дистанции Л. М. Кагановичем коммунисты и комсомольцы были посланы в бригады на разъяснительную работу о том, что стыдно нашей дистанции оставаться на черной доске, надо выйти из прорыва. Времени оставалось всего 6 дней до конца месяца, а задолжали больше, чем за половину месяца. За 6 дней надо было наверстать упущенное за 15 дней. Мы начали с того, что рассчитали, сколько на человека кубометров грунта приходится по выемке до конца месяца. Мое звено работало ночью. Получив задание на эту смену и обсудив его, мы стали работать, но к утру почувствовали, что своего задания мы не выполним. Тут же с членами звена обсудили этот вопрос и решили работать, пока не выполним задание, сверхурочно. Но в бригаде были отсталые товарищи, которые потянули за собой большинство, и звено отказалось работать. Мы тут же созвали производственное совещание, которое в дальнейшем стало системой нашей работы. На это совещание пришел парторг Чугунов, сменный инженер, коммунист т. Зинковский. Я предварительно потолковал с комсомольцами тт. Макиным и Кабановым. На этом совещании подвергли резкой критике работу отдельных товарищей и постановили не выходить из котлована, пока не будет выполнено сменное задание.
На вторую ночь я, парторг звена, еще пара коммунистов пришли до начала работы за полчаса, проверили лопаты, кайла, клинья, кувалды с тем расчетом, чтобы не задерживать работу урочного времени. Перекуры старались делать как можно реже, и в результате к утру выяснилось, что мы не только выполнили сегодняшнее задание, но и перекрыли вчерашний долг. Это было встречено ребятами с воодушевлением. В это время к нам является профорг т. Иванов и парторг т. Чугунов и говорят, что соседние бригады т. Смагина не выполняют сменное задание и что им надо помочь. Тут же посоветовавшись с ребятами, решили пойти им помочь. Отказов уже не было ни одного. Перешли на участок бригады Смагина, проработали с ним час и также помогли им выполнить сменное задание» {2154} .
Собрания могли также созываться в целях агитации ad hoc.Партийные функционеры выступали с речами, среди других рабочих их поддерживали члены партии и комсомольцы, которые брали слово и призывали коллег следовать решениям партии {2155} . Задачей коммунистов и комсомольцев и без того являлось проведение «массовой работы» с беспартийными на стройплощадках и в бараках, т. е. вести с ними политические беседы и постоянно влиять на них. С этой целью коммунисты и комсомольцы были соответствующим образом распределены. Их следовало так разместить по строительным подразделениям, чтобы обеспечить по возможности всеобъемлющее влияние партии {2156} .