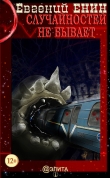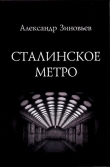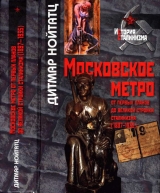
Текст книги "Московское метро: от первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935)"
Автор книги: Дитмар Нойтатц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 53 страниц)
2. Столпы режима на Метрострое и их мотивация
А) Комсомольцы«Быть членом комсомола – почетная задача для всех молодых рабочих и крестьян. Каждый комсомолец своим поведением и работой вовне и внутри союза должен высоко держать честь своей организации и красного коммунистического знамени и защищать как святыню. Комсомолец никогда не должен забывать, что он является будущим членом пролетарского авангарда, Всероссийской Коммунистической партии, и обязан готовиться к достойному выполнению этого громадного и тяжелого долга. Всегда и повсюду, в промышленности и в сельском хозяйстве, в Красной армии и на государственной службе, комсомолец должен быть первым из первых, самым работоспособным, энергичным, добросовестным и мужественным и служить примером для всей молодежи и всех трудящихся» {1231} .
Согласно изложенным в уставе Коммунистического Союза молодежи (комсомола) задачам, от членов этой организации ожидали, что они станут авангардом не только молодежи, но и всей страны. Стать членом комсомола могли молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет. Достигший 23 лет мог оставаться в организации в качестве пассивного члена. Большинство все же непосредственно переходило в партию. Дети рабочих и крестьян-бедняков принимались в комсомол без всяких проволочек, молодежь непролетарского происхождения – после годичного кандидатского стажа и по рекомендации трех членов организации. Доля комсомольцев среди молодежи страны в 1932 г. составляла около 10% (примерно 4 млн. чел.) {1232} .
Образ комсомольца, который рисуют официальные источники и иностранные наблюдатели, в основном совпадает с цитированными выше требованиями устава этой организации. Сотни тысяч комсомольцев в годы первых пятилеток были мобилизованы на крупные стройки, горно-металлургические комбинаты, лесозаготовки или узловые пункты на транспорте. Там, где требовалось сдвинуть дело с мертвой точки или добиться решающего прорыва, всегда призывали на помощь комсомол {1233} .
Даже весьма антикоммунистически настроенный посол Австрии в Москве Генрих Пахер-Тайнбург выражал восхищение юными коммунистами и под большим впечатлением от их деятельности сообщал в январе 1932 г. в Вену: «[…] Наряду с этим имеется относительное меньшинство молодежи, накрепко сплетенное с режимом, которое, по нашим представлениям, работает совершенно нечеловечески, чтобы в условиях нужды и лишений внести свою лепту в достижение цели, о которой им из года в год твердят в газетах, по радио и на собраниях и к которой они стремятся с религиозным неистовством. Это меньшинство, которое, конечно, разрастается с каждым годом, столь неслыханно твердо в своих убеждениях и целеустремленно, что оказывает на прочее большинство значительное моральное давление, тем более что по конституции государства оно имеет все средства для организации, а основная публичная власть пускает в ход все средства, чтобы сорвать попытку создание противоположной организации молодежи» {1234} .
Комсомольцы в своем юном рвении подчас заходили так далеко, что доставляли неудобства старой партийной гвардии. Иностранные наблюдатели в начале 1930-х гг. в один голос писали об остром противостоянии между фанатичной молодежью и старшим поколением {1235} , [118]118
Уильям Чемберлен (1897-1969) в 1922-1934 гг. работал корреспондентом газеты Christian Science Monitor в Москве.
[Закрыть], и даже были отчасти озадачены оптимизмом и непоколебимой верой комсомольцев в светлое будущее: «Извечный конфликт мировоззрения и психологии старшего и молодого поколений в России, нашедший высшее художественное выражение в «Отцах и детях» Тургенева, сейчас более очевиден, чем прежде. Духовное столкновение сейчас более естественно и неизбежно, поскольку патриархальное дореволюционное поколение и новое советское противостоят своей лояльностью, вкусами и идеями, часто остро противоречащими друг другу. Молодой коммунист или комсомолка не могут понять, почему отец или мать, даже если те в молодости были революционерами, не разделяют их безоглядного энтузиазма по поводу Магнитки или Днепростроя. Отец же и мать не могут себе представить, почему их дети столь спокойно и даже позитивно воспринимают такие вещи, как ликвидация кулаков, ссылки и депортации без судебного разбирательства, полное подавление критики коммунистической идеи» {1236} .
В провинциальных газетах начала 1930-х гг. можно было прочесть массу открытых писем молодых людей, порвавших со своими родителями. За этим часто стояли соображения выгоды, поскольку дети лишенных прав («лишенцев») пытались таким способом избавиться от статуса изгоя, хотя немало было случаев, когда так поступали без внешних побудительных причин {1237} .
Не каждый комсомолец являлся фанатиком. Многие рассматривали принадлежность к комсомолу исключительно или по преимуществу как средство для профессиональной или социальной карьеры {1238} . Членство в комсомоле давало преимущество при поступлении в учебные заведения. Для молодых людей, приехавших в город из села, вступление в комсомол сулило, кроме того, возможность познакомиться с другими сверстниками. Многие поддавались натиску агитаторов просто из лени {1239} . Вольфганг Леонард, который в конце 1930-х гг. как убежденный юный коммунист находился в эмиграции в Москве, распределял своих товарищей-комсомольцев на 4 категории: сначала шли «энтузиасты», брызжущие активностью и инициативой, которые работали в комсомоле с воодушевлением и самопожертвованием, но не забивали голову политическими проблемами и, вероятно, могли бы с тем же успехом служить иной идеологически
Сначала он симпатизировал Советскому Союзу, но затем на собственном опыте избавился от иллюзий. направленной организации. Следующий тип комсомольца вступал в организацию по политическим убеждениям. Такие члены организации отличались активностью в политической дискуссии, но вовсе не были такими «энтузиастами», как представители первой группы. К третьей категории относились «карьеристы», видевшие в комсомоле прежде всего трамплин для ускоренного достижения впечатляющих постов. Четвертый тип Леонард назвал «равнодушными», которые не ломали голову над проблемой вступления в комсомол, последовав исключительно примеру друзей {1240} .
Убежденные комсомольцы благодаря их воспитанию и продвижению в организации приобретали общие характерные черты. Сторонние наблюдатели говорили о неком «стандартном типе», который появился в результате развития определенных качеств и подавления других {1241} . [119]119
Подобное же наблюдение сделал Пелленк (Pellenc. 1936. Р. 124): «Они настолько похожи друг на друга, что можно поверить в существование нового советского человека».
[Закрыть]Типичный «правильный» комсомолец в этих источниках описывается как воспитанный советской школой сызмальства в большевистском духе, с узким горизонтом, не способный к критическим суждениям, привыкший никогда не обсуждать приказы и одобрять все, исходящее сверху, отличающийся бессердечием, завышенной самооценкой, незнанием прошлого и искаженным до гротеска восприятием настоящего {1242} . Воспоминания Вольфганга Леонарда о его тогдашних оценках того, что происходило вокруг, выдержаны примерно в том же духе:
«Мою мать арестовали, я пережил арест моих учителей и друзей и, разумеется, давно заметил, что советская действительность была совсем иной по сравнению с ее описаниями в “Правде”. Но каким-то образом я отделял эти вещи, в том числе мои личные впечатления и переживания, от своих политических убеждений. Как будто бы существовало два уровня: на одном находились мои ежедневные события и собственные переживания, по поводу которых я нередко отзывался критически, а на другом проходила генеральная “линия”, которую в то время, несмотря на некоторые сомнения, я “в принципе” все еще считал верной» {1243} .
Дневник Степана Подлубного свидетельствует, как даже кулацкий сын смог увлечься идеей социалистического строительства. Хотя он жил в постоянном страхе перед органами и опасался, что из-за сокрытого происхождения его депортируют, он настолько хотел – не по карьерным соображениям, а из убеждения – стать образцовым активистом, что был готов служить информатором компетентных органов («сексотом») {1244} . Он не сомневался в легитимности сталинской классовой политики. Классово чуждые элементы, такие как он сам, на его взгляд, обладали «больной психологией», от которой они были обязаны избавляться с помощью беспрестанной работы над собой {1245} .
Тот факт, что дети кулаков скрывались в городах и становились образцовыми рабочими (до тех пор, пока их не «разоблачали» и не изгоняли оттуда), отнюдь не единичен и может быть объяснен различными причинами {1246} : [120]120
Последующие рассуждения заимствованы из введения к изданию дневника Подлубного, написанного составителем Йохеном Хелльбеком.
[Закрыть]свою роль играла привитая им в семье высокая трудовая мораль {1247} . Другие могли надеяться на «искупление работой» греха своего происхождения {1248} . Примечательна в этой связи чрезвычайно высокая доля рабочих классово чуждого происхождения в стахановском движении {1249} . Если не брать в расчет эти идеалистические интерпретации, для многих кулацких сыновей речь просто шла о том, чтобы избавиться от клейма кулацкого происхождения и обрести безопасное существование.
Советская публицистика настолько прославила комсомольцев Метростроя с их «энтузиазмом», что они стали воплощением метростроевца, преданного делу социалистического строительства. При этом упускали из виду, что среди строителей метро комсомольцы составляли меньшинство и ни в коем случае не представляли прочих рабочих, и, кроме того, общий эпитет «энтузиаст» никак не может быть отнесен к значительной части комсомольцев.
Как отмечалось выше, мобилизация проходила не без трений: из 20 тыс. призванных комсомольцев (13 тыс. в 1933 г., 7 тыс. в начале 1934 г.) к июню 1934 г. на Метрострое продолжали работать только около 9 тыс., из них 7943 на шахтах и дистанциях [121]121
См. Гл. III. 2.
[Закрыть]. Это соответствовало 18% штатного персонала шахт и дистанций в самый разгар работ {1250} . [122]122
По отдельным шахтам и дистанциям в других источниках лишь имеются фрагментарные сведения. Например, на шахте № 17 в мае 1934 г. трудилось 2600 рабочих, из них 423 комсомольца, или 16, 3% (Стенограмма беседы с комсомольцем Хохряковым, шахта 17, 9 мая 1934 г. // ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 241. Л. 29).
[Закрыть]К началу 1935 г., когда коллектив рабочих был снова сокращен до 35 тыс. чел., в отчетах отделов кадров зафиксировано 4756 комсомольцев (13,6%). Даже на «комсомольской шахте» № 12 (щитовая проходка под Театральной пл.) доля комсомольцев в начале 1935 г. составляла лишь 18,5% .На всех прочих шахтах и дистанциях она была еще ниже {1251} . [123]123
Некоторые шахты и дистанции не указали, впрочем, количества комсомольцев, так что итоговая цифра удельного веса комсомольцев должна быть несколько выше.
[Закрыть]
Те комсомольцы, кто, несмотря на трудности и разочарования первых недель, остался на стройке, являлись твердым ядром рабочего коллектива и соответственно обладали высокой мотивацией. С юношеским порывом они взялись за работу, в короткий срок овладели нужной квалификацией и в течение нескольких недель приобрели руководящие позиции среди рабочих {1252} . Твердое ядро комсомольцев обладало прочным групповым сознанием и выступило в роли помощника партии в деле воспитания рабочих {1253} . Оно формировалось отчасти в виде собственных комсомольских бригад, частью существующие бригады были пополнены коммунистами и комсомольцами {1254} . Мобилизованные перенимали руководящие функции в партийных, комсомольских и профсоюзных организациях и инициировали «социалистическое соревнование» и движение «ударничества» {1255} . Их прибытие обозначало поворот в самовосприятии в отношении темпов и производительности труда {1256} . Как свидетельствует уничтожающая критика Кагановичем эффективности производства на Метрострое в декабре 1933 г., перелом последовал не тотчас вслед за приходом на стройку мобилизованных комсомольцев, но при «штурме плана» весной 1934 г. они без сомнения сыграли решающую роль {1257} .
Биографические данные молодых коммунистов не отвечали созданному пропагандой образу кристально чистого пролетария. Так, социальное происхождение было классифицировано в отношении 384 комсомольцев шахты № 18: только 162 из них (42,2%) родились в семьях рабочих, 181 чел. (47,1%) были крестьянскими детьми, 33 (8,6%) – выходцами из семей служащих, 8 (2,1%) являлись прочего происхождения. Подавляющее большинство к моменту мобилизации имели трудовой стаж от 1 до 2 лет: 21 комсомолец из 384 впервые начал работать в 1933 г., 66 – в 1932, 183 – в 1931 и 50 – в 1930 г. {1258}
Автобиографические данные, содержащиеся во взятых в 1934-1935 гг. у метростроевцев интервью, дают схожую картину (см. табл. 22). Количество лиц, относительно которых мы имеем сведения, весьма невелико. Не может быть и речи о представительной статистической выборке, поскольку опрашиваемые не были выбраны по случайному принципу. Для бесед подбирали таких комсомольцев, которые производили впечатление примерных активистов или ударников. Но поскольку нас интересует здесь именно это активное ядро, интервью представляют собой содержательный источник.
Из 45 опрошенных комсомольцев, занятых на строительстве метро в качестве рабочих или функционеров, 19 (42,2%) происходили из крестьянских семей. 12 (26,7%) были детьми рабочих, 4 (8,9%) – служащих, 3 (6,9%) – ремесленников, еще 3 -учителей, врачей и священников. Детство в деревне провели 27 (60%), столько же в 1929-1933 гг. впервые приехали в Москву. 38 (84,4%) родились в 1911-1917 гг., причем большинство в 1912 г., и, таким образом, к моменту поступления на стройку были в возрасте 16-22 лет. Революцию и гражданскую войну они пережили детьми. Женщин среди них было 27 (57,8%), причем эта группа среди опрошенных резко превышала средний процент женщин на строительстве. Доля женщин среди комсомольцев Метростроя достигала максимум 30%.
Почти все получили школьное образование в советской школе, 9 (20%) учились даже в техникумах, на рабочих факультетах вузов или в педагогических училищах, получая тем самым дополнительный шанс для повышения образования и успешной карьеры. 19 (42,2%) своим подъемом были обязаны комсомолу и профсоюзу. Поднявшись с самых низов, они стали секретарями комсомольских ячеек и районных комитетов {1259} , председателями колхозов {1260} , членами Моссовета {1261} , членами фабричной и заводской администрации {1262} или по поручению комсомола направлялись в различные места, чтобы снимать там кино или форсировать коллективизацию сельского хозяйства {1263} .
На удивление много (8 чел., или 17,8%) детство провели сиротами или беспризорниками [124]124
Следует еще изучить, насколько велика была доля таких людей среди членов комсомола и партии, чтобы оценить является ли эта частотность случайной или общим феноменом. Крайне необходимо для дальнейшего исследования создание коллектив ной биографии комсомольских, партийных и профсоюзных функционеров нижнего и среднего звена, причем здесь напрашивается сравнение с национал-социализмом.
[Закрыть]. Эти лишенные корней люди, которые не испытали нормальной семейной жизни и вели жалкое существование без традиционных ценностных представлений, обрели в комсомоле и затем в партии замену семье и одновременно ту инстанцию, которая обеспечивала социальную защищенность и стабильную систему ценностей наряду с заданными непреложными истинами, на которые они могли ориентироваться.
То же наблюдение относится, вероятно, к тем комсомольцам, кто провел детство в деревне. Русская деревня имела традиционный нравственный авторитет, равно как и православная церковь, правда, утратившая после 1917 г. силу своего воздействия. С переездом же выросших в селе юношей в город они лишались оставшихся связей и помощи в ориентации, тем более что теперь – в силу явных различий между городом и деревней – сельская жизнь должна была им казаться безнадежно отсталой. Они также обретали в комсомоле и партии новый авторитет, обещавший им поддержку [125]125
Отсутствие поначалу ориентации и поиски опоры в комсомоле отчетливо выражены в некоторых автобиографиях комсомольцев. Ср., напр.: Стенограмма беседы с комсомолкой Соколовой, шахта 16, 11 апреля 1934 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 267. Л. 1-3).
[Закрыть].
Среди опрошенных комсомольцев не нашлось, разумеется, таких, кто признался бы, что является отпрыском кулацкой семьи, хотя на строительстве метро имелись и таковые {1264} . Их восприятие коллективизации 1928-1933 гг. было безусловно иным, чем у детей бедняков, которые ушли в город, где стали рабочими, а в 1930 г. по поручению комсомола возвратились в деревню для проведения коллективизации, приняв активное участие в выселении кулаков. Для тех, кому плохо жилось в деревне, переезд в город и участие в социалистическом строительстве означали социальный подъем и улучшение жизненной перспективы. Разрушение прежнего сельского уклада и преследование кулаков многие из них открыто считали необходимым делом [126]126
Ср.: Стенограмма беседы с бригадиром Мельниковым, шахта 13-14 (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 316. Л. 291-294): Мельников, сын крестьянина из западных губерний, после окончания школы в 1926-1927 гг. работал кочегаром на фабрике. Затем он был послан комсомолом на курсы «кинофикации» села. В последующие годы он организовывал в различных селах показы кинофильмов и вместе с тем участвовал в коллективизации. В 1933 г. был мобилизован на Метрострой; то же с бригадиром Здоровихиным, шахта 15, 4 октября 1934 г. (там же. Д. 301. Л. 125-132): Здоровихин родился в 1913 г. в Саратовской губернии в семье крестьянина, после смерти родите лей в 1918 г. воспитывался в детском доме, где, по его собственным словам, голодал. В 1924 г. он бежал поэтому из детского дома, уехав на Черное море и Кавказ, «чтобы посмотреть мир». После этого жил у тетки и четыре года ходил в школу. В это время он уже был активным пионером, т. е. членом детской организации комсомола. В 1930 г. вступил в комсомол. В 17-18-летнем возрасте по поручению комсомола совершил многочисленные «командировки» в сельскую местность, где обратил на себя внимание участием в реквизиции зерна и преследованием кулаков (там же. Л. 126-131 с подробным описанием своих действий). После практики в колхозе он работал контролером и позднее освобожденным секретарем комсомольской ячейки на строительстве. В 1933 г. приехал в Москву, приобрел специальность слесаря и электрика, причем прошел путь с самых низов до рабочего пятого разряда. Осенью 1933 г. он был мобилизован на Метрострой.
[Закрыть].
Таблица 22.
Общие черты биографий 45 комсомольцев, занятых на Метрострое в качестве рабочих и функционеров {1265} , [127]127
При указании профессии отца иногда встречаются двойные обозначения, например: «Дьякон, который наряду с этим занимался сельским хозяйством», или «Рабочий, связанный с деревней». Исключены из таблицы те комсомольцы, которые принадлежали к технической интеллигенции, а также комсомольские функционеры, которые уже состояли в партии. Эти группы будут особо рассмотрены в следующих главах.
[Закрыть]

Известная комсомолка Татьяна Федорова, которая в 1933 г. была мобилизована на Метрострой, в 1937 г. избрана в Верховный совет СССР и впоследствии, в 1961-1986 гг., работала заместителем начальника Метростроя, описала в своих, впрочем, весьма преукра-шенных воспоминаниях, как она, родившаяся в 1915 г. и выросшая в селе на Дону, еще ребенком поклялась в верности Советской власти. В годы гражданской войны ее село было разграблено и сожжено бандитами. Вдруг, как в сказке, появились красноармейцы и отогнали бандитов: «Что значит Советская власть, что такое союз рабочих и крестьян, я в первый раз узнала в раннем детстве, в то далекое и тяжелое время. Городские рабочие, Красная армия пришли на помощь погорельцам. […] На наших глазах поднялись хаты, и еще краше, чем прежде. Они отремонтировали любимый всеми народный дом, место общих собраний, праздников, вечеров, театральных постановок. […] Никогда в жизни не забуду я этот маленький дом. […] В моем первом пионерском отряде я поняла, что значат коллектив и дружба. Нам говорили: “Вы молодые хозяева страны, вы за все в ответе, вам все по плечу”. С этим чувством я жила и живу сегодня. Советская власть -это мы» {1266} .
Некоторые из этих биографий могли состояться только в условиях советской системы, а именно когда разнорабочие, батраки и уборщицы [128]128
Стенограмма беседы с ударницей Соколовой, шахта 16, 11 апреля 1934 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 267. Л. 1-3). Соколова приехала в Москву в 1926 г. из села, пару месяцев проработала нянькой, ночевала на вокзалах и жила случайным заработком. Комсомольцы, с которыми она подружилась, устроили ее в 1928 г. на фабрику, где она начинала уборщицей и продвинулась по комсомольской линии до секретаря ячейки. В сентябре 1933 г. ее мобилизовали на Метрострой, где на своей шахте она вскоре стала лидером женской организации («женорг»), членом комитета комсомола и профкома.
[Закрыть] с незаконченным школьным образованием в кратчайший срок поднимались на ведущие позиции или выполняли поручения своей организации, которые были связаны с властью над жизнями многих людей (реквизиции зерна, коллективизация). Даже приняв во внимание тот факт, что описанные в интервью истории успеха и социального подъема связаны с конструированием биографий в желательном для режима свете – в духе вышеупомянутого советского «учебного романа», – все же нет оснований сомневаться, что многие действительно воспользовались предоставленным системой шансом для социального взлета.
Раскинутая по всей стране сеть комсомольских, партийных и профсоюзных организаций сулила сотням тысяч активистов, которые в иных условиях по уровню образования стали бы в лучшем случае квалифицированными рабочими, возможность занять высокие посты если пока еще не на предприятии и в управленческом аппарате, то по меньшей мере в общественной организации. Легко представить, что такие люди испытывали чувство лояльности по отношению к партии, комсомолу и советской системе в целом, события вокруг себя воспринимали как прогресс и в дальнейшем продолжали служить системе.
Некоторые уже сделали карьеру функционера, которого по заданию своей организации на пару месяцев «бросали» на новое место, как на военном языке называли тогда эти служебные задания [129]129
Стенограмма беседы с комсомольским секретарем Млодиком, шахта 9-9 бис, 17 ноября 1934 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 305. Л. 41-48). Млодик родился в 1911 г. в Могилеве в семье служащего городской управы, в 1925 г. прибыл в Москву для учебы, но сто никуда не приняли, так как он был слишком молод, и пошел учеником на фабрику. В 1927 г. он вступил в комсомол и вскоре стал членом комсомольского комитета предприятия. В 1930-1931 гг. по заданию райкома комсомола работал секретарем комитета комсомола поочередно на трех заводах. В сентябре 1933 г. был мобилизован на Метрострой. Ср.: Стенограмма беседы с комсомольским организатором Мордвишовым (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 316. Л. 327-337). Мордвишов родился в 1913 г. в Москве в семье каменотеса, после школы работал автомехаником. В 1930 г. он вступил в комсомол, работал агитатором и культоргом на различных предприятиях. В 1931 г. он стал освобожденным секретарем комитета комсомола. В 1932 г. районный комитет направил его в качестве представителя комсомола в Московский трест озеленения. После этого он руководил строительством детского парка на Патриарших прудах. Ра ботал политическим руководителем музыкального поезда Осоавиахима, и затем вновь автослесарем. В 1933 г. он добровольно записался на строительство метро.
[Закрыть]. Эта постоянная готовность к новой работе в психологическом плане усиливала чувство собственной «важности» и готовности в переломный момент занять место на передовой линии фронта, так сказать, делать историю, что во многих интервью читается между строк.
Мотивы, которыми руководствовались комсомольцы, когда добровольно записывались на Метрострой или после окончания срока командировки оставались здесь, несмотря на ужасающие условия, были весьма различны. Идеалистов подталкивала сама идея строительства метро. «Я очень хотела на Метрострой, чтобы там правильно работать и оказывать помощь в комсомольском духе. […] Они не отпускали меня, мне оставалось только реветь», – описывала комсомолка Лукьянова безуспешную попытку пойти по мобилизации на строительство метро, несмотря на противодействие руководства ее предприятия. Ей позволили уйти с фабрики только в январе 1934 г. {1267} Другого опрошенного, по его выражению, охватило «радостное настроение и большое желание поработать на этой шахте», когда секретарь комсомольской ячейки на Электрозаводе под надуманным предлогом послал его на работу в шахте Метростроя {1268} . Стремление поработать на строительстве метро у некоторых было столь велико, что они не обращали внимания на предостережения, что работа там тяжела, грязна и плохо оплачивается. Они отказывались даже от медицинского осмотра из опасения, что их могут признать негодными {1269} .
Некоторыми двигало желание собственными руками поучаствовать в советском строительстве и иметь возможность прикоснуться к сделанному: «Я много читала, как работается на новых стройках. Я хотела сама возводить стены, проходить по тоннелям и дотрагиваться рукой до всего, что сама построила», – рассказывала одна комсомолка, которая без разрешения райкома комсомола, признавшего ее чересчур юной, отправилась на строительство метро {1270} . Подобные же мотивы руководили, по всей видимости, работницей, которая подала заявление о переходе с текстильной фабрики на Метрострой: «Меня все время тянуло к земле, потому что с детских лет занималась сельским хозяйством» {1271} .
Приход на Метрострой столь же воодушевляет, как отправка на фронт. Сами экстремальные условия работы в шахтах для ряда молодых людей воспринимались как вызов на бой. Строительство метро для них было пробой сил, актом эмансипации, ощущением борьбы и военным переживанием, служившим для них своего рода заменой революции и гражданской войны, в которых им по возрасту не пришлось участвовать. Они не хотели уступать поколению отцов, о подвигах которых в годы гражданской войны они слышали и читали. Один комсомолец описывал охватившие его чувства, когда он прочитал в брошюре, что юный Саша Косарев, в 30-е гг. генеральный секретарь комсомола, в 15-летнем возрасте сражался на фронтах гражданской войны: «Когда я прочел, на меня это произвело огромное впечатление, у меня появился громадный энтузиазм. Я думал о том, что вот Саша Косарев боролся, а где же мне теперь бороться, и я сказал сам себе – найдется и тебе, где бороться. И вот я перехожу на другой фронт, на фронт строительства» {1272} . В шахте он затем себя чувствовал буквально героем на фронте, тем более что был назначен бригадиром и тем самым выполнял функции «командира» {1273} . Многие комсомольцы черпали энергию из идеи, что они находятся на войне [130]130
См. об этом подр. Гл. IV. 5В.
[Закрыть].
«Комсомольцы были готовы форменным образом умереть за бетон. Были случаи, когда люди падали, но не выходили из шахты. Пролежав 30 минут, брались опять за вагонетку. […] Этот энтузиазм, этот комсомольский огонь, такая преданность людей к труду – я этого еще не встречал в своей жизни» {1274} .
Метро как поле испытания притягивало к себе также девушек и молодых женщин. Приводимая ниже цитата хотя взята не из интервью, а из беллетризованной рукописи, написанной в 1934-1935 гг., весьма живо рисует комсомольский «поход»: «Комсомольские секретари пошли по заводским цехам мобилизовать людей на строительство метро. Многие не имели представления, что такое метро, но слышали, что в СССР прежде не было ничего подобного и что первое метро строится в Москве. Этого хватило, чтобы тысячи записались добровольцами. Никогда раньше они не видели шахту и никогда не слышали о штольне. Это было похоже на фантазию. Тут пошли девушки. Начался великий поход на шахты и дистанции первого метро с фабрик, заводов, библиотек, канцелярий, техникумов, трестов, рабфаков. Овеянное романтикой великих строек, метро волновало души. Этим девушкам не довелось быть на Днепрострое и Магнитстрое. Гражданская война была для них легендой. Метро давало возможность поквитаться с эпохой» {1275} .
В смысле критики источника остается открытым вопрос, насколько процитированные строки отражают действительное субъективное переживание или являются индивидуальной или групповой инсценировкой молодых коммунистов. Образ действий комсомольцев и отзывы о них со стороны свидетельствуют о том, что действительно имелось твердое ядро «энтузиастов» и «борцов». Но все же описанные выше мотивы были свойственны только части комсомольцев-метростроевцев. Многие к моменту прихода на Метрострой не имели точного представления, что собственно будет ими построено [131]131
Ср., напр.: Стенограмма беседы с комсомолкой Забродиной, шахта 12 (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 267. Л. 19): «Я не имела понятия, конечно, что такое метро, даже не представляла себе. Я просто охотно пошла на метро»; то же с комсомолкой Моргуновой, шахта 36-37, 27 октября 1934 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 305. Л. 2): «До прихода на шахту я совершенно не представляла себе, что такое проходка. Мы просили зачислить нас в проходку, а что такое проходка – понятия не имели».
[Закрыть]. Они разрешали занести себя в списки или подавали заявления добровольно не столько потому, что по идеологическим мотивам хотели принять участие в построении социализма, сколько по ряду других причин, которые носили скорее личностный, чем идеологический характер [132]132
На это указывал уже Вольф (Wolf. 1994. Р. 134-158), приведя множество примеров, которые частью идентичны упомянутым здесь случаям.
[Закрыть].
Многие отправились на Метрострой не по собственному желанию, а были обязаны это сделать – или чувствовали себя обязанными. Главную роль здесь играла комсомольская дисциплина, по своей жесткости сравнимая с дисциплиной в воинском подразделении. От комсомольца ждали, чтобы он исполнил свой долг там, куда поставлен организацией. И те, кто вовсе не был воодушевлен, когда их посылали на стройки, мирились с этим и по крайней мере внешне придерживались желательной модели поведения. «Железная дисциплина» была важным элементом идеального представления о примерной комсомольской ячейке или бригаде [133]133
Ср.: Стенограмма встречи бригады Яремчука с ударниками шахты 9, 4 сентября 1934 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 243. Л. 40): «С первого дня у нас чувствовалась железная дисциплина. Бригадир Яремчук четко руководил нами, и все приказы с его стороны нами выполнялись аккуратно и своевременно».
[Закрыть]. В сентябре 1933 г. комсомольского секретаря Полежаева вызвали в райком и приказали в тот же день вместе со всей комсомольской организацией его предприятия пройти медицинский осмотр. Его при этом не спрашивали, хочет ли вообще молодежь пойти на строительство метро {1276} . Реакция на эти приказы была различной: некоторые отказывались, другие при первой возможности сбегали, третьи, стиснув зубы, внутренне подчинялись, хотя им это было не по нутру, или они только что начали учебу [134]134
То же с комсомолкой Никитиной, 7-я дистанция, 3 декабря 1934 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 317. Л. 26-27): «Но я говорила: если комсомол требует, если идут многие комсомольцы, […] я должна работать на тех работах, на которых работают другие»; то же с комсомолкой Моргуновой, шахта 36-37, 27 октября 1934 г. (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 305. Л. 1): «[…] Мне очень хотелось учиться. Но когда мне сказал секретарь, что меня посылают, то делать было нечего, раз комсомол посылает, надо идти». Спустя несколько недель, проведенных в шахте, она настолько отождествляла себя со своей новой работой, что не могло быть и речи об уходе. «Учиться я могу и позже», – сказала она себе. Идентификация ее распространялась, впрочем, не на метро как таковое, а на свою шахту: «Когда нас послали на 30-ю шахту, нам очень не хотелось туда идти, и мы все время ходили к нашему начальнику с просьбой, чтобы он взял нас назад, потому что интересно кончить то, что сами строили» (там же. Л. 4).
[Закрыть].
Ряд молодых людей отправились на стройку вопреки совету родителей и друзей, отчасти подчиняясь приказу, но также потому, что чувствовали себя морально обязанными. Хотя родители комсомолки Завражиной убеждали ее вернуться на фабрику, она приняла решение остаться на шахте: «Я считала трусостью отказаться от работы на метро, я не представляла себе, как я уйду с шахты. Ведь меня исключили бы из комсомола, а я очень дорожу комсомолом. Так я и осталась. Правда, когда мне трудно на работе, я дома ничего не говорю об этом» {1277} .
Секретарь комсомольской ячейки, чьи люди противились откомандированию на метро, волей-неволей должен был подать собственный пример, хотя он был болен туберкулезом и отец с дедом, оба члена партии, отговаривали его от этого шага: «[…] Я комсомолец с 1928 года. Я решил так – сумею я пройти через это дело, тогда я действительно комсомолец на большой палец, готовый пожертвовать жизнью за Советскую власть. И я решил пойти на метро, чтобы оправдать свое комсомольское звание» {1278} .
На другом заводе мобилизованные на Метрострой комсомольцы потребовали от комсомольского секретаря, чтобы он тоже включил себя в списки {1279} . Другой комсомолец «не мог отказаться», когда ему настоятельно рекомендовали пойти на строительство метро. При врачебном осмотре у него выявились физические недостатки, но он убедил главврача записать его годным, «чтобы это не выглядело, будто я не хочу пойти на метро» {1280} . Высказывания комсомольца Чернова также свидетельствуют больше о внутреннем побуждении, чем о слепом послушании: «Секретарь комсомольской ячейки Гусев на комсомольском собрании рассказал нам о значении метро, о том, что лучшие комсомольцы должны пойти туда работать. Я тут же выступил и заявил о том, что иду на метро, дал слово ребятам, что обязательно выполню возложенную на меня задачу» {1281} . «Недаром мы комсомольцы и комсомолки!» – думал бригадир, когда молодая девушка, которую он отпустил домой, обессилевшую от сердечных болей, вскоре опять появилась на строительном участке {1282} .
У многих, впрочем, чувство внутреннего долга дополнялось также страхом исключения из комсомола: «В райкоме поставили вопрос таким образом, что, если не пойдешь, отдашь комсомольский билет. А мне этого не хотелось, мне вообще не хотелось из этой комсомольской организации уйти. Хотелось остаться среди своих ребят» {1283} . Личные интересы с точки зрения комсомольской организации не имели значения: «Секретарь ячейки меня спрашивает, ну, Настя, пойдешь на метро? А я отвечаю: посоветуюсь с родителями. А он мне и говорит: а ты когда в комсомол поступала, обещала все выполнять, должна и это выполнить. Пришлось согласиться» {1284} . Комсомолка Одрова, таким образом попавшая на Метрострой и поставленная бетонщицей, вначале отказалась от этой работы, но затем смирилась, утешая себя тем, что ей придется проработать только несколько месяцев: «Часто, бывало, про себя думала: ну их к черту с этой работой. Иногда бригадир скажет: уйдем, Настя, отсюда, оставим комсомольские билеты. А я ему отвечаю: что ты, остается уже немного, а мы бросим комсомольские билеты» {1285} .
Дополнительные обязанности профсоюзной активистки и, прежде всего, участие в «легкой кавалерии» [135]135
«Легкая кавалерия» – набранный из добровольцев контрольный орган комсомола, устраивавший проверочные «рейды» в цехах, канцеляриях или на предприятиях в целом.
[Закрыть]поддерживали ее терпение, поскольку таким способом она могла несколько скрасить подневольную работу {1286} . Связанная с членством в комсомоле «общественная» работа, т. е. поручения, выполняемые помимо собственно трудовой деятельности, воспринималась не только как обременительный долг, но вносила в жизнь разнообразие, рождала чувство ответственности и давала возможность проявить власть. Нельзя недооценивать и тот мотив, который рождал чувство причастности к совершению чего-то важного [136]136
Ср. признание комсомольца Башкова, шахта 21: «Через четыре месяца работы меня поставили звеньевым. Тут у меня появилось не только хорошее отношение к работе, но и чувство ответственности за свое звено. Меня радовало то, что мне доверяют эту сложную работу» (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 302. Л. 162).
[Закрыть].
Большинство молодых коммунистов впервые в жизни оказались на ответственном посту, командуя рабочими в качестве бригадиров или как инспекторы по качеству обретая такие права, которые придавали им авторитет даже у среднего руководящего состава шахт и дистанций. Совмещение постов было обычным делом: примерный комсомолец-активист помимо того, что являлся бригадиром, выполнял также обязанности «общественного инспектора по качеству» [137]137
См. об этом Гл. VI. 5.
[Закрыть], профсоюзного организатора, редактора многотиражки участка, а также работал пропагандистом в бараках {1287} . Чувство собственной значимости и востребованности усиливалось высоким рангом стройки, которая была у всех на устах, а также тем фактом, что строительство метро часто посещали известные деятели советской страны: «Когда со мной разговаривал тов. Шверник (советский профсоюзный лидер. – Д. Н.)и еще тут же был тов. Осипов из пострайкома, то я себя чувствовала на таком большом посту», «Шверник со мной разговаривал больше часа. После таких вещей я с еще большей яростью брался за работу. Вообще, если в райкоме мне что-либо говорили или Шаширин разговаривал, я после этого собирал бригаду и говорил», «Ребята, перед нами поставлены такие-то задачи. Это очень много помогало в работе» [138]138
То же с комсомольцем Лимончиком, шахта 13-14 (ГА РФ. Ф. 7952. Оп. 7. Д. 304. Л. 9). Кандидатура Лимончика также была представлена на выборах в Моссовет, оценили его достижения и партийные органы: «Я стараюсь хорошо работать, так как вижу, что на мою работу обращают большое внимание. Стал хорошо работать, и меня премировали, я стал известен и в Московском комитете, и в Дзержинском рай коме» (там же. Л. 12).
[Закрыть].
Аналогичное воздействие оказывало награждение орденами, которые вручались по случаю окончания строительства первой очереди метро в присутствии Сталина, Кагановича, Ворошилова, Молотова, Орджоникидзе и других высокопоставленных функционеров. Многие метростроевцы были награждены тогда орденом Ленина и другими высокими орденами. Такие праздничные награждения были не только пропагандистским церемониалом, но применялись также как средство укрепления лояльности по отношению к власти {1288} .