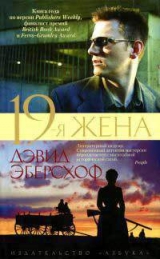
Текст книги "19-я жена"
Автор книги: Дэвид Эберсхоф
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
XIII
КОНТРАКТ ДОВЕРИЯ
ПИСЬМЕННОЕ ПОКАЗАНИЕ ПОД ПРИСЯГОЙ ПО ДЕЛУ
Энн Элизы Уэбб Ди Янг
против
Бригама Янга
№ 71189
Сего Октября 3-го дня, 1873 года, в городе Солт-Лейк, что на Территории Юта, Гилберт Уэбб собственной персоной явился передо мной, судьей Элбертом Хейганом, защитником истицы Энн Элизы Уэбб Ди Янг, с тем чтобы приобщить к протоколу данного Специального Расследования письменное показание, содержащее его Свидетельство касательно предмета судебного разбирательства между истицей и Бригамом Янгом.
Я – Гилберт Уэбб, тридцати девяти лет от роду, сын Элизабет и Чонси Уэббов. Получил Облачение в январе 1846 года в Храме Нову, что в штате Иллинойс. В настоящее время проживаю в Южном Коттонвуде, на земле моего отца. Работаю пастухом, скотоводом, каретником. У меня имеются две жены, Кейт и Эльмира, и восемнадцать детей. Мои показания, как они записаны здесь, ограничены моим знакомством и опытом личного общения с Президентом Бригамом Янгом в несколько периодов между маем 1866 и мартом 1868 года, результатом чего явились моя задолженность перед Бригамом Янгом и помолвка с ним моей сестры, Энн Элизы, ставшей его девятнадцатой женой. Под всевидящим оком нашего Отца Небесного клянусь, что все, что я пишу здесь, есть правда, насколько я ее знаю, и что мне не известна никакая иная версия излагаемых событий.
Все началось в одно воскресенье в мае 1866 года. Я со своими женами остановился на дороге Солт-Лейк-роуд под утренним девятичасовым солнцем. До приезда Пророка оставался еще целый час. По моим расчетам, приветствовать его пришло более тысячи человек и до десятого часа должны были подойти еще не менее тысячи. Долина зеленела травой, и вдали, на востоке, в утренней тени, под белой шапкой старого снега, синели горы.
Мои жены сшили приветственный плакат с вышитой надписью: «Дочери Сиона – Добродетель!» – и держали его над головами на двух палках. Под акацией весенний ветерок холодил нам шеи, однако на солнце было жарко, словно в июне, и мои жены обмахивались листовками, объявлявшими о приезде Пророка.
Выше по дороге мне были видны мама с отцом и рядом с ним – его другие жены. Сестры Лидия и Элинор держали плакат с надписью: «Матери Израиля». С ними же была и Энн Элиза со своими мальчиками, Джеймсом и Лоренцо. Казалось, что у Энн Элизы в руках флаг с надписью: «Да здравствует Пророк!» – но его держала женщина, стоявшая с ней рядом. Народу собралось так много, что трудно было разобраться.
Через час в поселок въехал Бригам, предшествуемый духовым оркестром. За ним следовал отряд ребятишек, размахивавших лентами, прикрепленными к концам палок, за ними сотня карет с сопровождающими Пророка лицами, и при них эскорт из пятидесяти всадников. По обеим сторонам дороги приветствовавшие Пророка люди стояли в три ряда, и все они кричали и махали ему руками.
– Ты его видишь? – спросила Кейт, прыгая на цыпочках.
– Я вижу только шляпу в окошке.
Эльмира положила руку мне на плечо и подпрыгнула повыше – почти на фут над землей.
– Это он, точно, – сказала она. – Я узнаю поля его шляпы.
Я поднимал одного из своих детей за другим, сажал его на плечи, давая взглянуть на Пророка, затем опускал на землю и поднимал другого. Тогда их было двенадцать. Старшему уже исполнилось одиннадцать. К тому времени как я поднял на руках самого младшего, Бригам уже успел проехать дальше по дороге.
Мы последовали за Бригамом к навесу. Это было открытое всем ветрам сооружение с крышей из ветвей, которую поддерживали колонны из белой сосны. Мои жены с детьми заняли две скамьи, не оставив мне места. Я остался стоять в проходе рядом с ними, прислонясь к одной из колонн. Двое моих мальчишек ерзали, щипали друг друга за коленки. Один был сыном Кейт, второй – Эльмиры, но оба – мои, у обоих я видел свой подбородок, с ямочкой внизу.
Когда Бригам взошел на кафедру, все затихли, даже дети.
«Доброе утро, мои добрые братья и сестры, – начал он. – Я приехал в вашу замечательную деревню, чтобы приветствовать вас и потому еще, что хочу поговорить о наших семьях – ваших и моей. Как вы знаете, у меня большая семья – целый клан, состоящий из множества разных членов – из моих сыновей и дочерей, каждый со своим собственным умом и каждая со своими собственными мыслями; из моих жен, каждая из которых по-своему смотрит на мир. Ничто на свете не может быть мне дороже, чем слушать, как какая-нибудь из жен говорит мне, что она думает о новостях дня, или о том, как идет строительство ее шляпки, или вообще о том, что занимает ее мысли, ибо каждая уникальна в своем взгляде на мир, и именно это делает ее чадом Господним. Ничто не может быть мне дороже, когда мои жены или мои дети внимают моим словам как словам их мужа, или отца, или Пророка. На самом деле бывает так, что у них имеется много мнений о моих словах – словах вашего Пророка и Главы Церкви: иногда они говорят мне, что я хорошо сказал, в другой раз – что неясно выразил свои мысли. Довольно часто то одна, то другая из моих дочерей или та или другая из моих жен – да, всегда именно женщины – спрашивает меня, почему гнев или ярость (ибо они так это видят, так считают) окрашивает мои проповеди и иные публичные выступления. Когда я разговариваю со своей семьей наедине, не так публично, как с вами или другими Святыми Дезерета, я говорю с ними точно так же, как говорю с вами, ибо моя роль в руководительстве ими, роль отца и мужа, ничем не отличается от моей роли в руководительстве вашими душами на пути к нашему Отцу Небесному. Итак, если вы полагаете, что я корю вас несправедливо за ваши привычки и обычаи, знайте, что точно так же я корю моих сыновей, моих дочерей и моих жен. Я знаю: они порой думают, что я стар и не разбираюсь в сегодняшних модах и вкусах, но мудрость моя приходит не из газет, не из пересудов, что жужжат у магазинных прилавков, но из нашей Книги, а также из других слов, какими Господь поделился с нами, и из молитвы, а потому я возвещаю истину, которая преступает пределы и обычаи этого года, и этого десятилетия, и даже этого века, – истину, которая поведет вас сквозь вечность. А потому уделите мне ваше доброе терпение, ибо я должен кое-что сказать вам о ваших привычках и обычаях. Если вы полагаете, что я слишком горячо и страстно говорю с вами, вы правы, ибо я говорю с вами от всего сердца, а сердце мое исполнено любви к вам…»
Вскоре после того, как Бригам начал свою речь, я, должен признаться, задумался о ягнятах, и о том, как уже высока в этом году трава, и сколько я получу за этих ягнят, когда отведу их на бойню. Должно быть, я грезил так довольно долго, потому что Бригам успел глубоко погрузиться в свою проповедь, прежде чем я услышал многое из того, что он хотел сказать. В то утро его интересовали две темы: дамские моды и мужское пьянство. Порой, когда он начинает распространяться о нашей греховности, бывает трудно понять, остановится ли он когда-нибудь или нет.
«Господь милосердный, Сестры, если какая-то из вас придет ко мне обсудить моды Немормонов, я скажу ей: «Иди одевайся как немормонские женщины, выгляди как потаскуха, если ты этого хочешь!» Вы рассказываете мне о турнюрах и фижмах, и о глубоких вырезах в форме сердца, и о шелках, что облегают вас, выявляя все ваши формы; вы спрашиваете меня, почему вам нельзя носить то, что носят женщины Парижа, то, что носят женщины Нью-Йорка. Да пожалуйста, вы можете носить нью-йоркские фасоны, парижские кутюры. Если вы этого хотите. И если вы этого хотите, тогда вам придется понять, почему я должен буду заключить, что вы также хотите, чтобы все видели в вас потаскух. Да будет так. Сестры-потаскухи, заказывайте все, что пожелаете, из восточных каталогов! Одевайтесь так, будто вы гуляете по Бродвею! Но, поступая так, знайте: вы мне не сестры – вы вовсе не Святые Последних дней! Так что подумайте над выбором своих нарядов, Сестры мои. Ибо ткань на ваших плечах выявляет гораздо больше, чем ваши прелестные формы».
Слушая, как Пророк рассуждает о дамских турнюрах, один из моих сыновей фыркнул, не сумев сдержать смех. Жены попытались его утихомирить, но он разошелся и смеялся до тех пор, пока Бригам не окликнул его: «Молодой человек, почему это смешно?» Бригаму было шестьдесят шесть лет, он был толст и энергичен, с крупной головой и большим лицом, которое становилось красным и мрачным, когда он в чем-либо обвинял своих людей. Его подбородки и усы тряслись, когда он выкрикнул имя моего сына. Мальчик после этого не пикнул ни разу в течение всего дня.
«Братья мои, вы смеетесь, когда я говорю об интересе наших Сестер к мишуре? Вы согласно киваете на то, что наши женщины предпочитают шелк Святости? А сами-то вы что? Вы, Братья, вы сами грешите страшнее, много страшнее. Ибо хотя наши женщины унижают свое тело, надевая платья, которые выделяют их нижние части, вы, Братья, вы унижаете свои души, когда топите ваши дни в чистом или смешанном виски. Если Сестры совершают служение у алтаря каталога, вы, Братья, преклоняете колена пред бутылкой и бочкой. Каждый стакан ваш будет запомнен. Каждая отпитая капля посчитана. Каждый глоток поглотит вас!»
Я повернул голову посмотреть на свое семейство. У Кейт глаза словно остекленели. Я догадался, что она думает о рулонах бостонских обоев, которые выставлены в магазине Делби на распродажу. Эльмира сидела выпрямившись, в состоянии боевой готовности – она завидовала миссис Болл, чья шляпка, украшенная перепелиными перьями, покачивалась напротив, через проход от нас. Я с нетерпением ждал возможности услышать их рассказы обо всем этом за обеденным столом. Двенадцать моих малышей заснули, прислонясь один к другому или упав на материнские колени. Маленький Гилберт свернулся на земле, точно щенок. Порой я сам не мог себе поверить, что все они – мои. Конечно, двенадцать – это еще не рекорд. В Дезерете двенадцать детей не вызывают никаких комментариев. Через недолгий срок Кейт или Эльмира объявит о приближении тринадцатого. Да и четырнадцатый, скорее всего, тоже не за горами.
К этому моменту я уже некоторое время чувствовал, что взгляд Бригама устремлен в мою сторону. По правде говоря, я с большим удовольствием пил виски, как и все прочие мужчины, но не более того, не так много и не так часто, чтобы Бригам выделил именно меня. За весь прошедший год Джемисону лишь один раз пришлось свалить меня у моей двери – я был слишком пьян, чтобы идти самостоятельно. Я никогда не поднимал руку ни на одну из моих жен и – Богом клянусь – никогда на детей. Так почему же Бригам все время глядел в мою сторону? Его глаза сверкали, словно лезвие плужного лемеха, когда в него ударяет солнце. Может, какой ложный слух распространился и дошел до ушей Бригама? Мне приходилось видеть такое: ходят всякие россказни, их принимают за реальные факты, а человек из-за этого осужден. Я стараюсь не слишком многого требовать от своих жен, но, если слышу, как они обмениваются сплетнями с другими, обычно велю им перестать, отправляться домой и разобраться с беспорядком в их комнатах. Как-то я слышал, как папа сказал: «Коль живешь слухами, от слухов и помрешь». Так оно и бывает. И теперь, когда Бригам не сводил с меня глаз, я подумал, что кто-то, кого я не считал своим врагом, ходил повсюду, поминая мое имя худым словом.
Однако со временем я разобрал, что он смотрит вовсе не на меня, а восхищается моей сестрой, которая стоит рядом. Энн Элизе исполнился тогда двадцать один год, и она стала еще более красивой, чем когда-либо. Я не поэт и не умею описывать красоту, так что и пытаться не стану. С тех пор как она развелась с Ди, она отвергла с полдюжины предложений взять ее замуж. Многие мужчины приходили ко мне, чтобы сказать о своем желании получить руку моей сестры.
После службы мы все отправились домой – в дом моей матери – ужинать. По дороге нас нагнал экипаж Президента. Бригам вышел из кареты и попросил у Энн Элизы позволения пройтись с ней.
Я с моим семейством находился шагах в двадцати позади этой сцены. Мы могли видеть их совершенно ясно, но ветер дул не в нашу сторону, и мы не могли ничего слышать. Мои жены чуть ли не галопом бросились вперед, таща за собой детей и меня, и сбавили ход, когда оказались всего шагах в десяти от цели. Теперь мы оказались достаточно близко, чтобы расслышать их слова.
– Ты никогда не выглядела прекраснее, чем сейчас, – заметил Бригам.
– А ты никогда не проповедовал более гневно, чем сегодня, – отвечала моя сестра. – Когда вернешься в Солт-Лейк, пожалуйста, передай мои наилучшие пожелания миссис Янг.
Если Бригам и нахмурился или поморщился на ее слова, мне этого видно не было.
– Они о тебе спрашивают. Они вспоминают о тебе с любовью, после того как ты жила в Львином Доме.
– Я тоже некоторых из них вспоминаю с любовью.
Каждый раз, как моя сестра подкалывала Пророка своими репликами, мои жены обменивались друг с другом быстрыми взглядами: глаза их говорили на своем собственном языке.
– Ты не собираешься когда-нибудь снова выйти замуж? – спросил Бригам.
– Надеюсь – никогда.
– Даже если бы этого требовал твой долг?
– К счастью, не требует.
Бригам поднял на руки Лоренцо. Он по-прежнему шагал рядом с моей сестрой, и все больше и больше людей рассуждали меж собой о характере его интереса. Кейт шепотом предложила свою теорию:
– Думаю, настала пора взять новую жену. Почти год прошел.
– Ну, на этот раз он охотится не за тем турнюром, – возразила Эльмира. – Бригам последний из мужчин в Юте, за кого она когда-нибудь захочет выйти замуж.
– Так она говорит.А ты только посмотри на нее!
Без моих жен я не знал бы, как все это следует толковать. До дома нашей матери оставалось идти недолго, и я мог бы с уверенностью сказать, что было на уме у моих двух женушек: пригласит ли Энн Элиза Пророка поужинать с нами или нет?
Однако, прежде чем решение могло быть принято, рядом с ними неожиданно возникла мама.
Когда ужин закончился, Бригам попросил моего отца и меня уединиться с ним в мамином доме, чтобы кое-что обсудить. После недолгого разговора о майских травах и уровне воды в каналах Бригам перешел к обсуждению своей цели.
– Чонси, друг мой, я знаю твою дочь с младенчества. Я наблюдал, как она из ребенка становилась взрослой женщиной. Когда она встретила Ди, я пытался предостеречь ее, но она не хотела слушать. Я сам женился бы на ней, но я как раз недавно взял в жены Амелию. И как раз тогда Вашингтон пристально следил за мной, распространяясь о большом количестве моих жен. Время для еще одного брака было совсем неподходящее. Не могу выразить, как тяжко было мне знать, что тот человек так дурно с ней обходится. А ее мальчики – я хочу, чтобы они стали моими сыновьями. Я хочу, чтобы Энн Элиза стала моей женой.
Бригам упрашивал моего отца целых полчаса. Он и не подумал обратиться ко мне. Это не имело значения – я вовсе не хотел в этом участвовать. Свою просьбу Бригам завершил обещанием:
– Я буду хорошо к ней относиться.
– А как будут относиться к ней твои жены? – спросил его мой отец.
– Они ее полюбят. Когда она жила с ними, они ее приняли.
– Она говорит совсем другое, – вступил в разговор я. – Ей было там одиноко.
– Одиноко? – удивился Бригам. – В Львином Доме?
– Так она говорила.
– Неужели? – спросил отец.
– Она была очень молода. Это был ее первый опыт жизни вдали от дома, от матери. Еще бы ей не чувствовать себя одинокой! Но на этот раз – нет. С ней ведь буду я, с ней будут ее мальчики, и миссис Уэбб, если она пожелает, может приехать жить вместе с ней. Ты ведь знаешь, как глубоко я привязан к сестре Элизабет.
Мой отец раздумывал надо всем этим. Потом сказал:
– Наверное, тебе стоит теперь ее спросить.
– Сначала мне нужно, чтобы ты дал свое согласие. Если ей не нравится в Львином Доме, я помещу ее в хорошем доме, который будет принадлежать ей одной. Обставлю его по ее вкусу и назначу ей содержание в пятьсот долларов в год. У каждого мальчика там будет его личная отдельная комната. Я знаю, о каком доме говорю: он расположен недалеко от моего. Там позади дома – дерево с большой развилкой, где мальчишкам можно устроить детский домик. Я им сам помогу. Подумай об этом, Чонси. У твоей дочери будет муж, у твоих внуков – отец.
– Тебе нужно с ней поговорить, – повторил папа.
– Да, но как это все звучит для тебя самого?
– Я не могу больше рассуждать об этом, пока мы не спросили у нее.
– Давай, скажем, семьсот пятьдесят долларов. Этого будет достаточно?
– Я не знаю.
– Тысячу! Как тебе это?
– Брат Бригам, я не могу говорить за мою дочь.
– Конечно. Но ты можешь это порекомендовать?
– Я могу это только представить ей.
Наша беседа длилась целый час.
– Проводи меня до экипажа, – сказал мне Бригам после того, как она завершилась. У дороги Пророк стал расспрашивать меня о моей семье. – Сколько у тебя теперь детей? Десять? Одиннадцать?
– Двенадцать.
– Так много ртов! Мужчине это может быть тяжеловато. Я так понимаю, что ты все еще живешь на земле твоего отца и смотришь за его овцами?
– Верно.
– Надо бы, чтобы ты повстречался с удачей.
– Разве это не всякому человеку нужно?
– Сколько я плачу тебе за овец? – (Я рассказал ему о своем контракте с церковной скотобойней.) – Давай-ка улучшим условия, идет? Скажем, прибавлю доллар?
– Я был бы весьма благодарен.
Пророк положил руку мне на плечо:
– А теперь мне нужна твоя помощь. Ты скажешь сестре, чтобы она приняла мое предложение?
– Это хорошее предложение, – ответил я. – Только это не значит, что оно хорошо для нее.
Когда я возвратился в дом, папа уже рассказывал Энн Элизе о предложении Бригама.
– Боюсь, он и правда тебя полюбил, – сказал он.
– Он это сказал?
– По-своему.
– По-своему для него значит – полюбил одну женщину, потом другую, потом еще одну…
Тут в размолвку вмешалась мама:
– Энн Элиза, остынь. Ты ведешь себя так, будто он предложил запереть тебя на замок.
– А разве он не это предлагает? Разве не этого он хочет – чтобы я стала одной из сотни его жен?
– У него нет сотни жен, – возразила ей мама.
– Нет? А сколько тогда?
– Ну, довольно, – сказала мама. – Все, что Бригам позволил себе, – это сделать тебе предложение.
Энн Элиза приостудила свой пыл:
– Мама, я знаю: ты его любишь. И я его люблю – но только как моего Пророка, а не как мужа.
– Ты полагаешь себя умнее всех. Только это не так. Я ведь не слепая. У Бригама есть свои слабости. Но разве они затмевают то хорошее, что он успел сделать?
Я вышел в огород. У меня было не больше желания вернуться домой, к женам, чем снова участвовать в споре. Единственное место для меня, как представлялось, было здесь, на воздухе, в ночи. Луна стояла высоко, освещая дорожку к моему коттеджу. Мычали коровы, блеяли овцы, и ночь казалась пустой и шумной в одно и то же время. От гумна пахло рожью, из конюшни доносился запах прошлогоднего сена. Было холодно, и холод скопился в камнях дорожки.
Когда мои жены приветствовали меня у двери, я остановил их еще до того, как они начали расспросы.
– Не сегодня, – сказал я. – Только не сегодня.
Они предложили мне молока с печеньем, но я не был голоден и попросил женщин оставить меня одного. Они удалились в свои спальни – сначала на одной двери щелкнула щеколда, потом на другой. Наверху спали дети: четверо мальчишек поперек мормонского дивана, двое спеленатых малышек в колыбели, остальные разделились на две кровати. Я представил себя в будущем – лет через пять-шесть, с уже посеребрившейся бородой, с еще шестью или восемью детьми и, может быть, еще одной женой. Что могло бы остановить это – это ужасное видение моих будущих дней? Когда я думал о счастье, я представлял себе, как мой конь наклоняется к воде – напиться из ручья. Я думал о лугах, где шум – это всего лишь крики соек и беличий писк. Я думал о постельной скатке, разложенной под звездами. О том, чтобы свободно раскинуться под ночью и заснуть в одиночестве.
Я задремал в кресле, но меня разбудил лунный свет. Воскресная ночь – мой выходной от обеих жен, и я обычно спал в своей постели позади кухни, но сегодня мне не хотелось ложиться в той комнате. Я вышел из дому. Ветер разыгрался, нагоняя все больше холода. Легла роса, к рассвету она наверняка превратится в иней. В конюшне меня фырканьем приветствовал мой гнедой. В конюшне пахло сеном, навозом и водой от металлической поилки. Я взобрался на сеновал, обеспокоив курицу. Улегся на сено, подтянул под голову седло и набросил на грудь полосатый чепрак. Конюшенный котенок с поломанным хвостом на цыпочках прокрался по сену и вскарабкался на меня. Его лапки деликатно мяли мне живот, а погнутый хвост похлопывал меня по щекам. Какой-нибудь чужак мог бы подумать, что я рассорился со своими женами, раз отправился вот так спать на сеновал. Но я ни с кем не ссорился. Я просто очень устал, а котенок свернулся и подтянул свой хвост поближе к себе. Он был совсем маленький, ему недоставало молока, он совсем ничего не весил, уснув у меня на груди, и бочок его ходил вверх-вниз, вверх-вниз.
В следующий год обе мои жены подарили мне еще по одному ребенку. Сначала Эльмира, за нею Кейт. Мальчика и девочку. Я полюбил их – насколько может человек делить свое сердце между четырнадцатью детьми. Странное чувство возникает, когда приходится делить на доли нежность, – словно разрезаешь круг сыра. Я слышал, люди говорят, что сердце бездонно, но я с этим не согласен. Я люблю своих сыновей и дочерей, но в минуты просветления я признаю, что хотел бы давать им больше любви. И тут возникает еще одно странное чувство. Человек не предназначен для того, чтобы радостно встречать новое дитя чаще чем один раз в год. Однако в Дезерете мужчинам приходится приноравливаться. Ведь порой у тебя появляются двое в год. А если у тебя три жены, это может означать, что и трое. И оттуда все идет дальше и дальше. Я ощущал, что продвигаюсь в возрасте быстрее, чем мне следовало бы. У меня отвердел костяк, и я чувствовал себя усталым, как человек, уже едущий с ярмарки.
Чем больше детей дарили мне жены, тем чаще приходилось моему отцу вытаскивать меня из трясины. Я практически целиком зависел от него в том, что касалось земли, дома, моих фургонов и волов, овец и работников, которых я нанимал, и даже моих счетов в магазине и зернохранилище. Даже конь мой, небольшой красивый гнедой, с белыми носочками на передних ногах и тяжелыми копытами, принадлежал отцу. Когда с деньгами становилось туго, я брал в долг у соседа или кредит в скобяной лавке. Всегда с намерением самостоятельно расплатиться с долгами, только это никогда не срабатывало. Папа всегда узнавал о таких моих дырах и всегда их заделывал.
Так оно шло долгое время, так оно и рисовалось мне в будущем. Я понял, что фактически так и будет, когда Кейт родила еще одного ребенка. Девочка была крепенькая малышка, с рыжим завитком волос на головке. Впервые взяв на руки свое четырнадцатое чадо, я вдруг с болью осознал, что я неудачник. Когда, еще юношей, я был вместе с отцом послан на Миссию, я, бывало, лежал в постели без сна, представляя себя мужем. Мне рисовался небольшой дощатый дом на лугу, с железной трубой. Он так ясно виделся мне в мечтах, что я даже рисовал себе белый дым, поднимающийся из этой трубы в холодный весенний воздух. Мне виделись огромные сверкающие горы над домом и жена, работающая на огороде, пока я сам вспахиваю поле. Я видел младенца, дремлющего на солнышке в плетеной колыбели. Я представлял себе стол, накрытый к ужину на двоих, с перевернутыми вверх дном тарелками. Таковы были мои мечты.
Вскоре после рождения ребенка я навестил Эльмиру в ее комнате. Это была ее ночь. Я обнаружил ее готовой ко встрече со мной: она сидела в постели в ночном одеянии и в чепце с заплетенными лентами.
– Закрой дверь, – сказала она. – Нам надо поговорить.
Однако мне хватило и того, что она успела сказать. У нас будет еще один ребенок. Это было ясно.
Я взглянул в окно. Стояла ранняя весна. Надвигалась последняя зимняя буря. Об этом можно было судить по тому, как горела за облаками луна. Жена поднялась с постели и встала рядом со мной. Ее пальцы гладили мой рукав.
– Предполагается, что ты должен быть счастлив.
Не знаю, как долго я простоял у окна. Возможно, целый час. Не знаю. Горы были черны и прятались от глаз. Но даже когда ты их не видишь, ты все равно знаешь, что они тут. Очень долго я не мог взглянуть на свою жену: мне было стыдно. Когда я наконец повернулся к ней, я не смог увидеть ничего, кроме скомканного белого чепца у нее в руках.
В ту ночь снега выпало почти на целый фут, но к началу дня проглянуло солнце, и подмерзший снег на южной стороне крыши стал таять. Когда я вышел на воздух, дорожка к дому отца была скрыта под снегом, однако, судя по тому, как задувал ветер, она скоро должна была очиститься. Я помахал рукой Энн Элизе, стоявшей на крыльце дома. На ней было зеленое платье, и зеленый цвет ярко выделялся на фоне белой дощатой стены и белого снега. Она добилась своего. Я напомнил себе об этом. Она смогла избежать жизни, жить которой не хотела.
Я поехал в Ларкс-Медоу, мой гнедой колол подковами наст. Ларкс-Медоу – узкая длинная луговина, с лесом белой сосны по одну сторону и холмами предгорья по другую. Над нею высоко вздымаются горы, и пол-луговины весной часто превращается в болото. Это прекрасное место для овец – трава, вода и тень.
Доехав до луговины, я остановился поглядеть вокруг. Солнце только выходило из-за гор, и снег еще не начал таять. Все вокруг выглядело затвердевшим и холодным, словно в январе, ветви белых сосен гнулись под тяжестью снега, а по ручью плыл лед. Бревенчатую хижину в дальнем конце луговины занесло снегом, и похоже было, что она пустует уже довольно долгое время, а это было неправильно.
Я подъехал к хижине, привязал коня и крикнул:
– Харкнесс!
– Самое время! – отозвался Харкнесс изнутри хижины.
Я отпер дверь и обнаружил его привязанным веревками к стулу.
– Что тут произошло? – спросил я.
– Сначала освободи меня от этих треклятых веревок.
Веревки были обмотаны вокруг Харкнесса не меньше дюжины раз, узел был затянут туго, а от мороза веревки затвердели, так что распутать узел было невозможно. Я ножом разрезал веревки. Когда Харкнесс освободился, он принялся скакать по комнате, чтобы восстановить ток крови в ногах.
– Я уж думал, что замерзну насмерть на этом треклятом стуле.
– А сколько их было? – спросил я.
– Двое.
– Всего-то?
– Ветер задувал сильнее, и я не слышал, как они подъехали. И на каждом по винчестеру да по пистолету.
– А в какое время это случилось?
– Примерно за час до снега.
– Местные, – сказал я.
– Откуда тебе знать?
– Ждали вьюги, чтобы снег их следы замел. Они тебе знакомыми не показались?
– Да вроде нет. Только они свое дело знали. Они за пару минут их всех гуртом согнали и за ворота вывели. И собак несколько с ними было, дорогу показывали.
– Пока ты тут, на этом стуле, сидел.
– Тебя поджидал, сестрица.
– Не смешно. Я только что потерял сотню своих овец.
– А я чуть две свои ноги не потерял, привязанный, в такую холодину.
– Вот, возьми мой платок. Иди поплачь и не возвращайся, пока не сможешь сказать мне, кто они были.
– Это были два угонщика, точно как мы их себе представляем, ловкие в своем деле, на коне как влитые сидят, и оружие им в руках держать ох как удобно.
Я разжег в печке огонь, вскипятил кофе, поджарил пару сосисок, и мы поели молча, без разговоров. Небо прояснилось, и солнце сияло ярко. Когда я уезжал, луговина снова зеленела и пружинила под копытами коня. Чувствовался запах смолы, плавящейся под солнечными лучами на влажной коре сосен.
Вскоре Харкнесс отыскал моих овец на земле Ван Эттена, наверху, на горном пастбище, в миле от дороги. Их клейма были переставлены, но, если внимательно посмотреть, можно было разглядеть то, что стояло раньше. Ван Эттена пару раз уже подозревали в угоне скота. Никто ему особо не доверял, было известно, что он облыжно доносил в контору Бригама на ни в чем не повинных людей. Когда я пришел к Ван Эттену, он стал утверждать, что ничего про моих овец не знает. Он пыжился, но я сказал ему, что узнал своих овец.
– Если ты не прекратишь обвинять меня, я пойду к Пророку, – пригрозил он.
У него было при себе ружье, но я до того разъярился, что такого за собой и не упомню.
– Я сам к нему пойду, – пообещал я. И пошел.
Поехал верхом в Солт-Лейк и занял очередь у Дома-Улья. Когда подошел мой черед, я изложил Бригаму свое дело.
– Если ты уверен, – сказал он, – я поговорю с этим человеком.
Несколько раз Бригама прерывал клерк в нарукавниках, прося его подписать какие-то бумаги. Подписывая свое имя, Бригам одновременно расспрашивал меня о моей семье:
– Я так понимаю, что у тебя еще дети родились. Никто не мог бы упрекнуть тебя в том, что ты не исполняешь свой долг. Надеюсь, ты справляешься. – Я ответил, что справляюсь. – Рад слышать. Передашь от меня привет твоей сестре? – Я сказал, что передам, и поднялся, чтобы уйти. – Торопишься? – Бригам рассмеялся, живот его натянул пуговицы в петлях его пиджака. – Сядь-ка и расскажи мне о твоих планах. Ты ведь потерял сотню овец. Это должно быть очень тяжело для человека в твоем положении.
– Это было бы тяжело для любого человека.
Он помолчал. Всякий бы по его глазам заметил, что он у себя в мозгу что-то прокручивает.
– Что ты знаешь о телеграфных столбах?
– Их вкапывают в землю.
– Это примерно все, что тебе и требуется о них знать. Сколько у тебя упряжек?
– Десять фургонов и шестьдесят мулов.
– Этого может оказаться недостаточно.
– Для чего?
– Мне нужен кто-то, кто смог бы поставлять столбы для линии, которую мои сыновья тянут из Денвера.
– Я могу это сделать.
– Они продвигаются быстро, делают двадцать пять миль в неделю.
– Я могу это сделать.
– Два доллара пятьдесят центов за столб – как тебе это звучит? Нарезать, придать форму и доставить?
Это была такая сделка, какой человек ожидает всю жизнь. В Ларкс-Медоу есть замечательный строевой лес. Если я найму достаточно людей и куплю еще несколько упряжек, все может сработать просто прекрасно. Мы с Бригамом обговорили кое-какие детали, но все и так было вполне ясно. Я поставлю на луговине лесопилку – ошкуривать сосны, остругивать и сушить столбы на солнце, а затем обрабатывать их креозотом. После этого упряжки мулов станут доставлять их на линию. Я знал, что способен сделать эту работу далеко не хуже любого другого в Юте. Мы скрепили сделку, пожав друг другу руки.
Нарезать и обрабатывать телеграфные столбы – несложный процесс. Практически любой человек с хорошей упряжкой, крепким лесом и быстрыми пилами может это делать. Единственное, что тут особенно требуется, – это капитал. Деньги на работников, на добавочные фургоны и на провизию. Мне понадобилось одиннадцать тысяч долларов. Половину суммы я занял у банкира-Немормона по имени Уолтер Карр, а вторую половину – у мормонского банкира по имени Алфред Иглтон, под пять процентов в месяц. Работа должна быть завершена к середине лета. После уплаты долга у меня останется еще достаточно, чтобы увеличить дом и на несколько лет вперед создать моим женам счастливую жизнь. Я опередил события и как-то ночью даже подумал о том, чтобы взять еще одну жену. По правде говоря, я так же слаб, как другие мужчины, может быть, даже слабее.








