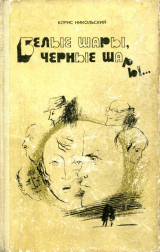
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Эх, Женька, Женька! Сумел-таки испортить настроение. Сумел разрушить то радостное чувство, ту душевную растроганность, которую испытывал Творогов.
Опять это бессмысленное упорство, опять эти мальчишеские игры в принципиальность и бескомпромиссность! Легко быть бескомпромиссным, пока не имеешь дела с живыми людьми, пока выстраиваешь умозрительные схемы!
Недавнее сочувствие к Женьке теперь уступало место раздражению. Разве не сам Женька был во всем виноват? Во всей своей несложившейся жизни?
Шагая к стоянке такси, Творогов разжигал в себе раздражение против Синицына, стараясь этим раздражением заглушить другое тревожащее его чувство – недовольство собой, которое – он отчетливо ощущал это – становилось все острее и острее. Почему он так беспомощно повел себя перед Женькой? Отчего терялся и то юлил, то мямлил так, словно Синицын, и правда, уличил его в беспринципности? Почему не нашел нужных слов, чтобы достойно ответить Женьке?..
Надо было сказать… А что, собственно, надо было сказать? Что?
– Творогов, постой!
От неожиданности Творогов вздрогнул. Еще раньше, чем он успел сообразить, кому принадлежит этот женский, чуть прерывающийся от быстрого дыхания голос, сердце его радостно взметнулось: Лена! Лена Куприна! Кто же еще мог окликнуть его сейчас, посреди ночи, здесь, возле уснувших домов?..
Творогов обернулся: Валечка Тараненко догоняла его.
– Женщина бежит за тобой, а ты и не слышишь! Не стыдно, Творогов?
– Стыдно, Валечка, стыдно, – сказал он.
– А я засиделась у Ленки. Заболтались мы, я и понятия не имела, что уже так поздно. А тут Синицын возвращается, я на часы взглянула: батюшки! Не может быть! Половина второго! Синицын хотел меня проводить, а я говорю: ничего, догоню Творогова, авось не оставит без помощи одинокую женщину…
Тараненко была неестественно возбуждена, нервная говорливость одолевала ее.
– Зато уж навспоминались мы с Ленкой, наговорились обо всем на свете – в том числе и о тебе, Творогов. Женька молодчага, почувствовал, что нас лучше оставить вдвоем… Я, знаешь, Творогов, когда разыскивала Синицына, когда сегодня шла к нему, думала: столько всего накопилось, что, кажется, и за день не высказать. Казалось, ничего важнее нет, чем с ним поговорить. Веришь – две ночи последние не спала, все мысленно с ним разговаривала, все прошлое ворошила. Казалось, умру, если не выговорюсь, если не объясню ему, что я теперь о себе тогдашней думаю. Как представлю себе, что я для него все эти годы врагом была, что допустить он может, будто я тогда из каких-то своекорыстных побуждений против него выступала, что подлым человеком он, может быть, меня считает, – как представлю я себе все это, так хоть на стенку лезь, хоть волком вой! Одна только мысль, одна надежда – увидеть его, объяснить все, как было. Я же – ты веришь мне, Творогов? – тогда одного только хотела: спасти его! Я же любила его и сейчас люблю, Творогов. Ты думаешь, мне это тогда легко, просто было? Да я, может, трижды умирала, пока до трибуны тогда дошла. А поднялась на сцену, помню, в глазах потемнело, зала не вижу, лиц не вижу. И все-таки переломила себя, заставила: потому что верила – так для него нужно, ради него я это делаю! Пусть возненавидит он меня, пусть какой угодно потом считает, но я должна эту пытку вынести, должна. Это я теперь многое по-другому понимаю, на многое другими глазами смотрю… А тогда…
Они дошли наконец до пустовавшей сейчас, выглядевшей заброшенной стоянки такси, но Тараненко, казалось, не заметила этого. Она бы так и прошла мимо стоянки, если бы Творогов не придержал ее за локоть.
– У меня же, Творогов, еще с детства в крови уважение к авторитетам засело, так я уж была воспитана, ничего не поделаешь. А потом мне ведь как тогда казалось: грош цена всей моей принципиальности, если я не решусь против Синицына выступить. Это ведь людей посторонних, далеких от нас легко критиковать, да и то не всегда, а ты попробуй перед всеми против дорогого, близкого тебе человека выступи! Вот оно, твое испытание, Тараненко, говорила я себе, вот она – проверка твоих принципов, характера твоего проверка. Не выступи я тогда, и я бы себе малодушия этого никогда не простила, за слабость кляла бы себя всю жизнь. Ты же помнишь, какая я тогда была!
Зачем она говорила сейчас все это Творогову? Почему обращала к нему эту свою приготовленную совсем для другого человека и, видно, несостоявшуюся исповедь? Что произошло сегодня между ней и Синицыным? Не захотел он ее выслушать? Обидел? Оттолкнул?
– Я же знала тогда, на что шла, я же знала, что после этого только одно из двух возможно: либо он самым заклятым врагом моим станет, либо самым близким человеком, ближе и быть уже невозможно. Втайне я верила: поймет он меня, поймет, не может быть, чтобы боль моя, все мучения, которые я испытала, впустую прошли! Он же и сам, после всей этой истории с Краснопевцевым, мучился, места себе не находил, в смерти его себя винил, я же видела. Только из упорства проклятого своего, из гордости показывать этого не хотел, переломить себя не желал. И кто, кроме меня, мог помочь ему в этом? Кого еще мог он послушать? Так я тогда думала. Теперь-то я понимаю, что это бред сплошной был, сплошная несправедливость. Если в чем он и нуждался в те дни, так в участии, в добром слове. И, кажется, только один человек из нас это понял, только Лена Куприна…
Валя сделала паузу, словно ожидая, что скажет Творогов, как отзовется он на последние ее слова, но он молчал. И Валя заговорила снова:
– Вот ты смотришь сейчас на меня, Творогов, и думаешь, что перед тобой все та же Валечка Тараненко, которую ты знал прежде, когда мы работали вместе, в двадцать седьмой. А ведь это не так. Той Валечки Тараненко уже нет, ее просто не существует, от нее остались разве что имя да фамилия. Я теперь другая, Творогов, совсем другая. Только, похоже, никому до этого нет дела, никому это неинтересно…
– Ну что ты, Валечка! – сказал Творогов.
– Нет, Творогов, не утешай, не ври, я знаю, что говорю. Я ведь сегодня шла к Синицыну и думала: в квартиру-то хоть он меня пустит? Порог перешагнуть разрешит? Я же к нему сегодня, как на исповедь, шла. А он… Он – знаешь что?..
Голос ее вдруг дрогнул, и Творогову показалось, что она сейчас заплачет. Он сделал неловкое движение, пытаясь дотронуться до ее руки, успокоить. Однако Тараненко сердито отдернула руку.
– Он и дверь мне открыл, и поздоровался со мной приветливо так, по-прежнему, как будто ничего плохого никогда и не было. Я ему: «Я ведь, Синицын, поговорить с тобой хочу. Мне нужно поговорить с тобой», а он так ласково мне отвечает: «О чем, Валечка, о чем? Все и так ясно». И эта ласковость его… Понимаешь, Творогов?.. Эта ласковость просто убила меня… Он со мной, как с больным ребенком, разговаривал…
– Да брось ты, Валечка, – сказал Творогов, напрасно вглядываясь в проходящие вдали машины. Кажется, надежды дождаться здесь такси не было. – По-моему, ты чересчур все усложняешь… – Хотя в глубине души он понимал Тараненко: она готовилась к подвигу покаяния, она, как на Голгофу, шла сегодня сюда, к Синицыну, и вдруг это ласково-снисходительное: «О чем, Валечка, о чем?».
– Ну да, Творогов, ты всегда умел лучше всех успокаивать, умиротворять, убаюкивать, ты же у нас самый добрый, самый рассудительный, самый благополучный, не так ли, Творогов?
– Если тебе так кажется, Валечка, наверно, так оно и есть, – шутливо отозвался Творогов, хотя этот внезапный выпад Тараненко слегка покоробил его.
– А ты не усмехайся, Творогов. Я ведь знаю, о чем ты думаешь. Ты среди нас не только самый благополучный, но и самый самодовольный. Да, да, и не вздумай отрицать этого.
– А я и не отрицаю. Я действительно противный, самодовольный тип.
– Не сбивай меня с толку своими шутками. Я ведь серьезно, Творогов, – сказала Валечка Тараненко тихо. – Я – серьезно. Мы сегодня с Ленкой много о тебе говорили. И знаешь, что я поняла? Только не обижайся на меня, ладно?..
– Зачем же мне на тебя обижаться? – с некоторым раздражением пожимая плечами, сказал Творогов.
– Нет, ты правда не обижайся, ты дай мне слово, что не обидишься.
– Ты меня совсем запугала, – усмехнулся Творогов.
Что уж такого обидного могла сказать ему Валя? Эти женщины вечно так – бесконечные предисловия, многозначительные намеки, а потом оказывается: все, о чем идет речь, и выеденного яйца не стоит.
– Не обидишься? – как-то тревожно выспрашивала его Тараненко.
– Да нет же, нет, – сказал Творогов. – Даю слово, что не обижусь. Говори.
И в этот момент зеленый огонек такси забрезжил, замелькал вдали, быстро приближаясь к ним.
– Такси! Такси! – обрадованно закричала Тараненко.
Машина подкатила к стоянке и, шаркнув шинами по влажному асфальту, остановилась. Творогов открыл дверцу, пропуская вперед Валю.
– Это ты такой удачливый, – сказала Тараненко, когда они оба устроились на заднем сиденье и Творогов назвал шоферу Валин адрес. – Будь я одна, я бы проторчала на этой стоянке до утра, и ни единого такси не появилось бы, честное слово! Мне никогда не везет. Правда, правда. А ты – удачливый. Мы об этом и говорили сегодня с Леной. Ты очень удачливый, Творогов. Только твои удачи – они ведь немножко за чужой счет, не правда ли?
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ну вот, ты уже и обижаешься, а дал слово, что не будешь обижаться.
– При чем тут обиды? Просто ты говоришь какими-то загадками. Что значит – за чужой счет?
– За чужой счет – это и значит за чужой счет, Творогов, – сказала Тараненко, и ему показалось: ей доставляет удовольствие повторять эти слова. – Ты, конечно, нынче сравниваешь себя с Синицыным и прикидываешь, кто из вас прав оказался, не можешь ты об этом не думать, правда?
– Допустим, – сказал Творогов, еще не совсем понимая, куда она клонит, но уже ощущая, как нарастает в нем неприязненное чувство к Тараненко. Хоть и уверяла она, что стала совсем иной, а все та же резкость, все тот же спортивный темперамент, все та же жажда помогать и отчитывать, выносить решения, судить и миловать, которые остались у нее еще от студенческих времен, от участия в различного рода комиссиях, бюро и комитетах, по-прежнему угадывались в Тараненко.
– И ты, взвесив все «за» и «против», ясное дело, приходишь к выводу, что был прав, тебе не в чем упрекать себя, ты в свое время сделал правильный выбор, и совесть твоя теперь спокойна, не так ли?..
– Дальше, – сказал Творогов, оставляя ее вопрос без ответа. – Что дальше?
– А дальше, Творогов, вот что. Тебе никогда не приходило в голову, что твой успех, вся эта твоя работа, которой ты спокойненько занимаешься у себя в лаборатории уже столько лет, были бы невозможны, если бы не Синицын…
– Почему же? – сказал Творогов. – Я всегда считал, что многим обязан Женьке, и…
– Нет, – с горячностью перебила его Тараненко, – ты не о том. Все мы чем-то обязаны друг другу. Но я сейчас о другом. Ты ведь в душе винишь Женьку, ты ведь думаешь: вот был талантливый человек, а разменял себя на разные склоки, и сам, мол, виноват, что мало чего сумел добиться… Не спорь, ты думаешь так, и хоть никогда не признаешься в этом, а втайне ты себя ему в пример ставишь…
– Я не понимаю, – сказал Творогов, – ты, что, задалась целью испортить мне настроение? Или заново поссорить меня с Женькой?
– Ага! – торжествующе отозвалась Тараненко. – Задело? Так вот, слушай меня внимательно: ты небось уверен, что в свое время получил самостоятельную группу только потому, что Корсунский и прочие вдруг поняли и оценили твои способности? Да нет же, Творогов, нет, не обольщайся! Не будь всей этой синицынской истории, они бы еще сто лет не шевелились. То, чего добивался Синицын, что он отстаивал, досталось тебе – только и всего. Нет, я вовсе не осуждаю тебя, я только хочу, чтобы ты это знал. Понимаешь, Творогов, такие люди, как Женька, они не дают застояться атмосфере, они – как грозовые разряды, они – как постоянная скрытая угроза для таких, как Корсунский, как… ладно, не будем уж поминать плохим словом Краснопевцева… скажем лучше – для тех, кто окружал Краснопевцева… Теперь-то ты понимаешь, что я имела в виду, когда говорила, что твои успехи – за чужой счет?.. Я только одного хочу, Творогов: чтобы ты никогда не смел считать Женьку неудачником, понял? Это он, он проложил дорогу тебе!..
Даже в полусумраке Творогов угадывал, как пылают щеки Тараненко – совсем, как тогда, на том давнем, памятном собрании.
Шофер все прибавлял и прибавлял скорости, машину подбрасывало на асфальтовых буграх и выбоинах, заносило на поворотах – казалось, та горячечность, та нервность, которая исходила сейчас от Тараненко, передалась и шоферу.
– Ты только не обижайся, – сказала Валечка Тараненко сникающим голосом. – Мне просто нужно было сегодня выговориться…
– Ну и ладно, ну и хорошо… – сказал Творогов.
Вскоре машина остановилась возле дома, где жила Тараненко. Творогов проводил Валю до лифта, и, когда она уже стояла внутри, в кабине, готовая вознестись в свою однокомнатную квартиру, когда, послушные автоматике, уже сдвигались, отгораживая их друг от друга, дверные створки кабины, он поймал ее тревожный, словно бы все выспрашивающий что-то взгляд…
Творогов вернулся в такси. Он сел вперед, рядом с шофером, и шофер, пожилой мужчина, с умными глазами все понимающего и чего только не повидавшего за годы своей работы человека, сразу оживился, ожидая, наверно, начала разговора. Наверно, тоскливо было ему крутить баранку в полном молчании, в ночной тишине. Но Творогов молчал. Он думал о том, что услышал сейчас от Тараненко. Он еще не мог толком осознать, какие чувства вызвали в его душе те слова, которые с такой отчаянной горячностью, с такой страстью только что произносила она. В том, что говорила сегодня Тараненко, не было ничего слишком уж неожиданного, ему и самому иной раз приходило в голову нечто подобное. Напрасно тревожилась, напрасно беспокоилась Валечка: он не испытывал сейчас обиды, только грусть и усталость владели им.
В доме у Творогова лифт не работал. Творогов взглянул на часы: ого, часовая стрелка уже подбиралась к трем. Сейчас ему еще предстоит выслушивать Зоины упреки. Она и так-то не любит, не выносит, когда он приходит домой слишком поздно, а тут еще – Синицын, Лена Куприна! Есть от чего выйти из себя.
Творогов вздохнул и стал медленно подниматься по лестнице.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Миля Боярышников стоял у дверей малого конференц-зала, сдержанно-торжественный, сверкающий обаятельной улыбкой. Свой толстый вязаный свитер и джинсы, в которых он обычно щеголял в институте, сегодня он сменил на строгий темно-серый костюм и был похож сейчас на генерального консула, встречающего гостей, съезжающихся на прием по случаю национального праздника той страны, которую он имеет честь представлять.
«Ну что за человек этот Миля! Что за характер!» – с невольной улыбкой подумал Творогов. Еще день назад Боярышников пребывал в панике, предавался унынию, метался по институту, озабоченный, обуреваемый самыми мрачными предчувствиями, а сегодня уже ведет себя так, будто даже и сомнений у него нет в том, что его ожидает триумф. Не раз уже замечал Творогов это свойство Милиной натуры: достаточно было Боярышникову оказаться в центре внимания, как он оживал, расцветал, начинал излучать уверенность и оптимизм.
Впрочем, и у самого Творогова сегодня с утра было бодрое настроение. Воспоминание о неприятном ночном разговоре с Валей Тараненко уже отошло прочь, сам этот разговор, их долгое ожидание на заброшенной стоянке такси, все события ночи казались теперь полуреальными, словно происходили они то ли наяву, то ли во сне. Не случайно давно еще Творогов взял себе за правило – не очень доверять ночным настроениям. Ночью многое кажется мрачнее, тяжелее, безысходнее, чем есть на самом деле, чем оказывается потом, днем.
Сегодня утром Творогову позвонила Виктория Павловна, та самая сотрудница вечерней газеты, что брала у него интервью. Творогов уже почти забыл о своей беседе с ней, то есть не то чтобы забыл совершенно – просто другие заботы и волнения занимали его последнее время куда больше. Появится интервью – хорошо, не появится – еще лучше. И все же, когда, уже собираясь выходить из дома, он снял телефонную трубку и услышал, что беседа с ним будет напечатана и причем именно сегодня, вечером. Творогова это обрадовало. Как будто одно лишь звучание голоса этой почти незнакомой ему женщины обладало способностью разом вернуть то настроение, которое он испытывал тогда, в день их встречи. Опять, как и во время их разговора в лаборатории, когда он видел перед собой ее веселящиеся глаза, ему хотелось улыбаться.
Уже не первый раз ловил себя Творогов на суеверной, ни на чем, конечно, не основанной, убежденности в том, что, как начнется день – так он и продолжится. Первое известие, полученное с утра, первый утренний телефонный звонок, первый разговор – все это оказывалось словно бы той нотой, которая задавала потом тон всему предстоящему дню. И сегодняшний утренний звонок был хорошим предзнаменованием.
– Смотри, не забудь купить газеты, – сказала Зоя, которая ждала появления интервью, пожалуй, с гораздо большим нетерпением, нежели сам Творогов. – Запиши себе где-нибудь, а то ты вечно витаешь в облаках. И купи побольше, потом ведь не достанешь.
– Слушаюсь, – весело сказал Творогов.
– И ни пуха тебе ни пера!
Эти студенческие еще привычки, кажется, навечно, на всю жизнь усвоенные Зоей: непременное «ни пуха ни пера» перед каждой защитой, радостный экстаз при виде счастливого трамвайного билета, обязательное соблюдение еще каких-то неведомых Творогову или прочно забытых им примет, – всегда вызывали у него раздражение не столько даже сами по себе, сколько своей неизменностью, своим каменным постоянством, бездумной затверженностью, тем, как многозначительно подчеркивала их Зоя. То, что когда-то забавляло и умиляло Творогова, теперь выглядело лишь застывшим, вымученным ритуалом, было в его глазах так же неестественно и даже уродливо, как если бы взрослый человек принялся играть в солдатики или куклы.
– Мне-то что желать ни пуха ни пера, – сказал Творогов. – Ты лучше Боярышникову пожелай. Как бы от него сегодня не полетели пух и перья.
– А что, это действительно так серьезно? – озабоченно, с беспокойством спросила Зоя, заглядывая ему в глаза. И он сразу подумал, что, пожалуй, не совсем справедлив к ней; что ни говори, а его тревоги и заботы давно уже стали и ее тревогами и заботами, от этого никуда не уйдешь.
– Да нет, я пошутил, – сказал Творогов. – Миля Боярышников, мне кажется, из тех людей, кто и в огне не горит, и в воде не тонет.
И сейчас, подходя к конференц-залу, возле которого в коридоре кучками уже толпился народ в ожидании начала ученого совета, глядя на празднично подтянутого, одаривающего своими улыбками всех знакомых, полузнакомых и незнакомых (хотя были ли здесь у него незнакомые?) Милю Боярышникова, Творогов опять мысленно повторил: «…и в воде не тонет».
Здороваясь, отвечая на приветствия членов ученого совета и тех, кто пришел послушать, как будет защищаться Боярышников, Творогов с сожалением убеждался: наивно было надеяться, что защита пройдет скромно, незаметно, буднично. Как ни опасался Миля Боярышников за судьбу своей кандидатской, как ни пугал его приезд Синицына, все же не удержался он от соблазна пригласить на свою защиту как можно больше народу. Были здесь люди и вовсе неизвестные Творогову.
Впрочем, возможно, не одно только легкомысленное тщеславие, не только ребяческая беспечная самоуверенность руководили Боярышниковым, когда рассылал он свои приглашения, когда настойчиво обзванивал всех, кого хотел видеть на сегодняшнем заседании. Наверняка был тут и определенный расчет, стремление таким образом внести растерянность в ряды своих возможных противников. Отзывы – отзывами, а люди, пришедшие специально, чтобы послушать соискателя, – это ведь тоже, пусть не фиксируемое в протоколах ученого совета, но свидетельство значительности работы. Попробуй-ка наберись решимости выступить против Боярышникова, поставить под сомнение его труд, произнести критические слова в его адрес, если вон сам восьмидесятипятилетний Григорий Аполлинарьевич Троицкий, о котором говорят, будто он вовсе уже не выходит из дома, явился вдруг на защиту и на виду у всех заранее трясет руку Творогову, поздравляя его с еще одним выпускаемым в большой полет учеником… И вот ведь убежден Творогов, что Григорий Аполлинарьевич не только диссертации, но и автореферата Боярышникова наверняка не читал, что вовсе не интерес к этой работе, а лишь старая дружба с отцом Боярышникова побудила его появиться сегодня здесь, – знает все это Творогов, знает, но тем не менее, ощущая пожатие старческой руки, вслушиваясь в похвалы, расточаемые Троицким, он невольно поддается, уступает приятному гипнозу и незаметно для себя уже допускает возможность, уже начинает верить, что слова Григория Аполлинарьевича – не пустая любезность, не дань вежливости, вероятно, есть у старика какие-то серьезные основания хвалить работу Боярышникова, которые он, Творогов, возможно, недооценил или не принял во внимание…
Постепенно зал наполнялся. Увидел Творогов Осмоловского, как всегда угрюмо-напряженного, пристроившегося в углу у окна и уже уткнувшегося в какой-то журнал, и нарядную, оживленную Зиночку Ремез, и других сотрудников своей лаборатории. Была здесь и Валя Тараненко. С какой-то странной, вымученной улыбкой взглянула она на Творогова и тут же отвела глаза; то ли стыдилась она вчерашней своей ночной откровенности, то ли считала, что вправду обидела Творогова, и уже страдала от этого…
Медленно, торжественно прошел через весь зал Корсунский, своей лауреатской медалью как бы сразу прибавив значительности предстоящему заседанию. Опустился в кресло в первом ряду, прижал ладонь к сердцу, раскланялся с Твороговым. А вот и Прохоров Лешка, Алексей Степанович, «сын факультета», собственной персоной возник в дверях. Не забыл, значит, не пожалел времени, явился. Что влекло его сегодня сюда, что хотел, что рассчитывал он увидеть сегодня? Поражение Творогова, торжество Синицына? Или наоборот? На что делал он ставку? Жизнерадостность и веселье были написаны на его лице, как у человека, с мороза входящего в ресторанный зал в предчувствии славного застолья. Издали как ни в чем не бывало приветственно помахал он Творогову, а едва усевшись, тут же начал пожимать руки многочисленным знакомым, привставая и перегибаясь через спинки кресел. Казалось, этот обряд рукопожатий доставлял ему особое наслаждение.
Синицына Творогов увидел как-то неожиданно, внезапно – все искал его глазами, все ждал его появления, но Женьки не было, и вдруг – вот он, пожалуйста, сидит в предпоследнем ряду, посматривает с любопытством по сторонам, ищет, наверно, знакомые лица. Что испытывает он сейчас, спустя столько лет снова оказавшись в институте, который когда-то был для него родным? Что вспоминает?
Здесь, в конференц-зале, мало что изменилось с тех пор, даже фанерная, вишневого цвета трибуна осталась все та же, прежняя. Помнит ли Женька, как последний раз шел к ней?.. Ему тогда дали слово сразу после Валечки Тараненко, после ее горячечной обвинительной речи. «Пусть Синицын сам скажет, как расценивает свое поведение!» И он шел через весь зал, шел медленно, словно бы нехотя, словно бы колеблясь, надо ли ему говорить, словно бы делая над собой усилие. Каково ему было тогда – оказаться одному под взглядами всего зала!.. Не мог он не помнить того дня…
Творогов издали кивнул Синицыну, и Женька в ответ подмигнул ему: мол, держись! Значит, не передумал, не отказался от своей нелепой затеи.
Творогову хотелось сейчас подойти к Женьке и сказать: «Ну зачем тебе это? К чему? Чего ты собираешься достигнуть этим своим упорством? Хочешь, я тебе заранее расскажу, как все будет проходить сегодня и чем закончится?» Но он не сделал этого, не подошел к Женьке, не сказал этих слов: аллах его ведает, Женьку, еще вообразит, что он, Творогов, попросту боится его выступления, оттого и старается переубедить.
Уже прозвенел звонок, настойчиво приглашающий всех в зал, уже пора было и Творогову сосредоточиться, собраться – как-никак, а ему держать речь одним из первых, но он все продолжал вглядываться в тех, кто входил в зал, все не мог оторвать глаз от дверей. Краем глаза, боковым зрением он видел пустовавшее рядом с Синицыным кресло – не напрасно, наверно, придерживал Женька это место. Или лишь по чистой случайности оно оставалось незанятым и на самом деле Женька никого не ждал?..
За председательским столом появился Антон Терентьевич, окинул своим мальчишеским, исполненным проницательности и любопытства взглядом зал, улыбнулся едва заметно каким-то своим мыслям, поднес к глазам листок с повесткой дня. Заседание началось.
Значит, так и не пришла Лена. Не захотела прийти.
Но отчего? Что удержало, что остановило ее? Боязнь воспоминаний? Страх ощутить себя чужой, посторонней здесь, в этих стенах, которые когда-то были так дороги ей?.. Или нашлись у нее еще какие-то неведомые Творогову причины, заставившие ее сегодня остаться дома?..
Машинально, вполуха Творогов слушал Боярышникова, отмечая про себя, что держится Боярышников хорошо, уверенно, не теряется, не спешит и не мямлит, говорит толково, умело подчеркивая сильные стороны своей работы и обходя слабые.
Но почему, почему все же она не пришла? Почему бросила, оставила Женьку в одиночестве?..
Защита двигалась вперед по накатанному, привычному пути. Официальный отзыв, подписанный член-корром Академии наук Степанянцем, выступления оппонентов, ответы Боярышникова – события развивались так, как и предполагал Творогов, без каких-либо неожиданностей, и лишь эта маленькая заноза, эта необъяснимость – почему она не пришла? – мешала Творогову. Как будто так и оставшееся пустым кресло рядом с Синицыным таило некую угрозу или, точнее, намек на угрозу, предостережение об опасности, которое никак не мог расшифровать Творогов.
– …Накопленный соискателем экспериментальный материал со всей убедительностью показывает, что было бы преждевременно утверждать, что влияние ультрафиолетового излучения на процесс проникновения ионов натрия в клетку носит лишь однозначный характер, и в этом смысле соискатель совершенно прав, когда воздерживается от каких-либо окончательных выводов. Тем не менее его работа является несомненным вкладом в развитие наших представлений о влиянии ультрафиолетовых излучений на…
Все так, все верно. Имеющий уши да слышит. И недостатки работы иной раз могут обернуться ее достоинствами. Все зависит лишь от того, как на них взглянуть. Автор не спешит делать выводы – что это: научная робость, неспособность к обобщениям или знающая себе цену скромность, жажда предельной добросовестности? Автор отлично знает литературу по интересующей его проблеме, но, обсуждая различные точки зрения, не отдает предпочтения ни одной из них – что это: отсутствие собственного мнения, своего взгляда или научная объективность, нежелание навязывать свою точку зрения?.. Что это – слабость или сила? Кто может ответить на этот вопрос?..
Но почему все-таки не пришла Лена?
И странное дело: чем дальше, чем ровнее катилась вперед процедура защиты, тем муторнее, тоскливее становилось на душе у Творогова. Чувство утраты овладевало им. Как будто он навсегда лишился того праздничного ощущения, того радостного подъема, который испытывал всякий раз, когда защищался его аспирант. Даже в отзывах оппонентов чудилась ему сейчас некая унизительная снисходительность: вроде бы и хвалили они диссертацию Боярышникова, но в то же время… в то же время как бы невзначай, осторожно касались ее слабых мест, словно давая тем самым понять, что они-то прекрасно видят, чувствуют, угадывают эти слабые места и если не говорят о них всерьез, во весь голос, то лишь из опасения разрушить всю постройку, воздвигнутую Боярышниковым… Никогда прежде не испытывал Творогов такого скверного ощущения.
Какое-то движение почудилось ему позади, в конце зала. Творогов обернулся: так и есть, Синицын уже рвался выступать, уже тянул вверх свою худую, длинную руку. К чему? Зачем? Что мог он изменить?
Зал зашевелился, многие с интересом оглядывались на Синицына, а он под этими взглядами пробирался между рядами кресел из своего угла, неловко перешагивая через ноги соседей.
И вдруг острое чувство жалости, смущения и стыда пронзило Творогова. Такое чувство испытываешь, когда близкий, дорогой тебе человек, сам того не понимая, вдруг ставит себя в неловкое положение, совершает на твоих глазах смешной и нелепый поступок, и ты вынужден лишь наблюдать со стороны и ничем не в состоянии ни помочь ему, ни предотвратить то, что должно сейчас случиться.
И, стараясь не глядеть на Синицына, сжавшись от этого неожиданного стыда и жалости, Творогов с внезапной ясностью понял, догадался, отчего не пришла Лена.
Она не хотела э т о г о видеть. Она заранее знала, предчувствовала то, что Творогов ощутил лишь сейчас, и она была не в силах испытывать эту боль.
Синицын вышел к трибуне. Он был бледен и плохо выбрит. Его бледность и худоба бросились сейчас в глаза Творогову еще отчетливее, сильнее, чем при первой встрече.
– Боюсь, что своим выступлением… – начал было Синицын, но стенографистка, нервно вскинув голову, перебила его:
– Фамилию! Назовите фамилию!
– Синицын Евгений Николаевич, младший научный сотрудник, – отозвался он с насмешливой галантностью, сделав особенный нажим на слове «младший», и Творогов отметил, что эта маленькая заминка не только не сбила его, а наоборот, кажется, прибавила ему уверенности и азарта – препятствия всегда лишь воодушевляли Женьку.
– Разрешите продолжить?..
– Да, да, Евгений Николаевич, пожалуйста, прошу вас, – сказал Антон Терентьевич с явной заинтересованностью разглядывая Синицына.
– Боюсь, что своим выступлением я внесу диссонанс…
– Громче! – сердито воскликнула стенографистка. – Говорите громче, я ничего не слышу!
Что-то раздражало ее в Синицыне, как будто интуитивно угадывала она, что он – чужак в этом зале. Или, может быть, она уже измоталась, устала и нервничала оттого, что каждое новое выступление грозило затянуть заседание.
– Постараюсь громче, – сказал Синицын. – Итак… На чем я остановился?
– Вы остановились на том, что боитесь… – услужливо подсказали из той части зала, где сидели друзья Боярышникова.
– Да, я боюсь, – сказал Синицын. – Я боюсь своим выступлением внести диссонанс в ровное течение сегодняшней нашей дискуссии, и все же я рискую высказать собственное мнение, хотя, мне показалось, как раз собственное мнение нынче не очень ценится. Во всяком случае, его отсутствие некоторые товарищи сегодня ставили в заслугу соискателю…








