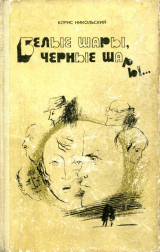
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Он выполнил свое обещание, хотя, если быть несколько точнее, инициатива разговора с Синицыным принадлежала не ему, Творогову, а самому Женьке. Это Женька забежал утром к нему в двадцать седьмую в сунул пачку исписанных крупным корявым почерком листов: «Окинь своим проницательным взглядом и скажи, что ты думаешь».
Это были те самые тезисы, о которых говорила вчера Валечка Тараненко.
Творогов взял их с тем нетерпеливым любопытством и опасением одновременно, с каким заглядывает человек, идущий на прием к врачу, в свою медицинскую карточку, в свою историю болезни. И хотя почти все, что было написано здесь, Творогов уже не раз, пусть отрывочно, сумбурно, но слышал от Синицына, все равно теперь, когда он вдруг ясно представил, что это уже не просто разглагольствования во время лабораторных чаепитий, не просто язвительные филиппики в адрес Краснопевцева, которыми Синицын так любил дразнить Валечку Тараненко, не просто радужные планы перестройки лаборатории, а то и всего института, которые Женька увлеченно рисовал перед своими единомышленниками, а тезисы речи, которая должна быть произнесена на ученом совете, запротоколирована, занесена в стенограмму, которая должна стать документом, Творогов, может быть, первый раз по-настоящему ощутил серьезность намерений Синицына, ощутил беспокойство и тревогу.
На что рассчитывал Синицын? Или он думает, что достаточно произнести слова, с которых начинаются его тезисы: «Я все больше убеждаюсь: то, чем занимается наша лаборатория, а отчасти и весь институт, – это вчерашний день биологии, это скорее имитация серьезной науки, чем сама наука», и на ученом совете загремят аплодисменты, и все бросятся исправлять ошибки и упущения, указанные Синицыным? На это он рассчитывает?
Валя Тараненко была права: в своих тезисах Синицын собрал все, что вызывало его недовольство и раздражение, все, что требовало, по его мнению, перестройки и ломки – от принципиальных вопросов до мелочей, до частностей. Какая-то неистовость, какая-то отчаянная безоглядность, стремление разом сжечь все мосты, не оставить себе путей отступления ощущалась в этих торопливо набросанных тезисах. Он не собирался щадить никого из своих противников – мог ли он рассчитывать после этого, что пощадят его?..
Творогов читал эти тезисы со сложным чувством, в котором смешивались одобрение и протест, раздражение против Синицына и восхищение им. И в то же время он уже понимал: что бы он, Творогов, ни говорил теперь Женьке, какие бы доводы ни приводил, его слова, его мнение не остановят Синицына – реакция уже началась, процесс уже идет, пока еще невидимый, скрытый, но рано или поздно он неизбежно вырвется наружу, это только дело времени.
Творогов сидел за своим рабочим столом, погруженный в чтение, но при этом, казалось, даже спиной чувствовал, как меняется, словно бы насыщаясь предгрозовым электричеством, атмосфера в лаборатории. То и дело хлопала дверь, Вадим Рабинович убегал куда-то и появлялся снова, приходили люди из других лабораторий, озабоченные, деловитые, торопливые, негромко переговаривались друг с другом. «Ученый совет», «Синицын», «Краснопевцев» – эти слова так и носились в воздухе.
«Как дети, – неожиданно подумал Творогов, – совсем как дети, играющие в войну…»
Из института в тот день он возвращался вместе с Синицыным.
– Ну как? – спросил Синицын. – Прочел? Что ты скажешь?
Он был возбужден, заметно нервничал, хотя и старался не показывать этого.
– Видишь ли… – начал Творогов. – В том, что ты пишешь, много справедливого, но есть и перехлесты, и излишняя резкость, и мельчишь ты порой. И потом… нельзя рассчитывать изменить все одним махом. Во многом ты прав, я не спорю, но на твоем месте я бы не стал торопиться, я бы еще подумал. Во всяком случае, сейчас выступать в подобном духе, по-моему, не стоит…
Синицын передернул плечами.
– Нет, – сказал он. – Я не о том тебя спрашиваю, выступать мне или не выступать, – это дело уже решенное. Ты мне вот что скажи: ты поддержишь меня? Мне нужна поддержка.
Женька уже был охвачен азартом борьбы, одержим этой борьбой, он был весь во власти предстоящих сражений, и Творогову даже показалось: он ясно ощутил сейчас, физически ощутил ту нервную энергию, которая, подобно электромагнитному полю, окружала в эти минуты Синицына, исходила от него.
– Я на тебя рассчитываю, – сказал он, прежде чем Творогов успел что-либо ответить.
– Не знаю, – сказал Творогов. – Мне трудно вот так, сразу. Мне нужно подумать.
– Подумать – да, или подумать – нет? – настойчиво спросил Синицын.
– Скорее всего – нет, – сказал Творогов после паузы. Ему пришлось сделать усилие над собой, чтобы произнести эту фразу. Ему всегда приходилось преодолевать внутреннее сопротивление, некий запретный барьер, преодолевать чувство тягостной неловкости, когда предстояло сказать не то, чего ждал от него собеседник.
– Нет? Значит, нет? – с неожиданной веселостью сказал Синицын. – Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни, гром ударов их пугает!
Если он рассчитывал таким образом уязвить Творогова, то напрасно: на Творогова такие штучки никогда не действовали, мог бы Женька это усвоить.
– А впрочем, – продолжал Синицын, – я почему-то был уверен, что ты скажешь «нет». Только не предполагал, что так быстро.
– Я же сказал, что подумаю, – уже начиная сердиться, возразил Творогов.
– Это не меняет сути, – сказал Синицын. – Ты подумаешь не над тем, поддержать меня или нет, а над тем, как лучше обосновать, как убедительнее и достойнее сформулировать свой отказ. Вот над чем ты будешь думать.
Пожалуй, он был близок к истине, и это еще сильнее задело Творогова.
– По-твоему, я уже не имею права обладать собственным мнением? – сказал он.
– Нет, отчего же! – отозвался Синицын. – Я даже готов его выслушать, причем с большим интересом. Говори, пока мы не оказались по разные стороны баррикад.
– Ты думаешь, нам это грозит? – с усмешкой спросил Творогов.
Синицын присвистнул.
– Еще как! Так давай, выкладывай свои соо-бр-р-ражения!
И эту его манеру хорошо знал, давно уже подметил Творогов: когда Синицын говорил о чем-нибудь, что особенно его волновало, что имело для него слишком серьезное значение, он словно бы пытался укрыться за защитной оболочкой из легкой клоунады, паясничанья, словесной игры, он вдруг утрачивал естественность.
– Видишь ли… – сказал Творогов. – Прежде всего, если говорить честно, мне было бы чисто по-человечески тяжело и неприятно выступать сейчас против Федора Тимофеевича..
– А мне, ты думаешь, приятно? – перебил его Синицын. – Мне, ты думаешь, это доставляет радость? Но кто-то же должен расчищать авгиевы конюшни! Пойми, Костя, кто-то же должен!
– Погоди, ты не дослушал меня. Краснопевцев все-таки неплохой дядька, жаль старика. Говорят, последнее время у него и со здоровьем неважно…
– Ну да, ну да, – сказал Синицын. – Неплохой дядька, и здоровьице у него пошаливает – этого вполне достаточно для того, чтобы заведовать лабораторией, не так ли? А хочешь, я тебе скажу, что по-настоящему волнует нынче Краснопевцева? Результаты опытов? Нехватка приборов? Будущее лаборатории? Да ничего подобного! Единственное, что по-настоящему его беспокоит и волнует, – как бы кто-нибудь в комнате, где мы сидим, не открыл форточку! Он, видишь ли, боится сквозняков. Вот так-то. Ты опять скажешь: простительная стариковская слабость. Но не слишком ли мы снисходительны к этим слабостям? У одного больное сердце, и оттого мы боимся при нем произнести слово «пенсия», у другой маленький ребенок, и потому мы сквозь пальцы смотрим на то, что ее по полдня не бывает в лаборатории, третьей мы попросту не решаемся сказать, что она никуда не годный работник, что у нее нет склонности к исследовательской работе, не решаемся потому, что в свое время ее рекомендовал Петр Петрович и, оказав ей правду, мы тем самым рискуем нанести душевную травму этому самому Петру Петровичу!.. Мы снисходительны, мы добры, мы человечны! Но только за чей счет? Ты никогда не думал – за чей счет? Так я тебе скажу – за счет науки!
– Ты – максималист, Женька. Ты слишком непримирим. Ты ведешь себя так, словно ты – вечный студент-третьекурсник.
– Ах, как мы торопимся стать солидными! – воскликнул Синицын. – Как боимся собственной молодости, как стыдимся ее, как спешим с нею расстаться! А если хочешь знать, вся проблема-то как раз в том и состоит, что нашей лаборатории, нашему институту не хватает молодости…
– Ну знаешь ли! Это уже что-то из области отвлеченной романтики!
– А что? А что? Почему-то по отношению к отдельному человеку мы признаем, что он стареет, теряет какие-то свои прежние качества, пусть даже приобретая при этом опыт. А по отношению к коллективу? К научному коллективу? Разве это не может быть справедливо? Разве это не тот же самый живой организм, который живет, развивается, стареет? Ты ответь мне: когда тот же Краснопевцев пришел в институт, сколько ему было, сколько?
– Наверно, лет тридцать…
– Вот именно! Тридцать один год. Но заметь, никто не считал его тогда мальчиком. Наоборот! Потому что весь институт был молод. А теперь? Ну конечно, с высоты шестидесяти или семидесяти лет что там может представлять из себя какой-нибудь Синицын или Творогов? Так, детский сад… милые юноши… И что хуже всего – такое отношение ведь не диктуется каким-то намеренным злым умыслом, оно возникает само собой, естественно…
– Что же ты предлагаешь? Стариков на свалку? Или в лес отвозить на съедение волкам?
– Ну зачем же на свалку? Пусть работают. Но, понимаешь, нужно же какое-то движение, какая-то жизнь – нужно больше нам доверять, нужно создавать молодежные коллективы – лаборатории, может быть даже институты, без этого же нельзя! Создают же, например, молодежные театральные студии, целые театры из выпускников одного курса, и это почти всегда себя оправдывает!
– Театр и лаборатория – это все-таки не одно и то же…
– Не придирайся к словам. Я говорю о принципе.
– Честное слово, Женька, тебе надо было стать физиком. Для биолога ты слишком нетерпелив, – сказал Творогов.
– Ага, вот еще одна басенка, которую мы сами же выдумали и сами же ею утешаемся: мол, физика, математика – это понятно, там молодые ребята работают, там свежие идеи нужны, оригинальность мышления, смелость, без этого далеко не уедешь! Иное дело, мол, наша старушка биология. Биологу нужно прежде всего время. Нужны годы, десятилетия, чтобы накопить материал. Терпение, терпение и еще раз терпение! Позор нетерпеливым, позор выскочкам – им не место в такой солидной науке, как биология!
– Но не будешь же ты отрицать…
– Буду! В том-то и дело, что буду! – с упрямой горячностью воскликнул Синицын. – Нельзя быть рабом представлений, которые тебе достались по наследству, какими бы очевидными они ни казались… Вот тебе пример. Мы уже поглядываем в сторону ЭВМ, мы уже тянемся к ней – как же, мы приобщаемся к прогрессу, к научно-технической революции! – а сами продолжаем работать все теми же дедовскими методами. Мы ведь свято убеждены, что ЭВМ – это тот же арифмометр, только работает побыстрее… А о том, что новая техника может и должна принципиально – слышишь, Костя? – п р и н ц и п и а л ь н о изменить сам подход к исследованиям, методику опытов, подход к выяснению закономерностей, скрытых в серии экспериментов, об этом мы вроде бы и не ведаем… Да и не удивительно. Для этого же надо математику знать, глубоко, по-настоящему знать, а математические познания того же так высоко чтимого тобой Федора Тимофеевича находятся, мягко говоря, далеко не на современном уровне…
Синицын сел на своего конька. Они с Твороговым и прежде не раз вели разговоры на подобные темы, начиная, пожалуй, еще со студенческих времен. И оттого, что спор этот так привычно перешел в знакомое русло, Творогов вдруг успокоился: казалось, Синицыну, как и раньше, необходимо лишь выговориться, и ничего больше.
Они так и расстались, почти совсем примирившись, условившись, что оба еще подумают, поразмыслят и вернутся еще к этому разговору.
Мог ли Творогов тогда представить себе, мог ли догадываться, какие события вскоре повлечет за собой упрямая решимость Синицына? Да предположи он тогда, знай, какой след оставят эти события в Женькиной, да и в его, Творогова, жизни, как разом непоправимо перевернут их отношения, догадайся он тогда обо всем, что ожидало их, что должно было в ближайшие дни произойти в институте, разве не нашел бы он в тот день какие-то иные, куда более весомые слова, чтобы переубедить Женьку, разве не нашел бы?..
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Все-таки он позвонил, Женька Синицын, бродяга старый, воображала, пижон несчастный, все-таки позвонил!
Первой на этот звонок откликнулась Зоя. Как она почувствовала, как сумела выделить его среди тех телефонных звонков, которые время от времени раздавались в этот вечер в их квартире, как угадала безошибочно, когда даже сам Творогов, казалось, уже перестал ждать, уже поставил крест, разуверился, сказал себе: «Хватит». Может быть, верно говорят, что порой неприязнь, враждебность обладают большей интуицией, нежели любовь и преданность? Так или иначе, но едва лишь тренькнул этот звонок, Зоя сразу сказала:
– Иди снимай трубку, твой Синицын звонит.
Творогов усмехнулся, пожал плечами и пошел к телефону. Часы показывали без четверти одиннадцать.
– Я слушаю, – сказал он.
– Привет! – голос был чуть хрипловатый, чуть искаженный телефонной мембраной, но Творогов мгновенно узнал его.
– Привет, – сказал он, – привет!
И замолчал. Трубка тоже молчала.
Что означала эта маленькая пауза, это секундное замешательство? Прервавшееся на мгновение дыхание? Смущение? Волнение, лишающее вдруг нас возможности управлять своим голосом? Будь это действительно так, Творогов многое бы простил Синицыну.
– Алло, ты меня слышишь? – сказал Синицын.
– Сейчас слышу, – сказал Творогов. – А то вроде что-то прервалось…
– Я говорю: «Привет!» – сказал Синицын.
– И я говорю: «Привет!» – сказал Творогов.
Они оба засмеялись, и Творогов сразу ощутил, как отпускает его напряженность.
– Слушай, Костя, может, выскочишь на полчасика? – сказал Синицын так, словно они расстались только вчера. – Пройдемся, проветримся, подышим перед сном свежим воздухом, а? Если, конечно, ты еще окончательно не обленился…
Прежде у Синицына это называлось – «высвистывать» приятеля. Такая привычка – привычка решать все важные дела на улице, во дворе, на скамейке в парке – осталась у него еще с отрочества, с юности, с тех времен, когда жил он в одной комнатенке с отчимом и матерью и не мог, не хотел никого приглашать к себе, а в чужих квартирах, наверно, из-за гордости своей чувствовал себя неуютно, неловко, замыкался и впадал в угрюмость.
– Выскочишь?
– А ты где?
Творогов поймал настороженный Зоин взгляд. Она что-то показывала ему знаками.
– Да тут, неподалеку от тебя, на углу, возле газетного киоска…
…Тогда, в последний раз, он тоже ждал Творогова возле газетного киоска. Он внимательно рассматривал обложки вывешенных за стеклом киоска журналов и, казалось, не заметил, как Творогов подошел к нему… Бог ты мой, как давно это было!..
– Хорошо, – сказал Творогов. – Я сейчас выскочу. Через пять минут.
– Ну знаешь ли! – выпалила Зоя, едва он повесил трубку, и такая обида, такое глубокое возмущение звучали в ее голосе, будто он, Творогов, только что нанес ей личное оскорбление. – Ну знаешь ли! Поздравляю! И ты думаешь, после этого тебя кто-нибудь станет уважать, кто-нибудь будет с тобой считаться? Как ты ведешь себя? Доктор наук, солидный, взрослый человек…
Он был уже в коридоре, одевался.
– …Седые волосы вон уже проглядывают, а, как мальчишка, срываешься, мчишься, едва тебя поманили пальцем! И еще радуешься, что поманили! Да где твоя гордость? Где твое достоинство?..
Творогов давно уже усвоил, что спорить на эту тему с Зоей совершенно бесполезно. Если на сцене появлялся Синицын, никакие логические доводы на нее не действовали. Отчего? Почему? Уж если на то пошло, не будь всей этой истории с Синицыным, еще неизвестно, как бы сложилась их судьба. Если бы не его тогдашняя, так внезапно возникшая одинокость, очень возможно, что Зоя так бы и не стала никогда его женой, очень возможно…
– …И потом, ты, что, бездомный, чтобы на ночь глядя бродить по улицам?.. Если е м у так необходимо встретиться с тобой, мог бы он, как любой нормальный человек, зайти к тебе. Что это за дворовые манеры!
– Зоя, перестань, – досадливо морщась, откликнулся Творогов.
Что за удивительное свойство было у его жены: все переиначивать, все видеть словно бы в зеркальном, перевернутом изображении! Как не могла она понять, как не могла почувствовать, что значила для Творогова эта встреча! Это его, Творогова, день, его звездный час наступал сегодня. Может быть, все годы, с тех пор как разошлись, как расстались они с Женькой Синицыным, с тех пор как оборвалась их дружба, он втайне, в глубине души ждал этого дня…
– Беги, беги! Он будет доволен! – уже из-за двери доносилось до Творогова.
А он и правда бежал. Бежал вниз по лестнице, не дождавшись лифта, бежал, держась одной рукой за перила, перемахивая через ступеньки, совсем как некогда, еще в те времена, когда они с Женькой еще не обладали умением ходить медленно…
Сколько воды утекло с тех пор! Сколько воды утекло с того момента, когда Женька последний раз высвистал, вызвал Творогова, чтобы объявить ему: решение принято, послезавтра он, Синицын, выступает на ученом совете. И у Творогова сразу упало, оборвалось сердце, потому что он сразу понял: это конец. До той минуты он все утешал себя тем, что Женька наверняка еще одумается, перегорит, успокоится, что все еще утрясется, уляжется, придет к мирному исходу. А теперь Женькины слова означали, что и ему, Творогову, сейчас нужно сделать окончательный выбор, сказать «да» или «нет», и он уже твердо знал, что произнесет «нет».
– Все, – сказал Женька. – Жребий брошен, пути к отступлению отрезаны. Я вчера дал свои тезисы прочесть Краснопевцеву.
– Я знаю, – сказал Творогов.
Вчера днем Творогов стоял на лестничной площадке в институте, ожидая Лену Куприну, чтобы вместе с ней отправиться в буфет, когда мимо него прошел Краснопевцев. Он что-то говорил, бормотал невнятно, и Творогов, думая, что Федор Тимофеевич обращается к нему, тоже сделал шаг навстречу, но сразу понял, что ошибся, – Краснопевцев разговаривал сам с собой. Федор Тимофеевич начал было спускаться вниз по лестнице, тяжело опираясь на свою знаменитую палку, но вдруг, словно спохватившись, словно вспомнив что-то важное, оглянулся, увидел Творогова и подошел к нему.
– Я давно уже собираюсь спросить вас, да все как-то не было удобного случая… – Его крупное, оплывшее лицо придвинулось вплотную, глаза мигали по-стариковски часто, близоруко всматриваясь в Творогова. И хотя на лестнице было прохладно, маленькие капельки пота рассыпались по подбородку и над верхней губой Краснопевцева. Эти блестящие частые капельки особенно поразили тогда Творогова: позже, когда вставало перед ним лицо Краснопевцева, он видел его именно таким – с блестящей россыпью пота.
– Я давно уже собираюсь спросить вас, не объясните ли вы мне, дорогой Константин Александрович, за что это Евгений Николаевич так невзлюбил вашего покорного слугу? Что я ему сделал дурного? В чем причина? Уж что-что, а общий язык с молодежью я, кажется, всегда умел находить. Может быть, я невзначай обидел его чем-то, а?
– Да нет, Федор Тимофеевич, что вы! – сказал Творогов.
Что мог он еще сказать? Как мог он объяснить Краснопевцеву, что дело здесь вовсе не в личной неприязни и не в каких-то действительных или мнимых обидах, что все куда глубже и серьезнее? Просто Синицын убежден, что Краснопевцев давно уже пережил себя как ученый. Мог ли Творогов сейчас объяснить это Федору Тимофеевичу?..
– Ну что ж… – Краснопевцев хотел сказать еще что-то, но только задышал тяжело, закашлялся, бледность вдруг проступила на обычно багровом его лице. Он вяло махнул рукой и пошел прочь, высоко вскидывая палку, на которой отчетливо поблескивала серебряная монограмма…
– Ну а ты? Ты что мне скажешь? – настойчиво спрашивал Синицын. – Ты что надумал? У тебя ведь было достаточно времени, чтобы подумать. – Насмешливые нотки прозвучали в его голосе, когда он произносил последнюю фразу – мол, он-то заранее, без особого труда мог предсказать, к какому решению пришел Творогов.
Напрасно выбрал тогда Женька Синицын такой тон. Напрасно воображал, будто решение легко далось Творогову, будто существовало оно уже в его голове, готовенькое и единственное, – за чем же дело стало, только достойно обосновать его и облечь в надлежащую форму. Хотя была здесь доля истины, была, не хотел Творогов кривить душой перед самим собой – он с самого начала знал, каким будет его ответ, и мучился, страдал от этого своего знания. Пожалуй, именно в эти дни он с такой горькой ясностью почувствовал, осознал, как много значила для него Женькина дружба, как дорого было ему ощущение их духовной близости, как любил он этого человека. Никогда прежде он даже не представлял, что мысль о том – одна только мысль, – что они потеряют друг друга, может причинять ему такую боль. Но согласись он с Женькой, уступи ему сейчас ценой собственных убеждений, пожертвуй ими, – разве не попадет он тогда в полную зависимость от Женьки, разве не утеряет свое «я»; и будет ли он тогда интересен тому же Синицыну? Сможет ли подобной ценой сохранить их дружбу? Разные одолевали его мысли. Сумбур, лихорадка – точнее, пожалуй, трудно было определить его тогдашнее состояние…
– Что я надумал? – повторил Творогов медленно, словно еще и таким образом пытаясь оттянуть решающее объяснение. – Боюсь, что ничего нового я тебе не скажу. Не сердись на меня, но я не могу иначе, честное слово, Женька, не могу.
– Почему? – спросил Синицын, становясь серьезным.
– Ну, о некоторых причинах я говорил тебе в прошлый раз. Но главного, основного я, мне кажется, тогда тебе не сказал. Понимаешь, как бы это объяснить получше… Не знаю, как ты, но я чувствую точно: втянись я в эту борьбу, и у меня уже не останется ни времени, ни энергии заниматься наукой А я хочу, чтобы мне дали возможность спокойно работать, только и всего. Больше мне ничего не надо. Понимаешь, Женька, мне кажется, я уже кое-что нащупал, последняя серия опытов…
– Ну да! – сказал Синицын с горечью. – А что творится вокруг, тебя уже не волнует.
– Волнует. Почему не волнует? Только, я думаю, нас должна прежде всего занимать наука, сама наука, а не выяснение отношений в науке. Ты вот все говоришь: бороться, бороться! А может быть, надо не бороться, а просто работать. И со временем все встанет на свои места.
– Со временем… – все с той же горечью повторил Синицын. – Да, конечно, все встанет на свои места, когда у нас уже не будет ни сил, ни желания менять что-либо, когда мы сами уподобимся Краснопевцеву, когда сами превратимся в тормоз на чьем-то пути…
– Ты мрачно смотришь на вещи. Не все же с возрастом превращаются в Краснопевцевых… Я говорю: нужно работать, Женька, нужно работать…
– Работать, приспосабливаясь к обстоятельствам? – саркастически спросил Синицын. Кажется, он уже начинал приходить в ярость.
– Да, может быть, и приспосабливаясь к обстоятельствам. Я много думал об этом и пришел к такому выводу: нужно уметь срабатываться с людьми независимо от того, как ты лично к ним относишься. Это мой принцип.
– Интересно, с каких это пор беспринципность стала выдаваться за принцип? Ты просто испугался, Костик. Ты дрожишь за свою шкуру, за свое место в этой богадельне, именуемой институтом, и еще выдаешь все это за принципиальность!
От обиды у Творогова перехватило горло. Дело было даже не в словах, которые произносил сейчас Синицын, а в том, что он старался ударить побольнее. В его ожесточенности. Как будто уже совершенно ничего не значили для Синицына их прежние отношения. Так, труха, пыль.
И все-таки Творогов сдержался.
– Я серьезно говорю тебе, – сказал он. – Я хочу спокойно работать. Мне это необходимо.
– Ну что ж, – холодно отозвался Синицын, и эта холодная твердость – как будто с чужим человеком, врагом разговаривал сейчас Женька – ранила Творогова не меньше, чем самые обидные, самые язвительные его слова. – Ничего иного я и не ждал. И не думай: свет клином на тебе одном не сошелся, обойдемся и без Творогова, в институте есть немало людей, которые меня поддерживают. Так что можешь не беспокоиться. Иди, высиживай диссертацию. Только посмотрим, чем это кончится. Время покажет, кто из нас прав.
Как ясно, как отчетливо, навсегда, на всю жизнь запомнил Творогов этот день! Он еще пытался что-то говорить, что-то объяснять, и это, конечно, была слабость, непоследовательность с его стороны: просто казалось ему невозможным расстаться вот так – почти ненавидя друг друга. Но Синицын не желал его слушать. И, наверно, к лучшему. Не уйди тогда Синицын, втянись он в новый виток выяснения отношений, и, возможно, Творогов не выдержал бы, дрогнул, возможно, все сложилось бы по-иному. И Творогов потом первый жалел бы об этом.
Синицын ушел, и Творогов остался в одиночестве.
Он долго еще бродил по зимним, морозно сверкающим улицам. Домой его не тянуло. Да и не было тогда еще у него своего дома, своей квартиры – он снимал узкую комнатушку в коммунальной квартире, на пятом этаже старого петербургского дома. Идти в это временное свое прибежище, где никто не ждал его, Творогову не хотелось. Ощущение наступившей вдруг пустоты, ощущение потери все усиливалось, все разрасталось в его душе.
Нет, он не сомневался в своей правоте. Обычно он долго колебался, прежде чем принять какое-либо решение, любая важная для него мысль, любая идея медленно вызревала у него в голове, но зато, вызревая, она постепенно завладевала им целиком. Он знал, что поступил правильно, что не мог поступить по-иному, но от этого ему не становилось легче.
Он вернулся домой, когда уже стемнело, продрогший и усталый. Возле дома он зашел в магазин и купил батон, пачку масла и два плавленых сырка. Одной рукой прижимая покупки к груди, другой он пытался извлечь из кармана квартирный ключ, но замерзшие пальцы слушались плохо. Тогда он нажал кнопку звонка.
Дверь ему открыла хозяйка, маленькая сухонькая старушка. Она заговорщицки улыбнулась беззубым ртом.
– А у вас гостья. Пришла девушка, сказала, что очень вы ей нужны, по важному, говорит, делу. Ну я – сердитесь, не сердитесь – ее и пустила.
Кто бы это мог быть? Зоя? Лена? Кто из них ощутил, почувствовал его сегодняшнее смятение?..
Не раздеваясь, Творогов быстро прошел по коридору и толкнул дверь своей комнаты. В комнате, за маленьким письменным столом, спиной к двери сидела Валя Тараненко.
Она обернулась, и Творогов увидел ее расстроенное, бледное, с явными следами слез лицо.
– Ты знаешь, что случилось? – сказала она. – Федора Тимофеевича увезли в больницу. Тяжелый инфаркт, он при смерти.
– Когда увезли? – спросил Творогов. Как будто именно это было сейчас самым важным.
– Вчера вечером.
– Я же вчера его видел… – растерянно пробормотал Творогов.
Он так и стоял перед Валей, по-прежнему прижимая батон к груди.
– Что теперь будет! Я даже не представляю, что теперь будет! – с отчаянием проговорила Тараненко.
– А откуда ты узнала? Кто тебе сообщил?
– Маргарита Давыдовна. Она позвонила мне сегодня утром и все рассказала. Оказывается, Федор Тимофеевич еще днем на работе почувствовал себя плохо, но потом отошел, был бодр, даже шутил, говорит Маргарита Давыдовна. А вечером все и случилось…
– Я же только вчера с ним разговаривал… – все с той же растерянностью повторял Творогов.
– И я… я тоже вчера его видела… Мы столкнулись с ним в коридоре, я поздоровалась… и мне еще показалось, будто он хочет меня о чем-то спросить, сказать что-то хочет… Но я торопилась, надо было успеть в библиотеку до перерыва, и я пробежала мимо… Если бы я знала!..
– Может быть, все еще обойдется, – сказал Творогов. – Может быть, все еще закончится благополучно. Бывают же случаи, я знаю…
Валя покачала головой.
– Я уже звонила сегодня в больницу. Он по-прежнему без сознания. Состояние, говорят, крайне тяжелое.
Творогов наконец положил батон и масло, и плавленые с яркими этикетками сырки на стол и стал медленно стягивать пальто. Казалось, он только теперь начал осознавать, что произошло.
Валя Тараненко подавленно молчала, но Творогов видел: что-то она еще не договаривает, что-то еще мучит и тревожит ее, она словно бы не могла решиться, колебалась – говорить или нет.
«А Женька еще ничего не знает, – подумал Творогов, и сердце его тоскливо сжалось. – Наверно, еще готовится к послезавтрашнему сражению. А сражения-то, оказывается, уже и не будет. Как странно….»
– Синицыну ты еще не сообщила?, – спросил он.
Тараненко опять покачала головой.
– Нет, – сказала она. – Нет. Я не могла. Я боялась, что не выдержу и наговорю ему что-нибудь ужасное.
Валя помолчала, глядя на Творогова глазами, полными слез.
– Знаешь, что сказала мне напоследок Маргарита Давыдовна? Она сказала: можете передать вашему Евгению Николаевичу – о н с в о е г о д о б и л с я.
Внезапно Творогов ощутил прилив ярости. Давно с ним не бывало такого. Как будто все то нервное напряжение, которое он испытывал сегодня, мгновенно сфокусировалось в одной точке.
– Боюсь, – сказал он, чувствуя, как прыгают его губы, – что за удовольствие произнести эту фразу Маргарита Давыдовна готова заплатить ценой жизни Краснопевцева.
– Костя! Как ты можешь так! – возмущенно воскликнула Тараненко. – Ты говоришь сейчас в точности, как Синицын.
Творогов и сам уже пожалел, что у него вырвалась эта фраза. Права Тараненко: подобные выпады совсем не в его духе, не в его характере.
– Да, да, это мы сами виноваты, – говорила Валя, в отчаянии ударяя кулаком о подлокотник кресла и не пытаясь уже сдерживать слезы. – Мы, мы виноваты! Разве мы не видели, что творится с Женькой? А мы уступали ему во всем, мы потакали ему! Я говорила, говорила: его надо было спасать! Его надо было спасать от самого себя! Понимаешь, Творогов, – от самого себя!
Тогда, занятый мыслями о Краснопевцеве, подавленный и растерянный, Творогов как-то не обратил внимания на эти слова, не придал им особого значения, но очень скоро ему пришлось вспомнить о них, очень скоро он понял, какой смысл вкладывала в эти слова Валя Тараненко…







