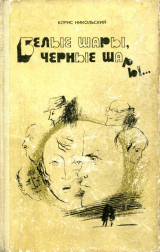
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Когда Решетников вышел из Таниного кабинета, Трифонов еще стоял в коридоре. Они молча переглянулись, и Решетников прошел мимо.
Еще минуту назад Трифонов колебался, не знал, как ему поступить. До конца рабочего дня оставалось полчаса, и он был уверен, что Решетников так и просидит эти полчаса у Тани и, значит, ждать ее бесполезно, они уйдут вместе. Он направился было к лифту, потом вернулся назад, в нерешительности топтался возле кабинета. Он всегда считал себя трезвым, рассудительным человеком, но, когда дело касалось Тани, он терял голову.
Если бы кто-нибудь в юности предсказал ему, что он, взрослый мужчина, будет вот так, как мальчишка, торчать в коридоре, вслушиваться в голоса за дверью, вздрагивать от звука шагов, сжиматься под взглядами знакомых, толковать что-то про корректуру, уговаривать себя уйти и все-таки оставаться – да неужели бы он поверил?
Было время, когда он не сомневался, что все минуло, все позади – прощайте, Таня Левандовская, будьте счастливы. Он женился на Гале, и новизна открывшихся ему чувственных отношений, о которых до тех пор он знал только по рассказам, казалось, совсем затмила воспоминания о Тане. По ночам он шептал жене, что любит ее, что она – единственная, что он счастлив, шептал так настойчиво, словно хотел уверить в этом самого себя. Но прошел год, ощущение новизны давно утратилось, и вместе с ней ушло то, что он принимал за любовь. Впрочем, семья у них была как семья, не хуже других – общие интересы, общая работа, сын – можно даже сказать, идеальная семья.
Он снова увидел Таню, когда хоронили Левандовского. Он увидел ее застывшее, бледное лицо и вдруг со страхом и радостью понял, что ничего не кончилось, ничего не изменилось. Сейчас, убитая горем, она была ему еще дороже, чем прежде. Да вели она сейчас идти за собой – и пошел бы, вели на колени встать – и встал бы!
Только даже приблизиться к ней не смел он тогда…
И началось все снова. Правда, почти год после похорон он не видел ее, письмо пробовал писать – не решился отправить. Это потом уж, позже, как только не хитрил он, чего только не придумывал, чтобы случайно попасться ей на пути, случайно встретиться. Зато какими же счастливыми были эти минуты, когда хитрость его удавалась, расчет оправдывался.
Теперь, когда Таня перешла работать в научное издательство, все сразу стало проще – трудно ли найти предлог, чтобы явиться сюда: сегодня корректура, завтра, оттиски, послезавтра рисунки для статьи…
На что он надеялся, чего добивался?.. Трудно сказать… Как будто жил он теперь двумя жизнями – одна протекала на виду у всех, вполне благополучная, значительная, весомая, с докладами, симпозиумами, заграничными командировками и прочими атрибутами успеха, а другая была тайная, жалкая, полная неуверенности и призрачных счастливых надежд. Но в глубине души он гордился тем, что у него есть эта вторая странная жизнь, которая не приносила ему ничего, кроме беспокойства и неудобств, ему приятно было сознавать, что он не утратил способности совершать несуразные поступки – в этом он видел признак своей неординарности. Боязнь заурядности всегда мучила его. «Если человек зауряден, если он только подобие, повторение прочих – зачем он?» – думал Трифонов. Галя, жена его, словно угадывала это его больное место. Сегодня в институте, не поднимая глаз от графика, который она вычерчивала остро отточенным карандашом, продолжая наносить на миллиметровку аккуратные точки, Галя вдруг сказала:
– Как удивительно все-таки устроена жизнь! Если бы пятнадцать лет назад я не поступила на биологический, сейчас бы на этом месте сидела какая-нибудь другая женщина, и ты называл бы ее своей женой, и говорил бы ей, что она единственная… И обманывал бы ее.
– Галя! – еле сдерживая раздражение, отозвался Трифонов. – Что это на тебя нашло? Иногда мне кажется, что ты просто культивируешь свое плохое настроение, носишься с ним, выращиваешь его, как выращивают в бульоне каких-нибудь бактерий.
– Остришь? Ну что ж, остри… Как ты не можешь понять, что мне и правда всегда хотелось быть для тебя единственной, исключительной, а не только женщиной, вовремя оказавшейся рядом, под рукой.
– Ты же знаешь…
– Ну да, ну да… Уж не хочешь ли ты сказать, что отыскал бы меня на другом конце света? Или хотя бы на другом конце города – в каком-нибудь бумхимсбыте или геофизснабе?.. Да ты бы и не подозревал о моем существовании!
– Галя, прости меня, но это глупость. Нелепо изводить себя подобными мыслями.
– А закрывать на это глаза лепо? Почему пока мы имеем дело с нервами лягушки, с микроскопами и электродами, мы не боимся смотреть правде в глаза, мы реалисты, мы ученые, а когда дело доходит до наших личных отношений, мы забиваем себе голову какой-то чепухой, мы укрываемся за пустыми словами…
– Хорошо, давай все сведем на уровень лягушки.
– Ты прекрасно знаешь, что я говорю не об этом.
– А о чем же? Я не понимаю, чего ты хочешь добиться? Я не понимаю, чего тебе от меня надо?
– Где уж тебе понять?
Этот разговор мог продолжаться до бесконечности. Он, в общем-то, и тянулся между ними все время – с перерывами, с вариациями, с различными оттенками, но все-таки один и тот же. Она была уверена, что не стала Марией Склодовской только оттого, что он не был Пьером Кюри.
…Уже начали распахиваться двери издательских кабинетов, уже самые нетерпеливые сотрудники – матери, спешащие за своими ребятами в детский сад, рассчитывающие по пути успеть заскочить в магазин, – устремились мимо Трифонова к лифту. И Трифонов заволновался, подобрался весь внутренне, все мысли его, все переживания сфокусировались сейчас в одной точке – как отнесется Таня к его настойчивости? Что скажет, как взглянет на него? Он и боялся и ждал этой минуты.
Таня, казалось, не удивилась, увидев его в коридоре. Только легкая досада промелькнула в ее глазах.
– Таня… – сказал он.
– Напрасно ты ждал. Я тороплюсь.
– Вот и прекрасно! – беззаботно-веселым тоном откликнулся он. – У меня времени в обрез. Ты домой? Мне тоже сегодня нужно прокатиться на Петроградскую. Бывают же еще в жизни совпадения. Особенно, если о них хорошенько позаботиться!
Он давно уже усвоил в разговорах с Таней манеру подшучивать над самим собой, эту легкую иронию, для которой не было, казалось, запретных тем.
В лифте они стояли, почти касаясь друг друга плечами, Трифонов видел в зеркале напротив их лица, совсем рядом, близко, – стоило ему чуть повернуться, и он бы задел щекой ее волосы. Ее лицо было усталым, но эта усталость делала его еще привлекательнее, печать одухотворенности лежала на нем. Молодая, красивая женщина и уверенный в себе, ироничный мужчина смотрели на Трифонова из зеркала – чем не пара, как говорили в старину, чем не пара?..
– Вот привез сегодня корректурку статьи, теперь надо тезисы готовить к симпозиуму в Праге… Если так дело пойдет, скоро можно и на докторскую прицеливаться… – рассказывал он, пока они шли к автобусной остановке, заранее зная, как наивна его попытка заинтересовать ее своими успехами.
– Что же ты, Трифонов, машину не купишь? – спросила Таня. – Тебе бы очень пошла машина. «Москвич» новой марки.
И хотя в ее голосе звучала насмешка, он обрадовался этой шутке, улавливая за ней перемену Таниного настроения.
– Не хочу закабаляться, – сказал он. – Дорожу остатками свободы. Да, честно говоря, никогда и не было у меня любви к технике. Я в детстве гайку завернуть и то не умел. Всегда почему-то она у меня вперекос шла.
– Я так и подозревала, – усмехнулась Таня.
На автобусной остановке было много народу, автобусы приходили переполненные, натужно скрипели еле раскрывающиеся двери.
– Придется пойти пешком. Ненавижу давку, – сказала Таня и, заметив, как осветилось сразу лицо Трифонова, добавила: – Только ты не ходи, не провожай меня, не надо.
Он замер в растерянности, мгновенно утратив способность действовать, как замирает человек перед надвигающейся внезапной опасностью. Не возразил, не запротестовал, не попытался удержать. Смирился. И только когда уже увидел, как уходит Таня прочь, не оборачиваясь, не оглядываясь – еще немного и затеряется, исчезнет в толпе, кинулся за ней, догнал, пошел рядом.
– Женя! – сказала она – словно на собачонку прикрикнула.
Он не отставал, шел сбоку, стараясь заглянуть ей в лицо.
– Ну, не сердись ты, Таня. Я же поговорить с тобой хотел. Мне поговорить с тобой нужно.
– О чем говорить? Что ты выдумываешь? У тебя жена, сын, у меня муж – какие могут быть разговоры!
– Таня, да при чем здесь это! Мне же ничего от тебя не надо. Только видеть тебя иногда, слышать твой голос. Я же не прошу больше… Да скажи ты мне только одно ласковое слово, мне его на неделю хватит… Пообещай, что через месяц мы встретимся, и я этим обещанием жить буду…
– Нет, Женя, нет.
– Или ты мне и думать о тебе запретишь? Думать-то ты запретить мне не можешь! Я вот сейчас один останусь, я весь этот наш разговор заново переговорю, каждое твое слово и так и этак поверну – разве тебе жалко? Или ты боишься, что нас вместе увидят?
– Еще чего мне бояться! – сказала Таня.
– Не позволишь ты провожать себя – я на тебя издали смотреть буду, я по другой стороне улицы пойду, это ты мне разрешишь?
– Боже мой, какой ты навязчивый, Женя! – сказала Таня с раздражением. – Неужели у тебя мужской гордости нет? Неужели тебе не стыдно милостыню выпаливать?
– Эх, Таня, Таня… – вздохнул Трифонов. – Вот уж верно, что сытый голодного не разумеет.
– Я же тебе сказала: не ходи, не провожай. Так ты все равно тащишься. Не выношу назойливых.
– Да если бы я назойливым не был, я бы и слова от тебя никогда не дождался!
– Ладно, довольно, Женя. Мне это действительно надоело.
– Я знаю, чего ты мне простить не можешь, – неожиданно сказал Трифонов. – Только, может быть, я и сам себе этого простить не могу.
– Оставь, Женя, это пустой разговор. Не надо.
– Я, думаешь, не догадываюсь, о чем вы сегодня с Решетниковым говорили? Я, может, оттого и ждать тебя остался, что журнальчик этот на столе заметил. Я же…
– Я не хочу разговаривать с тобой на эту тему, – сказала Таня. – И вообще, ты мне неприятен, понял? Я не хотела тебе этого говорить, ты сам вынудил. Прощай.
И она пошла дальше, уверенная, что он не посмеет догонять ее.
ГЛАВА 5По утрам Решетников особенно любил сбегать вниз по лестнице, к почтовому ящику, за газетами. Он поворачивал ключ в замочной скважине, дверца открывалась, и газеты сами падали ему в руки. От газет пахло типографской краской – иногда, казалось Решетникову, бумага еще хранила тепло печатных машин. Его всегда удивляли люди, которые могли забыть вынуть газеты или делали это вечером, возвращаясь с работы. Его обуревало нетерпение – он жаждал знать, что совершается в мире.
В это утро он не успел прочесть газеты за завтраком и просматривал их в метро, в вагонной сутолоке и тесноте.
Западный Берлин… События в Греции… Предвыборная кампания в Италии… «Я не мог больше, мне казалось, я сойду с ума…» – признания американского солдата, дезертировавшего из Южного Вьетнама. Сквозь цифры, сквозь факты, сквозь петит газетных строчек пробивается этот крик души, это отчаяние: «Я не мог больше!»
«…Лейтенант приказал поджечь деревню. Я видел, как из огня выскочил ребенок. Рубашонка на нем горела. Он бежал к лесу. Ему было лет пять, не больше. Я видел его лицо, искаженное ужасом. Лейтенант догнал его и выстрелил в затылок…»
Решетников почувствовал, как тошнота подкатывает к горлу. В вагоне было душно, пахло духами и потом, кто-то спросил его:
– Гражданин, вы выходите на следующей?
– Нет, – ответил Решетников.
«…Лейтенант догнал его и выстрелил в затылок…»
«…Ему было лет пять, не больше…»
«…Он бежал к лесу…»
И мир не рухнул, не изменился, все осталось по-прежнему. Сколько ни жил на свете Решетников, сколько ни перевидал горя, и своего и чужого, а все наивно верил, что не должна, не может жизнь продолжаться, как прежде, как ни в чем не бывало, если еще возможна на земле такая жестокость.
Он винил мир в равнодушии, сердце его требовало немедленного действия, возмездия, и в то же время он знал, что сейчас окунется в лабораторные заботы, в привычные повседневные дела и все постепенно сгладится, отодвинется, успокоится… Как смириться с этим?..
В лаборатории он начал было вычерчивать графики, обрабатывать материал, полученный на Дальнем Востоке, готовиться к семинару, но работа валилась у него из рук. Все стояло перед глазами лицо этого ребенка.
Он же спастись еще надеялся, он же к лесу в своей горящей рубашонке бежал…
«Да зачем же появилось на свет это дитя человеческое, это маленькое существо, – думал Решетников, – неужели для того только, чтобы умереть в страданиях, в ужасе?..»
Мелким, незначительным казалось ему сегодня все, чем он занимался.
Подошла Фаина Григорьевна, остановилась за его спиной.
– Митя, – сказала она. – Я вижу, вы все равно отсутствуете. Вы мне не поможете?
– Пожалуйста, – сказал он. – Что у вас?
– Я хотела вас просить… – голос у нее извиняющийся, значит, попросит о чем-то, что требует времени, – …помочь мне собрать катодный повторитель. Вам он тоже, может быть, понадобится…
Незачем сейчас заниматься этим Решетникову, и своей работы полно, но неудобно было отказывать Фаине Григорьевне. Она и так чувствует себя неловко.
– Давайте, – сказал он, – посмотрим схему. Схема у вас есть?
– Есть, есть, – заторопилась Фаина Григорьевна. – Сейчас, одну минутку. Да куда же я ее засунула? Только что здесь была. Ах ты господи, пора меня на свалку, Митя…
Она сказала это вроде бы в шутку, но шутка получилась невеселой, грустные нотки звучали в ее голосе.
Решетников и сам замечал, что все труднее работать ей в лаборатории. В общем-то, и опыты она ставила не такие уж сложные – классическая электрофизиология, измерение потенциала в нервном волокне лягушки. «Берем раствор, вымачиваем в нем нерв, пропускаем через нерв ток, результат записываем, берем другой раствор, вымачиваем в нем нерв, пропускаем через нерв ток, результат записываем, берем третий раствор, вымачиваем в нем нерв, пропускаем через нерв ток, результат записываем…» – так когда-то, еще в бытность свою аспирантом, шутливо объяснял Тане Решетников суть этих опытов. Но теперь на смену обычным электродам пришли микроэлектроды, и Фаина Григорьевна с трудом осваивала новую методику. Она терялась, чувствовала себя неуверенно, когда дело касалось электрических схем, радиотехники. Правда, обычно она старалась это скрыть, с озабоченным видом подолгу сидела над схемой, подбирала радиодетали и, даже неумело, подшучивая сама над собой, храбро бралась за паяльник, но кончалось все тем, что она шла к Лейбовичу или к Решетникову за помощью. И потом уже только наблюдала со стороны, как они возятся с лампами, сопротивлениями и конденсаторами.
Фаина Григорьевна наконец нашла схему, вычерченную на потрепанном тетрадном листке в клеточку.
– Вот, Митя, взгляните, – сказала она. – Вы уж не сердитесь на меня, что я у вас время отрываю…
– Долг платежом красен, – сказал Решетников. – Помните, Фаина Григорьевна, как на втором курсе вы объясняли мне устройство триода?
– Верно, было такое, – засмеялась Фаина Григорьевна. – Отчаянная я, оказывается, была женщина!
Решетников тогда только-только пришел в научный студенческий кружок, только-только начинал понимать, как далека работа ученого-физиолога от его школьных наивных представлений о ней! Что он знал тогда – условные рефлексы, павловские опыты на собаках, высшая нервная деятельность… Он только еще начинал догадываться, ценой какого кропотливого труда дается каждый шаг в биологии. И с удивлением обнаруживал, что даже те открытия, которые теперь известны всем и каждому, которые стали достоянием популярных брошюр и учебников, когда-то выглядели лишь как скромные доклады на конференциях или как специальные, с малопонятными названиями, статьи в научных журналах… В студенческом кружке и ставил Решетников под руководством Фаины Григорьевны свой первый самостоятельный опыт. И хотя немало воды утекло с тех пор и нынче уже давно не в диковинку Решетникову сложные спектрофотометры, осциллографы и анализаторы, он сохранил в памяти то волнение, которое охватило его, когда он увидел, как скользнул по шкале зеркального гальванометра световой зайчик…
Ободренная воспоминаниями о тех днях, Фаина Григорьевна оживилась.
– Вы знаете, Митя, когда у Василия Игнатьевича опыт удавался, он всегда благодарил сотрудников, если не удавался – винил себя. Одного он не выносил – недобросовестности, неряшливости. «Учитесь у природы, – любил говорить он. – Возьмите обыкновенный лист дерева, или кристалл слюды, или живую клетку. Посмотрите, каким добросовестным мастером все сделано. Природа не терпит недобросовестности». В этом отношении он был как ребенок. Он мог восхищаться устройством клетки, как будто видел ее под микроскопом впервые. И это его восхищенное изумление передавалось нам всем.
Решетников слушал ее вполуха, рассматривал схему, прикидывая, с чего лучше начать. Запах канифоли, работа с паяльником всегда действовали на него успокаивающе, и сейчас он уже начал успокаиваться, отвлекаться, когда его взгляд упал на тонкую белую ниточку – нерв, упрятанный за стекло, приготовленный Фаиной Григорьевной для опыта. И между этой беззащитной в своей обнаженности крошечной частицей живой ткани и тем, что мучило его сегодня с утра, чудилась ему какая-то странная, едва уловимая связь. Здесь, в своей лаборатории, они бились над тем, чтобы понять тончайшие процессы, протекающие в живой клетке… Живая клетка, живой организм… Ж и в о е…
«Лейтенант догнал его и выстрелил в затылок…»
– Митя, ты что, не слышишь? Да оторвись ты на минуту от своего паяльника! – прокричал, заглянув из коридора, Лейбович. – К нам едет ревизор, а ты ноль внимания!
Решетников выключил паяльник.
– Брось свои шуточки, – сказал он.
– Хороши шуточки! Алексей Павлович только что предупредил: чтобы завтра вое были на месте – придет комиссия из райкома.
– Это ты серьезно? – подозрительно спросил Решетников. Лейбович и разыграет – недорого возьмет.
– А то нет. И знаешь, чьих это рук дело? Не догадываешься? Андрея Новожилова. Борода настрочил письмо в райком.
– Не может быть!
– Может, еще как может! Мы, оказывается, недооценивали принципиальность этого товарища. Исходит он из трех тезисов: во-первых, в лаборатории неправильно подбираются кадры; во-вторых, заведующий не заботится о том, чтобы лаборатория своевременно получала необходимые приборы и реактивы; в-третьих, его, новожиловской, теме не уделяется того внимания, которого она заслуживает и которое ей уделял покойный Левандовский…
– Ясно, – сказал Решетников.
А что ему было ясно? Да ничего не ясно. Никак не укладывалось у него в голове, что решился Андрей на такой шаг. Ни с кем не посоветовался, не поговорил, как будто и не работали они столько лет вместе, бок о бок…
– Я, главное, сейчас его спрашиваю, – продолжал Лейбович, – зачем ты это сделал? Неужели ты не соображаешь, что комиссия, как твою бороду увидит, сразу поймет, что за такой бородой только злопыхатель может укрываться. Простому советскому человеку такая борода ни к чему. Тебя же, говорю, и попрут из института. Ничего не отвечает. Обиделся. Молчит.
Оставшиеся полдня лаборатория жила неожиданной новостью. Алексей Павлович был спокоен, но нетрудно было догадаться, каково ему сейчас. Молча страдала Валя Минько. Нервничала Фаина Григорьевна.
– При Василии Игнатьевиче он бы никогда не посмел… – говорила она. – А тут пользуется… Это же, в конце концов, просто непорядочно… И так кое-кто в институте нашу лабораторию обузой считает – мол, открыли ее ради Левандовского, а Левандовского теперь нет, вроде бы и лаборатория ни к чему… А тут еще Андрей масла в огонь подливает…
Из комнаты, где работал Новожилов, доносился высокий, воющий звук. Это выводила свою однотонную песню включенная центрифуга. Проходя по коридору, сквозь приоткрытую дверь Решетников видел Андрея и его лаборанта. Оба были погружены в работу. И на лице Андрея Решетников опять прочел то самое выражение, которое поразило его в день приезда, во время чаепития, – смесь мученичества и упрямства…
Незадолго до конца дня Решетников заглянул в изотопную, где обычно работала Рита. И хотя он знал, что сегодня Риты не должно быть, что сегодня она работает в своем институте, не мог он на всякий случай не заглянуть сюда, не навестить эту комнату, где привык видеть Риту.
На столе, холодный и громоздкий, возвышался гамма-счетчик. Возле него были небрежно брошены листки бумаги. Колонки цифр, записанные торопливой рукой, перечеркнутые, снова записанные рядом, уже в ином порядке… Решетников сразу узнал Ритину руку.
Как-то он сказал Рите, что у нее мужской характер.
– Да? – обрадовалась Рита так, как будто услышала бог весть какую похвалу.
– Во всяком случае, в том, что касается работы, – добавил Решетников.
И правда, Рите, пожалуй, не хватало той старательности, добросовестной исполнительности, которой отличались Валя Минько и Фаина Григорьевна. Она могла бросить опыт, не доведя его до конца, если он казался ей бесперспективным. Могла записать результат на каком-нибудь обрывке и потом благополучно потерять его. Могла, совсем как Сашка Лейбович, не дорожа уже проделанной работой, увлечься вдруг новой идеей.
Решетников поднял листок, исписанный Ритиной рукой.
Думает ли сейчас она о нем? Чувствует ли, что он вспоминает ее?
После работы, прямо из института, Решетников отправился к ней в гости. До сих пор ни разу не был он дома у Риты. А тут вдруг решился.
Возле Технологического института он забежал в магазин и купил торт, шоколад и яблоки. Около станции метро пожилые женщины торговали цветами, и он выбрал букет астр.
Решетников любил делать подарки. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем возможность появиться этаким добрым волшебником, дедом-морозом со сказочным мешком за плечами. Не оттого ли жила в нем эта страсть, что с подарками у него было связано воспоминание о самой дорогой ему и такой далекой, так быстро прервавшейся поре его жизни – о довоенном детстве?..
Так, с тортом и букетом в одной руке, с портфелем – в другой, со свертками, рассованными по карманам, он и появился на маленькой, тихой улице.
Сколько раз проходил или проезжал он прежде мимо этой улочки, сколько раз скользил равнодушным взглядом по облупившимся фасадам старых домов – и ничто не задерживалось в его памяти, она оставалась для него лишь одной из безвестных ленинградских улиц, ничем не примечательной, не пробуждающей в душе никаких воспоминаний. Но вот появилась Рита, и улочка вдруг преобразилась. И тишина, которая царила здесь, и старые фасады, и глубокие подворотни, ведущие в мрачные петербургские дворы, откуда веяло прохладой и сыростью, и мансарды, окошки которых смотрели через улицу друг на друга, – все внезапно приобрело свой смысл и свое очарование. Сентиментальным он становился, что ли. Только все чаще, увидев иной раз в сквере выбравшуюся на солнце древнюю старушку, в каком-то чепце не чепце, салопе не салопе, с морщинистым лицом, беспомощную, Решетников чувствовал, как сжимается его сердце от мягкой печали и сострадания. И теперь почти то же самое чувство вызывала у него эта улочка. Улица перестала быть похожей на другие, и даже название ее нравилось произносить Решетникову.
Редкие прохожие косились на торт и цветы в его руке – обычно в таких случаях испытывал Решетников неловкость, смущение, словно все самое сокровенное открывалось вдруг посторонним взглядам, словно кричал он всем и каждому: смотрите, я иду на праздник, на свидание к любимой женщине! – но сегодня ему было не до этого. Он был занят другими мыслями.
Почему Рита до сих пор ни разу не пригласила его в гости? Как отнесется она к его нежданному появлению? Что скажет?
По узкой, крутой лестнице он поднялся на пятый этаж. Нажал кнопку звонка и замер в ожидании. Тишина в коридоре, нет, вот, кажется, кто-то идет, и сердце заколотилось, запрыгало, и улыбка – почувствовал – возникает сама собой на лице, но шаги отшуршали равнодушно, и опять тишина за дверью. Да что же это такое! Еще и еще надавил он черную кнопку. И когда уже окончательно отчаялся, смирился – услышал за дверью торопливые шаги. Рита!
Видно, она только что стирала, руки ее были мокры и распарены, возле локтей искрились и тихо лопались остатки мыльной пены. Скуластое лицо ее раскраснелось, короткие завитки черных волос беспорядочно упали на лоб. Домашний халатик ее слегка раскрылся, и из-под него выглядывала незагоревшая полоска тела над грудью.
Увидев Решетникова, Рита ахнула и густо, до слез, покраснела. Еще никогда не видел Решетников ее такой смущенной.
– Митя, да разве можно так! Неожиданно, без предупреждения! Да не смотри на меня – видишь, какой у меня вид…
Ее смущение передалось и Решетникову – будто и правда сделал он что-то предосудительное.
– Да что же мы стоим! – спохватилась Рита.
Она повела его за собой, они прошли по длинному коридору, какие бывают только в ленинградских коммунальных квартирах, мимо бесконечного количества дверей, шкафов, велосипедов, тазов, корыт и прочей утвари, мимо кухни, откуда тянуло запахом жареного лука и доносилось шипенье и бульканье, и оказались наконец в узкой комнате, тесно заставленной мебелью.
В комнате за столом сидел мальчик и рисовал. Он с интересом, доверчиво посмотрел на Решетникова.
– Сережа, познакомься с дядей Митей, – сказала Рита. – Дядя Митя недавно приехал с Дальнего Востока, там он ловил кальмаров. Я рассказывала тебе о нем.
Говоря, она двигалась по комнате и быстро наводила порядок – убрала с кушетки Сережкину рубашку, расправила скатерть, переставила стулья.
– Мама, этот стул ломаный, – сказал вдруг Сережа. – Дядя Митя, с него запросто свалиться можно…
Рита засмеялась коротким, нервным смехом.
– Да, у нас не на каждый стул можно садиться без опаски…
Это и верно были старые, видно, сохранившиеся с довоенных времен венские стулья – с круглыми сиденьями и гнутыми спинками. И вся комната была обставлена случайными вещами – как будто кто-то свез сюда без всякого разбора остатки мебели из большой квартиры: старинная этажерка соседствовала с продавленной и аккуратно застеленной клетчатым пледом кушеткой, которая прижималась к большому шифоньеру, потускневшее зеркало от трельяжа стояло на тумбочке, прислоненное к стене… И всюду, где только можно, – на этажерке, на кушетке, на шифоньере – лежали книги, стопки журналов, снова книги и снова журналы…
Когда зашел разговор о стульях, Рита опять густо покраснела, и Решетников вдруг понял причину ее почти болезненного смущения. Она стыдилась этой невзрачной обстановки, стыдилась этой узкой комнаты, этого коммунального коридора с его тазами, корытами и запахом горелого лука… И в то же время Решетников знал: покажи он сейчас, что догадался о причине ее смущения, попытайся убедить ее, что нельзя так переживать из-за подобных вещей, он бы сделал еще хуже. И, словно угадав его мысли, словно оправдываясь, Рита вдруг сказала:
– Это все бабушкино наследство. Меня ведь бабушка приютила, когда я с родителями поссорилась. Она умерла скоро – как раз в год Сережкиного рождения, а мы так здесь и остались… Ну ничего, скоро мы с Сережкой накопим на кооператив и тогда будем жить, как цари. Правда, Сережка?
И хотя она обращалась только к сыну, в голосе ее Решетников уловил скрытый вызов, словно она спорила с кем-то невидимым, кого не было сейчас здесь, в комнате. С кем? С родителями? Или с т е м человеком, отцом Сережки?.. И так ли уж не играет он в ее жизни никакой роли, как уверяла она? Первый раз Решетников поймал себя на этой мысли.
– Мужчины, вы пока поговорите, а я хоть переоденусь. – И опять коротким, нервным смешком пыталась она скрыть смущение. – Митя, не оборачивайся.
Она скрылась за дверцей шкафа, а Решетников подошел поближе к Сереже.
– Что же ты рисуешь? – спросил он.
Наклонившись над столом, чтобы лучше рассмотреть рисунок, он слегка обнял мальчика и сквозь рубашку ощутил под своей ладонью угловатые мальчишеские лопатки.
– Я космос рисую, – сказал Сережа. – Видите: корабли летят к звездам.
– Интересно! – сказал Решетников.
Спирали звездных туманностей клубились на бумажном листе, бушевали космические ветры, взрывались астероиды, и сквозь этот хаос летел крошечный красный снаряд-кораблик.
– А вы мне теперь будете рассказывать разные истории? – спросил Сережа и поднял на Решетникова большие серые глаза.
– Какие же истории?
– Фантастические. Я всякую фантастику люблю.
– Теперь он тебя замучает, – сказала Рита. Она уже успела сменить халатик на платье, и волосы у нее были причесаны, и губы слегка подкрашены.
– Сережа – он весь в меня. Я, знаешь, в школе как получу новый учебник, так весь его, вперед на год, обязательно прочту еще до того, как пойду в свой класс… И Сережка так же. Он у меня уже за пятый класс задачки решает. А ты, Сережа, не слушай, когда тебя хвалят. Лучше пойди поставь чайник. Будем поить дядю Митю чаем.
Сережкино лицо сразу приняло озабоченное, хозяйское выражение, он сначала открыл шкаф, деловито заглянул в сахарницу, потом взял чайник и направился к двери. Едва дверь за ним закрылась, как Решетников обнял Риту за плечи, прижался щекой к ее щеке.
– У, колючий… – услышал он ее ласковый шепот.
– Ты не сердишься, что я пришел?
Они целовались поспешно и нетерпеливо, и Рита шептала:
– Не надо, Митя, не надо, сейчас Сережка войдет… – И сама опять тянулась к нему.
Когда вернулся Сережа, она уже успела поправить слегка растрепавшиеся волосы и Решетников уже стоял на почтительном расстоянии от нее, но то ли по лицам их, то ли по смущенному молчанию угадал мальчишка, что без него что-то произошло между ними. Почувствовал, что не зря отсылали его на кухню, и страдал теперь от этого неожиданного обмана, от этого маленького предательства.
Решетников, тронутый этой детской растерянностью, этой мальчишеской чуткостью, притянул Сережку к себе, полушутливо, боясь обидеть его излишней нежностью, потрепал по голове. И мальчик вдруг приник к нему, прижался, словно только и ждал этого мгновения, этой ласки, но тут же, застыдившись, видно, своего порыва, отстранился и сказал:
– Дядя Митя, а когда вы в школе учились, вас дразнили как-нибудь?
– Конечно, – сказал Решетников. – Решетом звали. А тебя что, дразнят?
– Нет, – ответил Сережа, но по глазам Решетников видел: неправду сказал, не хочет признаваться.
Странно, но еще до того, как увидел он Сережку, он уже испытывал привязанность к этому мальчишке. И Рита как будто становилась ему ближе, роднее оттого, что у нее был сын. И представить он уже не мог ее без Сережки. Ему нравилось смотреть на ее лицо, когда освещалось оно материнской лаской и гордостью. А может быть, оттого так внезапно потянуло его к этому мальчишке, что просыпалось в нем нерастраченное чувство отцовства, что пора уже было иметь ему своего сына, своего маленького Решетникова. Или сказывалось, давало о себе знать собственное горькое военное детство, и чувствовал он в Сережке родственную душу, застенчивую и легко ранимую?..







