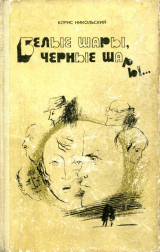
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Решетников медленно перебирал карточки – названия статей, фамилии авторов, сжатый конспект. Это было его богатство, его гордость – сотни карточек, все, что писалось учеными мира по тем проблемам, которые занимали его, Решетникова. Он прикасался к ним почти с тем же чувством, с каким филателист берет в руки свои альбомы или нумизмат дотрагивается до собранных за долгие годы монет.
Некоторые из карточек он вынимал и откладывал в сторону. Сейчас те статьи, те факты, которые он еще совсем недавно стремился опровергнуть, которыми порой попросту пренебрегал, считая их заведомо ошибочными, приобретали для него особое значение.
Решетников помнил, как в детстве, когда они вместе с отцом ходили в Дом занимательной науки и техники – был до войны в Ленинграде такой дом, – его особенно поразил один несложный фокус. В комнате гасли лампы, и на стене под ярким лучом света, бившим из проектора, возникало изображение – набережная Невы, гранитные парапеты, Адмиралтейство, но вот луч света менялся, становился красным, и тут же менялось изображение – на том самом месте, где только что Решетников видел набережную, теперь перед его глазами был Казанский собор, и скверик перед ним, и скульптурные фигуры Барклая де Толли и Кутузова… Так и сейчас – ничем не изменились эти карточки, исписанные его мелким почерком, остались точно такими же, какими были раньше, но словно упал на них иной луч света, и иной смысл обрели они для Решетникова.
Не раз Решетников задумывался: отчего это так часто, размышляя о своей работе, он обращается к детским ассоциациям, к воспоминаниям детства?.. Может быть, оттого, что эти детские воспоминания были особенно ярки, особенно сильны, оттого, что его довоенное детство оказалось отрезанным войной от всей остальной его жизни, осталось настолько дорогим и заповедным для него, уже взрослого, что не могло не запечатлеться навсегда в его памяти…
Внезапно Решетников почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Он обернулся и – вот так неожиданность! – увидел Таню Левандовскую.
Больше никого сейчас не было в комнате, наступил обеденный перерыв, все удалились пить чай, а он отказался, остался один, не хотел отрываться от работы и вот даже не услышал, как вошла Таня.
Первый раз она появилась здесь, у них в лаборатории, первый раз. Но такой уж был у нее характер, что где бы она ни появлялась, куда бы ни входила, она умела входить уверенно и независимо, как будто не сомневалась, как будто была убеждена, что ее ждут.
– Привет! – сказала она весело. – Теперь я вижу, что значит быть погруженным в науку. Пять минут уже стою у тебя за спиной, а ты даже не оглянешься… Я тебе не помешала?..
– Нет, что ты! – сказал Решетников.
Конечно, она была уверена, что он ответит именно так. А его, как и прежде, как в юности, в первые минуты встречи с Таней охватывало чувство растерянности, какая-то оцепенелость вдруг нападала на него. Никак не мог он избавиться от этого чувства.
– А я, знаешь, на днях прочла заметку Глеба о том, как вы здорово здесь работаете, как развиваете папины идеи, и вдруг устыдилась, что сама ни разу не была у вас в лаборатории. Вот и пришла. Да и посоветоваться мне с тобой надо. Ты что, чем-то недоволен?
– Нет, почему ты решила? – сказал Решетников.
«Вот уж не вовремя вылез Первухин со своей заметкой, – подумал он. – Совсем ни к чему нам сейчас эта слава».
Его удивило, отчего Таня назвала Первухина по имени, вроде бы никогда не была она с ним близко знакома.
– Разве ты знаешь Первухина? – спросил он.
– Знаю, – сказала Таня. – Или вы, сударь, думаете, что я уже стала отшельницей, вроде вас? Нет. А Глеб ведь пробует сейчас писать рассказы, пьесы пишет, странноватые, правда, что-то похожее на театр абсурда, но все-таки любопытно. У него есть друзья – молодые поэты…
– Разумеется, непризнанные? – сказал Решетников.
– Я не понимаю твоей иронии, – вдруг рассердилась Таня. – Да, непризнанные, ну и что же? С ними любопытно. Мы тут собирались однажды, слушали их, спорили…
«Это уже что-то новое», – подумал Решетников.
– А как твой муж на это смотрит? – спросил он вслух.
Он и сам сразу пожалел, что вырвались у него эти слова, глупо, конечно, было с его стороны задавать такие вопросы. Не смог сдержаться, не показать раздражения – слишком неприятно задел его этот неожиданный Танин интерес к Глебу Первухину и его приятелям.
– Муж? – переспросила Таня. – А что муж? Я, к вашему сведению, вполне суверенное государство. Скажи, Решетников, – добавила она уже серьезно, – у тебя никогда не бывало такого чувства, будто ты в чем-то немножко вроде бы обманут, будто твоя настоящая жизнь как бы и не начиналась еще вовсе, что ты еще только начнешь жить по-настоящему, что все впереди? А на самом деле – впереди то же самое. В юности мне казалось, что моя жизнь будет какой-то особенной, насыщенной, яркой. Стихи, музыка, интересные знакомства, встречи с необыкновенными людьми… Может быть, я была избалована с детства, может быть, это оттого, что отец мой был человеком редкого характера, редкой индивидуальности… И окружали его такие же люди. А потом, после папиной смерти, после моего замужества, все изменилось. Все словно пошло по кругу: служба, домашние заботы, телевизор, кино, гости… Ты знаешь, я иногда завидую таким людям, как мой отец, как ты. Ты всегда знал, чего хочешь. Работа для тебя главное. И сейчас вот я стояла за твоей спиной, смотрела, как ты погружен в свои карточки, и тоже завидовала тебе. Я так не умею. Впрочем, что это я разнылась сегодня перед тобой, ты не знаешь, Решетников? Я ведь совсем не для этого сюда пришла.
– Ты преувеличиваешь мои достоинства, – сказал он. – Может быть, я смотрел в карточки, а думал совсем о другом. Допустим, о тебе.
– Не ври, Решетников, – сказала Таня. – У тебя это никогда не получалось. Ты давно уже не думаешь обо мне, ты даже не позвонишь никогда.
«Сейчас она спросит: как опыты?» – подумал Решетников. А что он мог ответить? Он видел, что что-то нарушилось, что-то не ладится в ее жизни, ему хотелось утешить и приободрить ее, но что он мог сейчас сказать ей?
Но она не спросила. Видно, вполне достаточно было ей заметки Первухина. Да и с чего бы ей сомневаться, что все у них идет так, как надо?..
– Я тут разбирала папин архив и принесла тебе кое-что посмотреть – может быть, тебе будет интересно. И посоветоваться с тобой хочу: может, что-нибудь из этих материалов стоит поместить в сборник?
Она открыла небольшой портфель и достала оттуда пачку тетрадей и блокнотов, аккуратно перевязанную бечевкой. И Решетников бережно принял из ее рук эти тетради.
– Кстати, будь моя воля, я бы в этом сборнике обязательно напечатала письмо Трифонова. По-моему, это выразительнее всяких воспоминаний. И поучительней.
– Ты ответила ему? – спросил Решетников.
Таня покачала головой.
– Нет, – сказала она. – На такое письмо надо либо отвечать таким же, либо промолчать. Я предпочла последнее. Кстати, мне кажется, ему действительно хотелось, чтобы ты его прочел тоже. Он не случайно написал об этом. Да вот оно. Почитай, хотя бы отсюда. Мне тоже интересно знать твое мнение.
Решетников нехотя взял несколько густо исписанных листков бумаги.
«…Вообще, с точки зрения рассудка, логики, с точки, зрения нормального человека, это письмо мое, эта исповедь, это желание непременно поведать тебе о самом сокровенном, даже постыдном, что, может быть, лишь оттолкнет, испугает тебя, – необъяснимо, лишено смысла…» – читал он.
Рытвин, разговор в деканате… Да, да, наверно, все так и было тогда, Трифонов ничего не выдумывает.
Решетников читал письмо и ощущал, как полузабытое чувство охватывает его – чувство, которое он испытывал давно, еще в школьные годы, приходя в маленькую, узкую комнату, где жил Трифонов с матерью, – точно становился он невольным свидетелем того, что тщательно оберегалось от чужих глаз, что не положено было ему видеть.
– Нет, – сказал он, возвращая листки Тане. – Не могу. Такие письма пишутся только для одного человека.
– Но он же сам хотел!
– Это ничего не значит, – сказал Решетников. – Он ведь и в письме этом самим собой остается. Он любуется своей искренностью, своей способностью вывернуться наизнанку перед другим человеком. В конечном счете, исповедь – это почти всегда слабость, малодушие. Это надежда на то, что можно снять груз со своей совести и разделить его с другим человеком.
– Мне кажется, ты слишком суров к Трифонову, – сказала Таня.
– Не знаю, – ответил Решетников. – Может быть. Правда…
– Что – «правда»?
– «Послушный мальчик» – это он, пожалуй, очень точно сказал о себе. Только он в этом оправдание ищет, а какое же тут оправдание? У него все виноваты – время, обстоятельства, люди, он один ни при чем.
«Послушный мальчик»… – повторил Решетников задумчиво. – Мне всегда казалось, что это самый опасный сорт людей. Это по их плечам поднимаются вверх подлецы, подобные Рытвину.
– Но ведь теперь он понял это!
– Понял? Просто нынче уже не нужны «послушные мальчики», они упали в цене, не то время. Мы научились ценить самостоятельное мнение. Вот твой Трифонов и мечется.
– Он такой же твой, как и мой, – сердито сказала Таня.
Она еще что-то хотела добавить, но тут в комнате появилась Валя Минько и сразу бросилась к Тане:
– Танечка, как давно я тебя не видела, вот молодец, что зашла к нам!
Слух, что здесь Таня Левандовская, моментально разнесся по лаборатории, и все, кто знал, кто помнил ее, стали стягиваться в комнату к Решетникову. Впрочем, и те сотрудники, кто не был знаком с ней, тоже явились сюда – всем было интересно взглянуть на дочь Левандовского. Пришел и Алексей Павлович, старомодно склонился и поцеловал ей руку. Таня и ему сообщила, что читала заметку Первухина.
– Стараемся, – шутя сказал Алексей Павлович.
– Я рада, что вы не забываете моего папу, – сказала Таня.
– Как же мы можем его забыть! – говорил Алексей Павлович. – А вот вы нас что-то совсем забыли…
Он растрогался от этой неожиданной встречи. Да и как ему было не растрогаться – он помнил Таню еще совсем маленькой девочкой, именно тогда начиналась его совместная работа с Левандовским. Он неумело старался скрыть эту свою растроганность и оттого выглядел сейчас смущенным и растерянным.
Наверно, Таню еще долго не отпускали бы из лаборатории, но она сама вдруг заторопилась, сказала, что влетит ей в издательстве за столь долгое отсутствие, стала прощаться.
Решетников пошел проводить ее, и, когда они, миновав узкий коридор, стали вдвоем спускаться по лестнице, Таня сказала:
– Помнишь, в тот вечер, когда мы встречали папу, он сказал, что хотел бы написать сказку…
– Помню.
Еще бы он не помнил! Каждая подробность того вечера, последнего вечера, когда он видел Василия Игнатьевича, врезалась ему в память.
– Оказывается, папа и правда пробовал писать. Я никогда не знала об этом. А тут стала просматривать его записи и натолкнулась… Да ты сам увидишь. Такая обыкновенная общая тетрадь в серой обложке. Она тоже там, в той пачке.
– Ты сегодня какой-то странный, Решетников, – неожиданно сказала она немного спустя. – Устал, что ли? Или что-то скрываешь от меня? Или я на тебя нагнала тоску своим нытьем? В чем дело, Решетников?
Все-таки почувствовала, уловила она его настроение!
– Ты права, я, пожалуй, немного устал за последнее время, – сказал он.
Они спустились в гардероб, Решетников подал ей пальто, и Таня, уже прощаясь, протягивая ему руку, спросила весело:
– Хочешь, я тебе дам один умный совет, Решетников? Не вздумай жениться без любви – понял? Можно уговорить, убедить, обмануть себя, но потом все равно приходится расплачиваться…
Она произнесла это с шутливой беззаботностью и так и ушла, унося на лице веселую улыбку. Почему не остановил он ее, не удержал, не попросил: да расскажи ты толком, что с тобой происходит! Тоже улыбался, тоже разыгрывал беззаботность – боялся задеть ее гордость, боялся обидеть своим сочувствием.
Он вернулся в лабораторию и заставил себя снова погрузиться в чтение карточек – название статьи, фамилия автора, краткое содержание… Конечно, ему не терпелось поскорее взглянуть, что же принесла Таня, что таилось в этих перевязанных бечевкой тетрадях, которые когда-то раскрывал Левандовский, но он все-таки выдержал характер и только вечером, уже дома, осторожно развязал толстую пачку.
Здесь были и фотографии, и несколько писем, и типографские оттиски с пометками, сделанными на полях рукой Левандовского, и блокноты с набросками статей, с беглыми записями – что-то вроде рабочих дневников, и тетради с описанием задуманных опытов, со схемами и рисунками… Большинство из этих статей было опубликовано. Решетников хорошо знал эти статьи, и сначала он даже испытал некоторое разочарование оттого, что они не были для него новостью, открытием, находкой. Наверно, Таня думала, что нашла работы, которые отец не успел напечатать при жизни, а на самом деле это были только черновики его последних статей. Но постепенно, просматривая их, Решетников увлекся – его интересовали сейчас уже не сами статьи, а поправки, внесенные рукой Левандовского, фразы, которые были им вычеркнуты, знаки вопроса, поставленные на полях, торопливо набросанная схема… По рисункам на полях – чаще всего это были домики, такие, какие рисуют обычно дети, с двумя окошками и трубой, из которой валил курчавый дым, – Решетников угадывал, где Левандовский останавливался в раздумье, по кратким замечаниям, тоже вынесенным на поля, видел, что́ вызвало у него сомнения, что́ считал нужным он проверить лишний раз. Только внимательно вглядевшись в эти черновики, Решетников стал догадываться, что, пожалуй, вовсе не случайно именно их принесла ему Таня. Эти рукописи были ж и в ы м и, по ним он мог уловить ход мысли Левандовского, почувствовать, ощутить и его сомнения и его надежды.
Он вдруг заволновался. Может быть, именно здесь отыщет он намек на то, что Левандовский допускал правомерность тех выводов, к которым теперь пришел он, Решетников. Пусть никогда не говорил он об этом вслух, но в черновиках, наедине с собой – разве не мог Левандовский размышлять о возможности иного пути?
Теперь Решетников только боялся, что вдруг среди этих тетрадей не окажется черновиков как раз тех статей, которые особенно важны сейчас для него.
Но ему повезло. Черновики были. В одном из блокнотов он наткнулся на столбики цифр – они были аккуратно выведены, вероятно, рукой лаборанта, а слева от них уверенно и размашисто – были поставлены три восклицательных знака. Торжество человека, одержавшего победу. Да и с чего, собственно, он, Решетников, вообразил, что Левандовский должен был сомневаться в своих выводах? Разве он стал бы тогда так горячо их отстаивать, разве стал бы так за них бороться?
«Ах, черт!» – Решетников вдруг разозлился на самого себя. Он все время надеялся на какое-то чудо, он искал оправдания, словно был в чем-то виноват перед Левандовский. Но в чем? Разве сам Левандовский стал бы колебаться, окажись он сейчас на месте Решетникова?..
Машинально, все еще продолжая думать о своем, Решетников раскрыл следующую тетрадь – тетрадь в серой мягкой обложке – и прочел:
ГЛАВА 14«Может быть, это покажется странным, но я все чаще задаюсь весьма наивным для моих лет вопросом: почему для человека так важно, какая память останется о нем на земле, почему человек так стремится хоть что-то оставить людям?..»
«…Может быть, это покажется странным, но я все чаще задаюсь весьма наивным для моих лет вопросом: почему человеку так важно, какая память останется о нем на земле, почему человек так стремится хоть что-то оставить людям?..
Я часто думаю, что за теми грандиозными преобразованиями, социальными переменами, которые принесла нам социалистическая революция, революция масс, куда более незаметной оказалась другая революция – революция, которая совершилась в сознании, в душе человека. Впервые в своей истории человек отказался от веры в бессмертие, от надежды, что жизнь его еще продлится за земными пределами, впервые трезво и отважно взглянул в лицо правде, впервые признал, что его жизнь – это только бесконечно малая величина в океане времени. И не ужаснулся, не впал в отчаяние, не застыл в бессилии перед неизбежностью, а, наоборот, стал сильнее, деятельнее, активнее, стал еще больше ценить тот крошечный отрезок времени, который называется человеческой жизнью. Какие же огромные жизненные силы вложила природа в человека, если, даже сознавая конечность своего бытия, сознавая, что никогда не сможет увидеть, узнать, что же будет на земле после него, он, этот смертный человек, так страстно стремится передать тем, кто придет вслед за ним, частицу своей души, своих мыслей, своего сердца… Ведь жизнь наша способна продолжаться еще какое-то время и без нас, уже после нашей смерти, продолжаться, пока нас помнят, пока о нас думают, продолжаться в тех вещах, которые сделаны нашими руками, в тех мыслях, которые высказаны нами… И не отсюда ли, кстати, эта тяга к писательству, вдруг возникающая у людей самых разных возрастов и профессий, – не скрывается ли за этой тягой желание сохранить то, чем ты жил, что было для тебя важно, что было твоей е д и н с т в е н н о й жизнью?..»
Сколько раз при жизни Левандовского встречался с ним Решетников, сколько раз говорил с ним – но всегда о делах, об опытах, о работе. Казалось тогда Решетникову – заговори он с Василием Игнатьевичем о чем-нибудь постороннем, не имеющем прямого отношения к их работе, к науке, и профессор взглянет на него с удивлением и недовольством – стоит ли, мол, зря терять время? Да и не отважился бы никогда Решетников заговорить о подобных вещах первым: слишком велика, представлялось ему, была между ними разница – и в возрасте, и в положении, и в жизненном опыте. А теперь, читая страницы этого дневника, он жалел, что никогда так и не возникло между ними откровенного разговора. И наверно, он, Решетников, со своей замкнутостью, со своей сдержанностью, которой он всегда так гордился, был виноват в этом…
«…Сегодня на даче познакомился с писателем К. Когда-то, в дни моей молодости, он был весьма популярен, и о его книгах шли яростные споры. Теперь он почти забыт. Откровенно говоря, я даже думал, что он давно уже умер.
Он расцвел и обрадовался, как ребенок, когда узнал, что я хорошо помню его книги. Мы с ним долго гуляли, разговаривали, он показался мне человеком, не лишенным желчного остроумия, много видевшим и много пережившим. Мы говорили с ним о д в и ж е н и и в р е м е н и, и он высказал немало интересных и остроумных наблюдений. Но – что поразительно – он совершенно терял ощущение реальности, когда речь заходила о его собственной литературной судьбе. Во всем он винит издателей, редакторов, критиков и высмеивает их, надо сказать, довольно ядовито. Странно, но человек, оказывается, скорее склонен примириться с мыслью о неизбежности собственной смерти, чем с тем, что его идеям, работам, книгам тоже отмерен определенный срок…»
«…Встреча с профессором Никитиным.
Мы с ним старые противники, но, мне кажется, оба испытываем искреннюю симпатию друг к другу. Этот маленький, юркий человек действует на меня, как катализатор.
Сегодня он сказал мне:
– Даже если мы оба окажемся не правы, наша заслуга будет состоять в том, что мы своими спорами привлекли внимание к тем проблемам, о которых спорили.
Мудро. И главное – весьма утешительно».
«…Получил приглашение из ГДР. Просят прочесть доклады о моих последних работах. Мне кажется, я никогда не отличался особым честолюбием, но все-таки приятно, что меня опять начали вспоминать».
«…Вчера пришли оттиски из Англии. Там немало ссылок на мои старые статьи по вопросам клеточного возбуждения и повреждения. А у меня такое чувство, словно те статьи писал не я, а кто-то другой, хотя именно они принесли мне и наибольший успех и признание. Я сказал об этом П. Л., и милейший Петр Леонидович сразу сел на своего любимого конька.
П. Л. считает, что мне не нужно было заниматься проницаемостью. Он говорит, что наши работы по возбуждению и повреждению общепризнаны, стали классическими (это его выражение), и потому надо было продолжать работать в том же направлении. Сейчас, мол, не время браться за спорные теории и рисковать авторитетом.
Интересно, а когда, по его мнению, оно, это время, наступит? Сейчас е щ е не время, потому что лаборатория еще не открыта, потом – уже не время, потому что лаборатория уже открыта, нельзя ставить ее под удар, причины всегда найдутся…
Чепуха! Авторитетом рискует тот, кто, боясь ошибок, перестает двигаться. Кто больше печется о собственной непогрешимости, чем о науке.
Да если бы я и захотел, я, пожалуй, уже не смог бы сейчас отказаться от начатой работы. Слишком глубоко она во мне сидит, слишком важна для меня…
В общем, разошлись мы с П. Л. очень недовольные друг другом».
«Они спорили о том же, о чем теперь спорим мы», – подумал Решетников. А он-то, по своей наивности, был убежден, что, окажись сейчас жив Василий Игнатьевич, и не было бы никаких разногласий в лаборатории.
«…Сегодня читал лекцию в Доме культуры. Я не очень охотно соглашался на эту лекцию – уж слишком общий, просветительский характер она должна была носить, но сегодня, выступая, увлекся сам и, кажется, сумел увлечь, задеть за живое своих слушателей.
Мы часто испытываем почтительный трепет перед новой совершенной машиной, замираем в восторге перед Спутником, открывшим дорогу в космос, но мы еще не научились удивляться самому поразительному творению природы – человеческому организму. Может быть, это и наивно, но мне кажется: если бы человек понял, почувствовал всю сложность и совершенство своего организма, изумительную целесообразность каждого сочетания клеток, тонкость и гибкость существующих связей и процессов, если бы хоть раз восхитился всем этим, он перестал бы относиться к своему организму так варварски, как относится сейчас…»
«…В сегодняшней почте – статья, присланная мне ее автором из Москвы. В статье идет речь о работах, которые подтверждают и уточняют мои давние наблюдения над аппаратом Гольджи. Автор занимается электронной микроскопией, а мы тогда пробирались едва ли не наугад, на ощупь – со своими-то возможностями… В чем-то мы были похожи на астрономов, пытающихся вычислить положение планеты еще задолго до того, как удается увидеть ее в телескоп…
Не стану скрывать – я испытал и радость и удовлетворение. Пожалуй, ничто не придает человеку столько новых сил, как сознание того, что ты работал не напрасно…»
«…Сегодня весь вечер читал сказки Андерсена. Разбирал книги и случайно наткнулся на эту книжку – когда-то я подарил ее Тане на день рождения. Раскрыл – и не мог оторваться. Жаль, что взрослые люди так редко читают сказки. Мне кажется, в этих сказках больше мудрости, человеческого опыта, чем в иных толстых сочинениях…»
Решетников медленно листал страницы, исписанные мелким, неразборчивым почерком. Одни события, о которых рассказывал Левандовский, были хорошо знакомы ему, о других он узнавал впервые… Он ощущал волнение, которое ощущал всегда при жизни Василия Игнатьевича, когда разговаривал с ним. Что говорить, он всегда любил Левандовского, всегда невольно стремился подражать ему, всегда гордился, что может назвать его своим учителем, что может сказать о себе: «Я – ученик профессора Левандовского», но только теперь, перелистывая страницы этой тетради, Решетников вдруг увидел в нем близкого человека, который делился с ним своими сокровенными мыслями и чувствами…
«…Если бы у меня было хоть немного писательского умения, я бы непременно написал одну простенькую сказку, я бы назвал ее «Сказка о человеке с электронным сердцем».
Жил-был на свете, а точнее – в большом городе, знаменитый архитектор. Впрочем, он мог бы быть и художником, и ученым, и часовых дел мастером, но пусть в нашей сказке он будет архитектором. Был он молод и весел. Были у него хорошие друзья, и любимая девушка, и интересная работа. И вот однажды задумал он построить дом, прекраснее которого еще не было в этом городе. Он заперся у себя в мастерской и работал дни и ночи. А его любимая девушка скучала, тосковала и сердилась. «Подожди немного, – говорил он. – Если мне удастся этот проект, я буду самым счастливым человеком на свете. А ты станешь самой счастливой женой самого счастливого человека». Но она не хотела ждать, и однажды они поссорились. Они наговорили друг другу много обидных, несправедливых слов, и она ушла. А он, в гневе и горе, долго бродил в этот вечер по улицам. И сердце его никак не могло успокоиться. Никогда раньше не замечал он своего сердца, а теперь вдруг почувствовал боль в груди. Но утром он опять принялся за работу и работал еще неистовее, чем прежде.
И наконец проект был готов. Человек понес его на суд своим товарищам. Он так волновался, что у него темнело в глазах и бешено колотилось сердце.
«Конечно, это очень интересно, – сказали ему вежливо. – Но построить такой дом невозможно». – «Почему невозможно? – закричал он в запальчивости. – Я докажу вам!» Они спорили долго, и чем дольше, тем яростнее, но ничего не доказали друг другу. А ночью человек опять ощутил боль в сердце, и боль эта была так сильна, что утром он пошел к доктору. Доктор выслушал его и сказал: «Ваше сердце не выносит перегрузок. Вам нельзя волноваться. Иначе это может плохо кончиться». – «Но я не могу не волноваться! Как же мне быть, доктор?» Доктор задумался. «Мы сделаем вам операцию, – наконец сказал он. – У вас будет электронное сердце. Точнее, сердце останется ваше, мы поставим только электронную приставку – реле-предохранитель. Простой и надежный. Гарантийный срок работы – сто лет».
И человеку сделали операцию. Через месяц он вышел из больницы. И пока он ехал из больницы домой, с ним случилось маленькое происшествие. Дело в том, что он забыл купить в трамвае билет. Просто он уже отвык ездить в трамваях и слишком радовался тому, что опять здоров, – так что его рассеянность была простительна. Но тут, на его беду, появилась женщина-контролер. Это была грубая женщина, и она сразу стала кричать на него: мол, знаем таких, на вид приличные, а норовят три копейки сэкономить! И человек сразу почувствовал, как забилось у него сердце от обиды, как кровь приливает к голове, но тут же в груди у него раздался слабый щелчок, и сердце стало успокаиваться. «Стоит ли расстраиваться из-за пустяков», – подумал он. Раньше бы грубость этой женщины вывела его из себя на целый день, а теперь он спокойно уплатил штраф и поехал дальше. Он ехал и не мог нарадоваться на свое новое сердце. И на другой день, и на третий, и на четвертый сердце не подводило своего хозяина.
А на пятый день утром, когда он работал в мастерской, к нему пришла любимая девушка. «Я не могу без тебя, – сказала она. – Я люблю тебя». Сколько раз мечтал он услышать эти слова, сколько раз мечтал о том, чтобы она вернулась. И теперь сердце его замерло от счастья. Но уже через секунду безразличие охватило его. Ни любви, ни счастья не чувствовал он. И когда девушка увидела, как спокойно его лицо, она повернулась и плача ушла прочь.
А вскоре его пригласили на высший архитектурный совет. Как давно он готовился к этой минуте! Как жаждал он кинуться в спор со своими противниками! Замирая от волнения и надежды, пошел он к трибуне, и в тот же момент ухо его уловило знакомый едва слышный щелчок…
Говорил он вяло, равнодушно, проект его был отвергнут. Друзья его удивлялись, а он думал: «Стоит ли волноваться, здоровье дороже. Ну, не прошел этот – пройдет другой, какая разница…»
Он вернулся к себе в мастерскую и долго сидел там в одиночестве, еще не зная, плакать ему или радоваться.
Так и потекла его жизнь. Он работал, придумывал новые дома, и не особенно огорчался, если их отвергали, и не особенно радовался, если их хвалили.
Но однажды он получил письмо. В письме сообщалось, что тяжело болен его друг. Это был его лучший друг, с которым они учились еще в школе. И пока он читал письмо, сердце его сжималось от тревоги. Но уже в следующее мгновение он почувствовал, как равнодушие овладевает им. «Что понапрасну терзаться, – успокаивал он себя. – Я все равно ничем не смогу помочь…»
Он лег спать, а ночью проснулся и лежал с открытыми глазами и думал: «Что же со мной происходит? Разве можно так жить?»
И тогда утром он пришел к доктору и сказал: «Возьмите обратно ваше электронное сердце. И пусть у меня будет обыкновенное человеческое сердце, которое болит от горя и ликует от радости, сжимается от страданий и замирает от гнева, – другого мне не нужно». И доктор пожал плечами и ответил: „Пусть будет по-вашему“».
«…Вчера был на встрече ветеранов дивизии народного ополчения. Видел там Петра Леонидовича, вместе повспоминали те дни. Хоть и трудное было время, страшное, а дорого оно мне. В душе след остался навсегда.
И вообще – спроси меня сейчас кто-нибудь, хотел бы я прожить жизнь по-другому, жалею ли я о чем-нибудь в своей жизни, – и я бы сказал: «Нет». Наверно, мог бы я больше сделать, чем сделал, и большему научиться, чем научился, но все-таки я ответил бы именно так: «Нет, не жалею». И не покривил бы душой. Что это? Может быть, стариковская размягченность, умиротворенность?.. Нет, думаю, что нет.
Я оглядываюсь назад и вижу, что мне дорога жизнь со всеми ее противоречиями и сложностями, бедами и радостями – может быть, она и могла бы быть лучше, счастливей, но тогда это была бы уже иная, не моя жизнь. А так, что ж… Даже самые нелегкие для меня дни, когда я практически был почти отстранен от работы, дали мне многое – и для того, чтобы понять окружающих меня людей, и для того, чтобы понять самого себя. Они не прошли даром».
Между страницами тетради Решетников увидел какие-то листки, исписанные незнакомым почерком. Это были чьи-то письма, адресованные Левандовскому и датированные двадцать девятым годом. Бумага уже пожелтела от времени, и чернила слегка выцвели. Решетников посмотрел на подпись: Ухтомский. Знаменитый академик Ухтомский, учитель Левандовского, вот кто, оказывается, писал эти письма. Некоторые абзацы были отчеркнуты красным карандашом, вероятно, уже рукой Левандовского. Решетников прочел:
«…Целые неисчерпаемые области прекрасной или ужасной реальности данного момента не учитываются нами, если наши доминанты не направлены на них или направлены в другую сторону…
Плясуны перестали бы глупо веселиться, если бы реально почувствовали, что вот сейчас, в этот самый момент, умирают люди, и беззаботно хохочущий человек остановился бы, оборвал бы свой смех, если бы реально почувствовал, что в это самое мгновение выводят на казнь молодого повстанца, и женщина, развлекающая своего малыша, содрогнулась бы, если бы реально почувствовала, что сейчас, в эту самую минуту, другая мать бьется в отчаянии оттого, что не знает, чем накормить страдающего от голода ребенка…»
Как близка и понятна была Решетникову эта тревога и эта боль! Разве он сам не думал о том же?..




