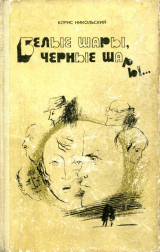
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Боярышников опустился в кресло и, казалось, сразу почувствовал себя увереннее.
– Понимаете, Константин Александрович, – сказал он, – из достоверных источников мне стало известно…
Творогов едва удержался, чтобы не хмыкнуть. «Из достоверных источников» – ну и манера выражать сбои мысли!
– …мне стало известно, что завтра в Ленинград приезжает сотрудник из института Степанянца, приезжает специально, с целью выступить на моей защите…
– Ну и что же? – благодушно перебил его Творогов. – Пусть приезжает себе на здоровье, послушаем, что он скажет…
– Что он скажет! В том-то и дело, в том-то и дело! Мне уже известно, ч т о о н скажет! Мне абсолютно точно сообщили, что он едет специально, понимаете, Константин Александрович, с п е ц и а л ь н о, чтобы выступить п р о т и в, чтобы задробить мою диссертацию!
– Да ну, чепуха какая-то! Кто вам наговорил такого? – отмахнулся Творогов. – У нас же есть положительный официальный отзыв из института Степанянца. Его сам Георгий Саркисович подписал. Что вам еще нужно? У вас, Боярышников, просто воображение разыгралось, вам отдохнуть нужно.
– Нет, Константин Александрович, нет! – воскликнул Боярышников и вскочил с кресла в сильном волнении. – Мне уже рассказали: от этого человека всего можно ожидать!
– Но вы-то, Боярышников, ему зачем? От вас-то ему что надо? Подумайте сами, – по-прежнему посмеиваясь, сказал Творогов.
– Вот этого я и не знаю, – удрученно признался Боярышников. – Сегодня полдня ломал голову, все варианты, кажется, перебрал и не могу понять: почему именно я? Почему именно моя диссертация? Я серьезно говорю, Константин Александрович: я уже навел справки об этом человеке. Это желчный неудачник и, говорят, он уже был замешан раньше в какой-то скверной истории, вроде бы до самоубийства кого-то довел…
– Бросьте, Боярышников! – сказал Творогов. – Не повторяйте чужих глупостей. Возьмите себя в руки. Когда нервные дамочки устраивают мне подобные истерики накануне защиты, я это еще могу понять, но вы же – мужчина, вам это непростительно. Ну, рассудите здраво: кто же из института Степанянца, зная, что есть его официальный отзыв, потащится сюда выступать против вашей диссертации? Ведь вы же понимаете, в какое положение этот человек поставит себя. Да еще если учесть характер Георгия Саркисовича. Что-то ваши достоверные источники явно напутали…
– Да как же напутали! – в отчаянии воскликнул Боярышников. – Как же напутали, Константин Александрович, если мне даже фамилию этого человека сообщили!
– Любопытно. Ну и что же это за фамилия?
– Сейчас, сейчас. Простая фамилия, но я записал нарочно, чтобы не забыть, не спутать. Сейчас, я – сейчас… – приговаривал Боярышников, торопливо перебирая страницы своей разбухшей, уже разлетающейся на отдельные листки записной книжки. – Ага, вот! – торжествующе произнес он наконец, выхватив один листок. – Синицын! Точно – Синицын, Евгений Николаевич.
– Тю-тю-тю! Синицын?! – присвистнул Творогов. – Женька Синицын?
Никогда не любил он обнаруживать перед другими людьми свои чувства, но тут не выдержал: изумление прорвалось в его голосе.
А Миля Боярышников во все глаза смотрел на Творогова, еще не зная, как оценить это его изумление, не зная, радоваться или огорчаться оттого, что Творогов, оказывается, имеет какое-то отношение к этому таинственному Синицыну.
– Вы с ним знакомы, Константин Александрович?
Но прежде чем Творогов успел что-либо ответить, из соседней комнаты раздался голос его жены:
– Вот уж поистине: только Синицына тут и не хватало! Хотя чему удивляться – это вполне в его духе!. Я всегда говорила: чужой успех не дает ему покоя. Ручаюсь – он прочел о выходе твоей книги и у него засвербило в душе. Ты вот со мной споришь, а я всегда чувствую людей с первого взгляда, я никогда не ошибаюсь в людях…
Сколько раз просил Творогов Зою не вмешиваться в его дела, по крайней мере, при посторонних. Ее категоричность, ее ничем не контролируемые эмоциональные всплески, ее самоуверенность – никаких сомнений! никаких колебаний! – в оценке людей вызывали у него раздражение. Он знал, что Зоя никогда не любила, не выносила Синицына. Но зачем это демонстрировать перед Боярышниковым?
А Боярышников уже так и навострил уши, уже понял, что если и может рассчитывать вызнать что-нибудь существенное о Синицыне, то, конечно же, не от Творогова, а от его жены.
– Зоя, – с легким упреком сказал Творогов, – не надо преувеличивать.
– Я говорю только то, что думаю, – появляясь в проеме дверей, сказала Зоя. – Разве я не имею права высказать свое мнение?
– Имеешь, разумеется, имеешь. Только если с этим молодым человеком накануне защиты случится нервный приступ, в этом будешь виновата и ты. Человека и так запугали до последней степени, а ты еще подливаешь масла в огонь.
Зоя обиженно передернула плечами и удалилась, скрылась в своей комнате. Когда-то она была неколебимо убеждена, что именно Женька Синицын противился женитьбе Творогова на ней, хотя, честно говоря, Женьку никогда не волновало, на ком женится, на ком остановит свой выбор Творогов. Прежде Творогов пытался объяснить, растолковать это Зое, но на нее не действовали никакие доводы, если речь заходила о Синицыне, и Творогов в конце концов махнул рукой. Выходит, и время не стерло, не ослабило ее неприязнь к этому человеку.
– Ладно, Боярышников, не обращайте внимания на все эти россказни, – сказал Творогов. – Главное – спите спокойно, вот вам мой совет. Не так страшен черт, как его малюют, А вообще-то, – добавил он, весело глядя на Боярышникова, – вас можно поздравить, ежели вами заинтересовался Синицын…
– Вы шутите, Константин Александрович, или серьезно? – обеспокоенно спросил Боярышников, и обиженные, даже возмущенные нотки зазвучали в его голосе. Видно, даже мысль о том, что кто-то может себе позволить шутить сейчас, когда решается судьба его диссертации, казалась ему кощунственной, невыносимой.
– Не знаю, – сказал Творогов. – Честное слово, Боярышников, не знаю.
Творогов вовсе не кривил душой перед Боярышниковым, когда произнес это «не знаю».
Первым его чувством, первой реакцией, едва только он услышал Женькину фамилию, была радость – мгновенная вспышка радостного волнения, которое испытывает любой человек, случайно вдруг натолкнувшись на упоминание о своем прежнем товарище, друге, однокурснике. Словно само по себе это звукосочетание «Женька Синицын», эти два слова, поставленные рядом и произнесенные вслух, обладали особым свойством воздействовать на тайные центры мозга, моментально извлекая из его глубин ощущение студенческого братства, студенческого товарищества, ощущение первой юношеской дружбы, уже такое далекое, почти забытое… А первая самостоятельная работа, первые самостоятельные шаги, которые они делали вместе уже здесь, в институте, – это ведь тоже чего-нибудь стоит, это ведь тоже навсегда западает в душу… И разве имеет значение, что там было потом, после…
Творогов ощутил эту внезапно нахлынувшую, мгновенную радость, пока не заработала еще электронно-вычислительная машина памяти, пока не начала она беспристрастно расставлять все по своим местам, воссоздавая уже иные картины, иные – куда более горькие – ощущения…
Расстались они врагами. Это Творогов знал точно. Как встретятся они теперь, спустя столько лет? Каким он стал – Женька Синицын? Все тот же правдолюбец, готовый во имя истины растоптать самое же истину? «Вечный студент», ученый со студенческими замашками, все еще мечтающий совершить переворот в науке? Или успокоившийся, утихомирившийся наконец младший научный сотрудник? А может быть, и верно – желчный неудачник?..
Что потянуло его теперь сюда, что заставило вдруг мчаться ради, в общем-то, ординарной, ничем не примечательной диссертации? Уж во всяком случае, не интерес к этой работе. Неужели лишь фамилия научного руководителя, которую он прочел на первой странице автореферата? Его, Творогова, фамилия. Впрочем, Зоя права, это всегда было в духе Женьки Синицына – примчаться, блеснуть, ошеломить, ниспровергнуть…
Они расстались тогда, много лет назад, оба уверенные в том, что только время рассудит их. Что ж, пожалуй, оно уже рассудило. И не это ли чувство – чувство, что он проиграл тот давнишний спор, гонит теперь Женьку сюда?..
А впрочем… Может быть, он, Творогов, тоже преувеличивает? Имеет ли теперь значение все то, что казалось им таким существенным, таким невероятно важным тогда, без малого двадцать лет назад?.. Ведь целая жизнь минула с тех пор, целая жизнь…
– Значит, говорите – желчный неудачник? – переспросил Творогов.
– Не знаю… меня так проинформировали… Причем люди, кажется, довольно близко его знавшие… – уклончиво пробормотал Боярышников.
– Любопытно, – сказал Творогов. – Очень любопытно. Ну что ж, поживем – увидим, не так ли?
– А что же м н е теперь делать? – осторожно, но все же подчеркивая это «мне», спросил Боярышников. – Что вы м н е посоветуете в сложившейся ситуации, Константин Александрович?
– Как что? Отдыхайте, делайте физзарядку, одним словом, готовьтесь к защите. И ничего больше.
Глядя на Боярышникова, засуетившегося и собравшегося наконец уходить, Творогов впервые за сегодняшний вечер подумал, что он сам при аналогичных обстоятельствах, в молодости, ни за что не решился бы вот так бесцеремонно явиться домой к своему руководителю, к заведующему лабораторией, доктору наук. Полыхай даже его диссертация синим пламенем, все равно не решился бы. А вот Женька Синицын… Тот бы смог, тот бы не колебался… Он всегда смеялся над теми запретными барьерами, которые выстраивал в своей жизни Творогов…
ГЛАВА ВТОРАЯ
На следующий день вся лаборатория уже знала об угрозе, нависшей над диссертацией Мили Боярышникова. Боярышников, конечно, не пожалел красок, расписал все самым выразительным образом. На что, на что, а на это он был мастер.
Для доброй половины сотрудников лаборатории вся синицынская история, все, что происходило когда-то, много лет назад здесь, в стенах института, было теперь лишь смутным институтским преданием, отзвуки которого нет-нет да и возникали на лабораторных семинарах или производственных совещаниях. Сама же эта фамилия «Синицын» не вызывала у них никаких личных ассоциаций, никаких личных эмоций или воспоминаний – одно только любопытство, желание собственными глазами взглянуть на странного человека, который, казалось, уже вроде бы и не существовал вовсе в реальном мире, а был лишь мифом, лишь неким отзвуком определенного, давно прошедшего времени, «плюсквамперфекта», своего рода исторической вехой в летописи лаборатории, да, пожалуй, не только лаборатории, но и всего института: «А помнишь, это еще во времена синицынской истории было?.. Ах да, ты же тогда еще не работал…» И вот теперь этот институтский призрак вдруг объявился, вдруг готовился обрести плоть, доказать реальность своего существования.
Больше всего это неожиданное событие и его возможные последствия волновали тех, кому предстояло защищаться вскоре после Боярышникова. До сих пор среди соискателей из лаборатории Творогова не было ни одной осечки, марка работ, выходивших из этой лаборатории, была высока, и сам по себе этот факт всегда придавал уверенности и оптимизма будущим кандидатам наук. И вдруг теперь впервые потянуло тревожным ветерком.
Это новое настроение – настроение настороженности и беспокойства и вместе с тем легкой, веселой, чуть нарочитой бесшабашности: «А, где, мол, наша не пропадала!» – сразу уловил Творогов, едва лишь перешагнул порог лаборатории. Он обошел все шесть комнат, где работали его сотрудники, и всюду чувствовал на себе заинтересованные, любопытные взгляды, словно по выражению его лица, по его поведению, по тону, каким задавал он короткие будничные вопросы, люди старались определить, насколько в действительности серьезно, опасно для всей лаборатории или, по крайней мере, лично для Творогова все то, о чем уже успел столь драматично поведать Боярышников.
Днем к Творогову неожиданно заглянул старик Корсунский. Удивительно – иной раз по нескольку дней не показывается Илья Семенович в институте, а тут возник мгновенно. «Чутье, – как сказал бы в свое время Женька Синицын, – профессиональный нюх, если выразиться точнее». Хотя, если уж быть справедливым, чутье здесь, конечно же, было ни при чем – просто кто-то уже позаботился, позвонил, просигнализировал. И правда – ну как же не сообщить Корсунскому такую новость? Кто-кто, а он-то отлично помнит Синицына, у него есть для этого все основания.
Корсунскому недавно перевалило за восемьдесят, но он все еще бодр, подвижен, суетливо-деятелен. Был он в свое время и заместителем директора, и заведующим лабораторией, а теперь пребывает в должности консультанта. Кроме того, он – давний и неизменный член ученого совета.
Здороваясь, Корсунский непременно целовал руки женщинам. Делал он это обстоятельно, как бы исполняя некий чрезвычайно важный обряд. Готовясь к поцелую, он галантно сгибался, почти переламывался пополам и как-то странно, дудочкой, складывал губы, сильно выпячивая их вперед. «Киплинг ошибся, утверждая, что у слона вырос хобот оттого, что он в юности повстречался с крокодилом, – заметил как-то давно Женька Синицын, глядя издали на Корсунского, склонившегося к руке лаборантки, – у слона вырос хобот оттого, что он слишком часто целовал руки женщинам». Женькины остроты были опасны – они крепко впечатывались в память. Вроде бы и не старался Творогов вспоминать эту давнишнюю шутку, но она словно сама собой обязательно возникала в его сознании, когда он видел Корсунского, целующего женскую руку. Впрочем, молоденькие лаборантки, завидев Корсунского, всякий раз старались незаметно выскользнуть из комнаты.
– Как поживаете, милый юноша? – Это обращение к Творогову Илья Семенович Корсунский усвоил еще в те времена, когда Творогов только-только начинал работать в институте. – И не смотрите на меня так недоверчиво: по сравнению со мной вы всегда останетесь юношей. В этом ваше преимущество. Не спешите отказываться от него.
«Как ты выносишь этого «милого юношу»? – сказал однажды Творогову Женька Синицын. – Вот попомни мое слово: эти старички еще пересидят в институте нас с тобой и всегда будут метрами, законодателями, мудрецами, основоположниками, а мы с тобой так и будем при них вечными юношами, подающими надежды, многообещающими мальчиками для той работы, которую они уже разучились делать сами…»
«Нельзя быть таким нетерпимым к окружающим, надо уметь прощать хотя бы некоторые из их слабостей», – ответил тогда ему Творогов.
«Ты у нас, кажется, становишься непротивленцем, – сердито отозвался Женька. – Прощай, прощай, будь добреньким, посмотрим, что от тебя в конце концов останется…»
Кажется, именно тогда они в первый раз серьезно – до недовольства друг другом – поспорили между собой, кажется, именно тогда…
– Это верно, – спросил Корсунский, понижая голос, – что наш уважаемый Евгений Николаевич собирается вновь почтить нас своим присутствием?..
Он спросил об этом с легкой, быстро промелькнувшей по лицу улыбкой, – лично его, Илью Семеновича Корсунского, это событие, Женькино появление, сейчас никак не задевало, скорее оно могло лишь забавлять его, лишь вызывать любопытство и ничего больше.
– Не знаю, – сказал Творогов. – Думаю, у нас с вами один и тот же источник информации.
– Странно, не правда ли? – продолжил Корсунский. – Подумайте только, в какое нелепое положение ставит он руководство своего института! Впрочем, это всегда было в его характере. Характер, характер… Как он все-таки много значит!.. Вот говорят: талант, способности, одаренность, а я скажу – э-э, нет, не забывайте, товарищи дорогие, о характере. Иначе никакие способности, никакие таланты не выручат, все прахом может пойти. Пример уважаемого Евгения Николаевича – убедительнейшее тому доказательство. Ведь он очень способным молодым ученым был, можно сказать, немалые надежды подавал, по-моему, не было тогда в институте человека, кто бы этого не признавал. Я, например, до сих пор помню первые его статьи, я и сейчас на них ссылаюсь в своих работах. Не зря Федор Тимофеевич его, что называется, за ручку тогда в институт ввел, сам, самолично и поддерживал, и помогал ему – да вы сами помните все это, что я вам рассказываю! А как он отплатил Федору Тимофеевичу, как отблагодарил! Вот вам способности, а вот вам и характерец…
Да, что верно, то верно. Теперь, оглядываясь назад, думая о том давно прошедшем времени, Творогов и сам отчетливо видел, что Синицын был наделен какой-то странной способностью, каким-то несчастным свойством характера – портить отношения с людьми, которые его любили, которые к нему хорошо относились, которые ценили его и пеклись о нем, как будто мало было ему этих отношений, как будто сидела в нем какая-то непонятная тяга непременно испытать их на прочность, на разрыв. Что это было – вздорность, неуравновешенность характера, сумасбродность талантливого человека, беззаботная мальчишеская самоуверенность вчерашнего студента?
– А сама по себе эта нынешняя его затея – явиться сюда, в институт, на защиту – разве это тактично? Нет, лично я не имею к нему никаких претензий, хотя с нами, со стариками, он в свое время не церемонился. Но я уже давно все простил и забыл, я – человек незлопамятный. Но все же являться, как ни в чем не бывало, в институт, где он стольких людей незаслуженно обидел, оскорбил даже, в этом есть что-то… мягко говоря, вызывающее. Пусть, пусть многих уже нету, и многое изменилось в нашем институте, новые люди пришли, это все ясно, но есть же и те, кто хорошо помнит. Существует, в конце концов, память о Федоре Тимофеевиче, которая нам далеко не безразлична…
Вот уж, казалось бы, ни с какой стороны не должен волновать Корсунского приезд Синицына, а волнует, да еще как! Румянец выдает это волнение. Румянец этот возникал как-то странно: сначала кровь приливала к по-стариковски призрачным ушам, и уши начинали розовато светиться, а затем уже багровый румянец неровно распластывался по всему лицу. Эти розовато светящиеся прозрачные уши первый раз поразили Творогова еще тогда, давно, на том самом, знаменитом «синицынском» собрании, когда он, Творогов, смотрел из зала, из третьего ряда, на сидевшего в президиуме Корсунского.
– Я понимаю, у него могут быть личные счеты с вами, обида, зависть, в конце концов, но достойно ли сводить теперь эти счеты подобным образом?
Творогов слегка поморщился, отрицательно покачал головой. Нет, ему вовсе не хотелось, чтобы дело истолковывалось так, будто появление здесь Синицына, все его действия направлены в первую очередь против него лично, против Творогова. Он не желал в это верить. А может быть, оттого и не желал верить, что в глубине души как раз больше всего и опасался подобного оборота событий.
– Нет, нет, Константин Александрович, дорогой, – сразу вдруг оживившись, как врач, которому удалось нащупать болевую точку у своего пациента, запротестовал Корсунский, – не отбрасывайте и такую возможность, не отбрасывайте. Я понимаю: все мы меряем окружающих своей меркой, вы, как человек доброй души, всегда были склонны облагораживать и других людей, порой вовсе того не заслуживающих. Но послушайте меня, старого воробья, Константин Александрович, я вам все-таки настоятельно советую: в таких случаях лучше перестраховаться, лучше лишний раз обезопасить себя… Я на вашем месте позвонил бы сейчас, не откладывая, Степанянцу, выяснил бы, нет ли здесь каких-либо неведомых нам с вами тонкостей, подводных течений. Да и узнал бы заодно, с ведома Георгия Саркисовича или самовольно выехал сюда наш общий знакомый…
Вот и высказал наконец Корсунский то главное, ради чего затеял он этот длинный, начинавший уже утомлять Творогова разговор. Когда-то, в прежние времена, Илья Семенович слыл институтским мудрецом, визирем, дипломатом, мастером находить достойный выход из разного рода чреватых осложнениями ситуаций, мастером предвидеть подобные ситуации. Теперь он, вероятно, искренне стремился помочь Творогову, как помогает старый, опытный боец молодому, еще необстрелянному солдату.
Творогов же молча слушал Корсунского и думал, что, конечно же, никакому Степанянцу звонить он не станет. Как бы выглядел сейчас такой звонок? Как доказательство его беспокойства, его опасения за судьбу диссертации Боярышникова? Или как донос на строптивого сотрудника, вопреки воле начальства, на свой страх и риск отправившегося сюда, в институт, на заседание ученого совета? Ни то, ни другое не устраивало Творогова.
Впрочем, несмотря на эти возражения, на этот мысленный спор, который он вел сейчас с Корсунским, Творогов слушал того по-прежнему внимательно, не перебивая и ничем не выказывая своего несогласия. У него давно уже выработалось умение слушать. Слушать и не спешить с выводами. Наверно, эта привычка развилась у него еще в раннем детстве. В те годы Творогов рос, воспитывался в огромной семье, где он был единственным ребенком, где его окружали лишь взрослые: мать, тетки, бабушки, двоюродные сестры, которые, казалось, постоянно только и делали, что говорили, спорили, ссорились, выясняли отношения, чтобы снова тут же их запутать и снова выяснять с не меньшей страстью; где, если и обращались к маленькому Творогову, то обычно говорили не столько с ним, сколько за него: «Костик хочет» или «Костик не хочет», «Костик любит» или «Костик не любит»… Знал ли кто-нибудь на самом деле, чего он хочет? Что любит? Может быть, лишь один дед-профессор, который словно бы возвышался недосягаемо надо всем этим женским царством. Остальные мужчины в доме как-то вроде бы даже и не принимались в расчет – они так и остались в памяти Творогова, как бесцветные, бессловесные тени. Впоследствии умение слушать, которое он приобрел, в общем-то, помимо своей воли, не раз очень помогало Творогову, не раз выручало его.
Но сейчас, не теряя нити разговора с Корсунским, кивая ему, Творогов одновременно прислушивался к тому, что происходило в коридоре. Там, в самом дальнем конце коридора, надсадно звонил телефон. Обычно кто-нибудь из лаборанток сразу же стремительно мчался на звонок. Да и когда бы Творогов ни проходил по коридору, кто-нибудь из них всегда «висел» на телефоне. Творогов только диву давался: и о чем можно так долго говорить, по телефону? Казалось, девочки-лаборантки жизни своей не мыслили без этих телефонных разговоров, казалось, все свои самые насущные каждодневные дела они умудрялись вершить с помощью телефонного аппарата.
А сегодня телефон звонил, звонил, надрывался, но никто почему-то не торопился снять трубку. Чаще всего Творогов почти не замечал телефонных звонков, они словно бы существовали вне той главной сферы, которая занимала его. Но вот сейчас звонки эти вдруг прорвали ту защитную, звуконепроницаемую оболочку, которой он умел во время работы отделяться от всего, что не касалось его опытов, его расчетов, его записей в рабочих тетрадях.
Да что же это – так никто и не подойдет к телефону?
Если бы не Корсунский, Творогов, наверно, не выдержал бы, пошел бы сам. Хотя это было не в его правилах – срываться с места, бросать работу, бежать через весь коридор к аппарату. Самому Творогову сюда, в лабораторию, звонили редко, лишь в исключительных случаях, все знали, что он очень не любит, когда его отвлекают от дела телефонными звонками. «Домой звоните, домой», – говорил он.
Звонки не прекращались, видно, настойчивый товарищ, пытался пробиться сюда. И, подумав об этом упорном человеке, который стоял сейчас где-то там, у телефонного аппарата, на другом конце провода, Творогов ясно понял, отчего так беспокоят его сегодня звонки. Он ждет. Пусть подсознательно, еще не желая признаваться в этом самому себе, но все-таки ждет. Ведь если Женька Синицын действительно приехал сегодня…
Казалось, Творогов уже чувствовал присутствие этого человека в городе, угадывал, по каким улицам он ходит, у каких домов останавливается. И было странно – так отчетливо ощущать это присутствие, словно он, Творогов, и впрямь становился ясновидцем, и в то же время быть не в силах угадать даже такой простой вещи: позвонит Женька или не позвонит. От этого звонка многое зависело. Не может быть, чтобы Женька Синицын не понимал этого.
«Как мы заблуждаемся, как заблуждаемся порой, – думал Творогов, – когда уверяем себя, что прошлое ушло из нашей жизни безвозвратно, что оно уже но имеет для нас значения, что время навсегда излечило нас…»
Ага, вот наконец трубку сняли, звонки прекратились. Минуту-другую Творогов напряженно, весь собравшись, ждал.
Нет, не его.
– Как грустно, что так быстро летит время, – со стариковской печалью вдруг сказал Корсунский, словно бы отвечая на мысли Творогова. – Кажется, не успел еще и оглянуться, а жизнь – вот она, вся… И то, что волновало тебя, оказывается, уже мало кого волнует… Вот ведь о том, что казалось таким значительным, что волновало нас, и еще как волновало, скажем, лет двадцать назад, я могу поговорить с вами, а если заглянуть глубже? Лет этак на сорок, на пятьдесят? Для вас это уже историческая абстракция. Вас это уже не трогает. А ведь тоже какие бури кипели, какие страсти! Я же помню, помню! Помню так, как будто это было только вчера. Забавно, но я иногда себя чувствую болельщиком, явившимся вдруг на стадион после пятидесятилетнего перерыва. Ты вроде бы еще полон переживаниями от матчей, которые видел в молодости, они кажутся тебе захватывающими, но на поле уже совсем другие кумиры, и уже совсем иные имена выкрикивают болельщики с трибун, и только тот матч, который идет сегодня, кажется им самым важным… Так вот и этим мальчикам и девочкам в джинсах, что приходят сегодня к вам в лабораторию, только их собственная сегодняшняя жизнь, их собственные заботы и интересы кажутся значительными и достойными внимания. Что им до тех событий, которые волновали нас с вами! Все проходит бесследно, Константин Александрович, все проходит бесследно… – Корсунский вздохнул. – Видите, как вредно старикам предаваться воспоминаниям… Ладно, не слушайте меня, милый юноша, пропускайте мимо ушей стариковские причитания. Я ведь по натуре тоже оптимист. Попробуйте дожить до моих лет, не будучи оптимистом! – Он коротко хохотнул. – Да, оптимист, и оттого меня всегда тянет к молодежи, старики, скажу вам по секрету, меня гнетут…
Что-то заискивающее промелькнуло вдруг в его выцветших глазах, словно именно от Творогова ожидал он сочувствия и понимания. Как будто во власти Творогова было сейчас если не снять тяготивший этого человека груз лет, то, по меньшей мере, поддержать, утвердить за ним то последнее, на что он мог еще претендовать: признание за ним молодости душевной…
И Творогову вдруг стало стыдно за свое раздражение, которое он испытал час назад при появлении Корсунского. Сколько бы лет ни прошло и что бы там ни происходило после, а Творогов до сих пор был благодарен Корсунскому за то, что тот когда-то согласился быть оппонентом на его кандидатской защите. И отзыв о работе написал отличный – такое не забывается. А разве без помощи Корсунского получил бы он потом самостоятельную группу, разве не оказалось тогда решающим слово Ильи Семеновича?.. Это теперь, глядя на говорливого старика с болезненно-ярким, словно экземным румянцем, выступившим на лбу, на щеках, на морщинистой шее, человек, не знакомый с ним, вряд ли примет его за крупного ученого, доктора наук, профессора, лауреата Государственной премии… А ведь было, все было… Впрочем, и нынче еще имя Корсунского нередко мелькает в статьях, в перечнях литературы, и нынче еще, когда он приходит в институт по торжественным дням, на общее собрание или на заседание ученого совета, подтянутый, в черном костюме, с медалью лауреата, с орденской колодкой, многие с почтительным интересом и уважением поглядывают на него. Но уже все меньше и меньше становится людей, которые знают его, все чаще и чаще, завидев его высокую, но уже по-стариковски ссутулившуюся фигуру, какой-нибудь юный лаборант или младший научный сотрудник спрашивает своего соседа: «А кто это?»
У Творогова никогда не было оснований враждовать с Корсунским, ничего скверного не сделал ему этот человек, а его недостатки и слабости… что ж… они есть у каждого… Уж коль раньше Творогов умел мириться с ними, то теперь тем более. И если сейчас в душе Творогова все же подспудно зрело раздражение, то виной тому, пожалуй, был не столько сам старый профессор, сколько тот повод, который привел его сюда, сколько та настойчивость, с какой теперь из-за неожиданного, несуразного приезда Женьки Синицына Илья Семенович Корсунский пытался объединить их – себя и Творогова, та естественность, с какой проскальзывало у него это «мы с вами»: «мы-то с вами внаем», «мы-то с вами помним…».
Ах, как обрадовался бы, как ликующе взвился бы сейчас Женька Синицын – тогдашний, не теперешний; кто знает, каким он стал теперь? – как бы обрадовался тогдашний Женька Синицын, услышь он этот разговор! Вот что неприятно, раздражающе задевало сейчас Творогова.
Мы с вами! Да нет же, нет. Слишком далеки они тогда были с Корсунским, слишком различно было их положение. И даже когда в один прекрасный день Илья Семенович пригласил Творогова к себе домой специально, как выяснилось после, чтобы поговорить о Синицыне, все равно это был разговор учителя с учеником, метра с внимающим ему сотрудником… Помнил ли этот разговор Корсунский? Помнил ли, о чем говорили они тогда?..
И тем не менее, что бы там ни было, что бы потом ни утверждал Женька Синицын, а Творогов всегда был сам по себе, словно вольный город. Он сам выбирал дорогу, по которой идти. Во всяком случае, всегда стремился к этому. И если иной раз он предпочитал отмалчиваться, так что ж… Кто это придумал глупость, будто молчание – всегда знак согласия? Это не так, это далеко не так…
Корсунский вынул из кармашка жилета часы на цепочке, взглянул на циферблат, засуетился вдруг, заспешил.
– Само собой разумеется, – доверительно сказал он, – я с этим разговором относительно Синицына пришел только к вам, Константин Александрович, памятуя о наших с вами давнишних добрых отношениях. Ни с кем больше я не хотел бы говорить на подобные темы…
Это тоже одна из простительных, стариковских слабостей Корсунского. «Ни с кем больше», а сам и на часы уже посматривает, чтобы не упустить директора, попасть сегодня к нему, а потом наверняка забежит еще и к заму, и к секретарю партбюро, и к ученому секретарю, и еще к кому-нибудь из тех, кто помнит синицынскую историю. И с каждым будет говорить все с той же сугубой доверительностью: «Только из личной симпатии к вам я решаюсь затронуть этот деликатный вопрос» или что-нибудь в этом роде. Одним словом, совершит Большой Обход института, как шутят в таких случаях в твороговской лаборатории.








