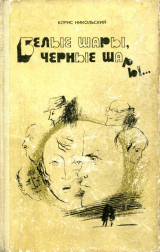
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
– Дядя Митя, – спросил однажды Решетникова Сережка, – а почему вы так редко приходите к нам в гости?
– Я работаю, – сказал Решетников. – Ставлю опыты.
– Каждый день? Как моя мама?
– Каждый день. Как твоя мама.
– И утром, и днем, и вечером?
– И утром, и днем, и вечером.
Решетников не преувеличивал: последнее время он был поглощен работой, даже выходные дни он проводил теперь в лаборатории, часто опыты затягивались до поздней ночи и он уходил из института последним.
– Дядя Митя, а опыты ставить трудно?
– Когда как. Это длинная, кропотливая работа. Терпения требует.
– Дядя Митя, расскажите мне об опытах, вы обещали.
– Ну что ты, Сережка! Тебе будет скучно, ты не поймешь.
– Нет, пойму. Мама мне всегда рассказывает.
– Правда, Митя. Он поймет, – сказала Рита. – Я стараюсь, чтобы он понимал. А то меня знаешь что мучает? Вот я встречаюсь со своей давней подругой. Мы можем с ней разговаривать о чем угодно: о платьях, о биттлах, об убийстве Кеннеди, о космосе, только не о главном для меня, не о моей работе, и не то чтобы ей было неинтересно, ей просто это непонятно, недоступно. Мне кажется, угроза отчуждения, изоляции, замкнутости в своем узком специальном мире висит надо всеми нами. Меня пугает, что мой сын не будет иметь представления о том, чем занимается его мать. И я стараюсь, чтобы этого не случилось. Так что можешь смело рассказывать.
Решетников принялся было объяснять простой опыт, начал рассказывать, как определяет он, проникает ли вещество в мышечные клетки, как выдерживает мышцы лягушки в растворе красителя, как затем вынимает их по очереди: одну мышцу – через час, вторую – через два, третью – через три, четвертую – через четыре и так далее, как погружает их в кислоту со спиртом, как мышца вновь отдает краситель, как измеряет он его концентрацию… и быстро оборвал себя, почувствовал: не то, неинтересно, скучно Сережке.
– Нет, сдаюсь, – смеясь, сказал он. – Хватит.
– Дядя Митя, я все понял, – заявил Сережка. – Я тоже так могу.
– Вот видишь, – развеселилась Рита. – Ты разочаровал ребенка. Он думал, дядя Митя великие открытия делает, а дядя Митя, оказывается, мышцы из баночки в баночку перекладывает…
– Не только перекладываю, – в тон ей откликнулся Решетников. – Я еще на счетах щелкаю, ручку арифмометра кручу, вычислениями занимаюсь, задачки решаю. Вот такие дела, Сережка. И не зевай, пожалуйста, сам уговаривал меня рассказывать…
…Решетников не случайно слегка подтрунивал, иронизировал над собой, когда рассказывал о своих опытах. Сколько раз уже клял он в душе все и вся за кустарщину, за несовершенство, за приблизительность тех методов, которыми ему приходилось пользоваться. Пойди установи с абсолютной точностью межклеточное пространство в мышечном волокне, а не установишь, и тебя тут же ткнут носом – почему, мол, вы так уверены, что краситель проникает в клетку, а не оседает весь в этом самом межклеточном пространстве? Волей-неволей приходится делать допуск, а может быть, как раз в этом допуске и таится ошибка, может быть, этой малой величины как раз и не хватает для того, чтобы получился желаемый результат. Вот и ломай голову, прикидывай и так и этак.
Иногда напрасной и бестолковой начинала казаться ему вся эта кропотливая работа – копошишься, копошишься, делаешь десятки опытов, а в лучшем случае потом появится в научном журнале статья «О некоторых особенностях проникновения кислотных красителей в портняжную мышцу лягушки», О некоторых особенностях! Кому это нужно?
Но зато когда осеняла Решетникова какая-нибудь идея, когда виделась ему возможность точного доказательства, изящного решения, он сразу воодушевлялся, оживал, уверенность возвращалась к нему. Именно такое чувство не оставляло его с того вечера, когда разговаривали они с Лейбовичем в пустой, тихой лаборатории. «Остроумно, – сказал тогда Лейбович. – И, как все гениальное, просто». А чутье у Лейбовича есть. Он сразу различает, когда сто́ящий эксперимент, а когда так – одна видимость, пустой номер. И чем тщательнее обдумывал сам Решетников предстоящие опыты, тем убедительнее казалась ему их основная идея.
Он чувствовал себя как шахматист, обнаруживший в, казалось бы, скучной позиции таящуюся возможность эффектной комбинации, и как шахматист – все высчитывал варианты, все медлил сделать решающий ход…
В то утро, когда наконец он надумал начать опыты, ему позвонила Таня. Только приступил он вместе с Валей Минько к работе, как его позвали к телефону.
– Да скажите, что меня нет! – сердито крикнул он, но крикнул уже в пустоту.
Не любил он, когда отрывали его от дела, однако ничего не поделаешь – пришлось идти.
Он и обрадовался и удивился, услышав Танин голос. Уже не первый раз замечал он эту особенность, это странное совпадение: пока не виделись, не встречались он и Рита, пока замирали их отношения на одной точке, – и Таня молчала, не звонила, не давала о себе знать. Стоило же только произойти сдвигу, событию в их отношениях с Ритой, как Таня сразу словно угадывала, словно чувствовала. Женская интуиция, что ли? Или просто случайность?
– Здравствуйте, сударь, – сказала она. – Не забыли ли вы, что обещали мне статью в сборник?
– Нет, – сказал Решетников. – Как я мог забыть! Я все время помню. И вот только что я о твоем отце думал. Мы сегодня интересную работу начинаем. Он любил такие эксперименты. Если получится, это уже кое-что будет значить.
– Ишь ты, расхвастался! – сказала Таня. – Раньше вы, сударь, были скромнее. Кто-то на вас дурно влияет.
Он-то хотел ей объяснить, какое значение имеют эти опыты для подтверждения взглядов ее отца, но она никогда не обладала умением терпеливо слушать. Она умела сосредоточиваться только на чем-нибудь одном, что занимало ее в данную минуту. Все остальное не то чтобы было ей безразлично, оно как бы находилось за пределами ее восприятия. Она могла смотреть и не видеть, слушать и не слышать.
– Как у вас там поживает Трифонов? – вдруг спросила она.
– Что это тебя волнует? – удивился Решетников. – Живет.
– Он тут мне целее послание прислал.
– Ну и как?
– Знаешь, странное какое-то ощущение. А в общем-то любопытно. Я не ожидала. Между прочим, он и тебе разрешил дать прочесть.
– Не очень-то жажду, – сказал Решетников. – Позвать его к телефону?
– Нет, что ты! С какой это стати! – Но по ее торопливому смущению он угадал, что думала она сейчас как раз об этом.
– Привет! – сказала она. – Все-таки не забывай старых друзей.
– Привет! – сказал он.
Решетников действительно чувствовал себя неловко, чувствовал за собой некоторую вину перед Таней оттого, что так и не написал до сих пор воспоминания о Левандовском. Когда первый раз заговорили они об этом с Таней, когда увлекся он этой мыслью, ему казалось, он легко и быстро выполнит данное ей обещание. Все, о чем хотел он написать, было так ясно, так стройно складывалось в голове, оставалось только сесть и записать. Он попытался это сделать в тот же вечер – и не сумел, ничего не получалось. Слова бледнели, теряли свою значительность, едва прикоснувшись к бумаге. Он испытывал то же самое, что уже испытал однажды – на похоронах Левандовского. «Ну что ж, – утешал он себя, – видно, не для меня это занятие. В конце концов, есть немало людей, кто сможет рассказать о Левандовском. Наше дело – продолжить его работу».
Сегодняшний Танин звонок показался ему счастливым предзнаменованием. В лабораторию он вернулся веселый.
– Ну что, Валечка, приступим?
Еще когда он был студентом, многих удивлял его характер – другие страдают перед экзаменом, томятся; девчонки, те особенно, – едва ли не нервная дрожь бьет их, а его веселый азарт охватывает, для него экзамен – праздник.
Конечно, вовсе не склонен был Решетников слишком преувеличивать значение тех опытов, которые ставил он сейчас, знал, что даже в случае удачи это будет лишь еще один скромный шаг на том пути, который лежит перед ними… Но когда поднимается человек в гору, когда оказывается наконец на вершине, поди попробуй определить, какой именно шаг из тысяч оставшихся позади был самым важным, самым необходимым. Все важны, все необходимы. И наивен тот, кто, стоя у подножия, будет мечтать одним махом перенестись на вершину.
Опыт начался удачно. Бывает, с самого начала что-нибудь не заладится, не учтешь какую-нибудь мелочь, и она поставит тебя в тупик, и бьешься целый день, пока не поймешь, в чем дело. А тут сразу все пошло так, как и ожидал Решетников. Даже простым глазом было видно, как, обработанные специальным раствором, набухли мышечные волокна. Проверка подтвердила – содержание внутриклеточной воды увеличилось почти вдвое.
– Ах какие мы с тобой молодцы, Валечка, – шутил Решетников. – Валечка, как ты думаешь, почему это об ученых песен нет? О шахтерах есть, о журналистах есть, о почтальонах есть, обо всех есть, только об ученых нет. А как бы хорошо звучало – «Марш протозоологов». Или «Лирическая физическая», а? Не знаешь, почему поэты не пишут? А я знаю. Потому что у нас в ходу все слова такие, к которым рифму подобрать трудно. Лаборатория, эксперимент… Ну что такое лаборатория? «Я сижу в лаборатории, сочиняю оратории» – не подойдет ведь. Или «Выбрал я один момент, произвел эксперимент» – ну вот, ты уже смеешься, а я серьезно…
Последнее время Валя была грустна. Как-то сказала она Решетникову: «Иногда мне кажется, что я живу, словно в пьесе, где между действиями проходит несколько лет. Будто я отрываюсь от экрана осциллографа, будто поднимаю голову от микроскопа и вижу – прошло еще два года… Два года! И еще два… И еще…» Решетников знал, в чем истинная причина ее грусти – в Новожилове. А тому, бородатому, хоть бы хны. И Решетников рад был видеть, что сейчас хорошее настроение передалось и Вале. Заулыбалась она, развеселилась. Улыбка у нее добрая, мягкая, сразу на душе от такой улыбки теплеет.
Все шло хорошо, только на другой день к вечеру, когда подходил опыт к концу, вдруг охватило Решетникова нетерпение, от которого, казалось, давно уже отучил он себя. Это когда пребывал он еще в стенах университета, когда ставил самые первые эксперименты, не хватало у него выдержки дождаться, соблюсти должный срок, все торопил он события, все пытался раньше времени проверить, что получилось. Так начинающий фотограф, проявляя свой первый снимок, то и дело выхватывает белый лист бумаги из кюветы с проявителем и подносит к красному свету, надеясь различить изображение. Теперь-то Решетников уже усвоил, что от нетерпеливости, от неумения ждать до недобросовестности – рукой подать. И все-таки сейчас, хоть и знал он, что времени прошло явно недостаточно, что еще до утра предстоит мышцам покоиться в кислоте со спиртом, что, поторопившись, он может только испортить все, сорвать опыт, Решетников еле удерживал себя от искушения сделать хотя бы одну-две пробы. Он еще и еще раз осматривал ряды пробирок, выстроившиеся перед ним, в каждой из которых плавал лепесток мышечной ткани. В общем-то, опыт уже был завершен, завтра утром шкала фотометра скажет ему, оправдались ли его надежды, верны ли были расчеты, сейчас же незачем было ему сидеть в лаборатории. Но Решетников по-прежнему медлил, не спешил уходить. Самое скверное состояние – и работа закончена, и не знаешь результата. Жди! Наберись терпения и жди!
Вышли из института вместе с Валей. Валя сразу заторопилась домой, – дома у нее, оказывается, пудель, надо его прогуливать.
– Знаешь, как он меня ждет! Я еще по лестнице иду, он уже мои шаги угадывает, на дверь бросается, прыгает. С мамой ни за что не пойдет гулять – меня дожидается.
– Я и не знал, что ты такая собачатница, – сказал Решетников.
– А я недавно его завела, когда ты был на Дальнем Востоке. Все приятно, когда кто-то в тебе нуждается… – добавила она виновато.
Валя уехала на троллейбусе. Решетников остался один.
Черт возьми, другие люди ждут не дождутся, когда звонок прозвенит, а он без работы чувствует себя как неприкаянный. Вот освободился раньше и не знает, куда себя девать. Домой придет – все равно работа на уме, за журналы возьмется. Была бы Рита рядом – другое дело. Но сегодня, как нарочно, Рита не появлялась в лаборатории, работает в своем институте. А вечер такой – сам бог велел развлечься.
Увидел рекламу кинотеатра. Ведь сто лет не был в кино. Стыд, позор, совсем от жизни отстал. И как не подумал днем позвонить Рите, договориться. А впрочем, что из того, что не договорился. Неожиданно – еще интереснее. Чувствовал он, что не может сегодня без Риты. Во что бы то ни стало хотелось ему увидеть ее.
Дверь Решетникову открыл Сережка, сразу возликовал, завертелся, запрыгал возле него: «Дядя Митя! Дядя Митя!» По коридору, всегда изумлявшему его своей бесконечностью, Решетников прошел к Рите. Сережка скакал впереди него:
– Мама, мама! Смотри, кто пришел!
– Рита, собирайся быстро, едем! – весело скомандовал Решетников. – Машина подана, билеты в кармане.
– Какая машина, какие билеты?
Рита сидела за столом и писала. Перед ней стояла чернильница-непроливайка, пальцы Риты были выпачканы фиолетовыми чернилами. Рядом были аккуратно разложены карточки с названиями статей на английском языке. Эта ее странная, сохранившаяся еще с начальных классов привычка – пользоваться обыкновенной ученической ручкой, какой теперь и школьники-то уже не пишут, и – непременно – восемьдесят шестым пером, и чернильницей-непроливайкой – казалась Решетникову особенно трогательной.
– Что ты, Митя! Я не могу, у меня работа. Я обязательно должна закончить статью.
– Да брось ты свою статью, никуда она не денется. Едем! Сережка, где мамино пальто? Тащи его сюда!
– Я серьезно говорю, Митя. Я не могу.
И таким тоном сказала, что он сразу понял: не пойдет, не уговорить. Не первый раз становился он в тупик перед этой ее твердостью, перед непреклонностью. А он-то мчался, летел, такси добывал, думал – обрадуется, ахнет от неожиданности!..
– Всего-то два часа это займет, я тебя назад привезу… – просяще сказал он.
– Нет, Митя, нет. Ну что ты как ребенок? Мне и так сегодня до ночи сидеть придется…
Обида захлестнула его. Да если бы любила, разве не бросила бы все ради него?
– Ну что случится, если ты статью завтра закончишь? Мир рухнет, что ли?
Не следовало ему говорить этого. Знал он, что только рассердить ее, вывести из себя может такими словами. И все-таки сказал.
И Рита сразу вспыхнула:
– Странно ты все-таки рассуждаешь, Митя! Твоя работа важна, ты из института, бывает, сутками не выходишь, и никто не смеет усомниться в ее важности. А я… я что ж… Действительно, что там может сделать вчерашняя лаборантка… Подумаешь, статья – велика важность! Все вы, мужчины, такие, и ты, Митя, ничем от других не отличаешься. Вы только на словах готовы распространяться о равноправии, а на деле этак снисходительно поглядываете на нашу работу. Явился, позвал, и я уже должна бежать за тобой. А моя работа не в счет…
– Ну вот, – сказал Решетников, – ты же еще и обиделась!
– Ну да, тебе даже в голову не пришло, что я могу обидеться.
Сейчас, рассерженная, обиженная, она казалась Решетникову еще привлекательнее, и еще труднее было ему смириться с мыслью, что он должен уйти один, ни с чем.
– Ладно, Рита, не будем ссориться, – сказал он. – Я не хотел тебя обидеть. Может, пойдем все-таки, а?
– Нет, Митя, нет.
И опять этот жесткий, непреклонный тон!
– Значит, не можешь?
– Не могу. И не смотри на меня так, пожалуйста. Оставайся, если хочешь, посиди, я буду работать.
– Нет, спасибо, – сказал он.
– Ну смотри, дело твое.
Он сбежал по лестнице, хлопнул дверцей такси. Давно ли он думал, что все просто и ясно в их отношениях! А просто ли?
Таня – та поняла бы его настроение. Ее всегда приводила в восторг всякая внезапность, неожиданность. Экспромт, сюрприз – это было в ее стиле, в ее характере.
На набережной он отпустил машину, пошел пешком. Постепенно он остывал, негодование его развеивалось. И в душе он начинал оправдывать Риту.
«Почему это я решил, что все должны подлаживаться под мое настроение? Я работаю – Рита никогда даже не заикнется, чтобы куда-нибудь пойти. А я пожелал – бросай все и беги…»
Но сам он в душе уже жалел, что так легко мирилась Рита с его занятостью – хоть бы раз возмутилась, попросила, потребовала, чтобы он освободил для нее вечер…
Ну и что бы он тогда ответил? Вот так, положа руку на сердце? – спрашивал себя Решетников. Разве не твердил он сам, что в науке чего-нибудь мало-мальски серьезного можно добиться лишь в том случае, если наука станет для тебя не обязанностью, не службой, даже не работой, а жизнью?.. Разве не говорил он об этом Рите? А как коснулось его, сразу разобиделся…
Он винил то себя, то ее, страдал от Ритиной холодности и тут же радовался, что завтра увидит ее…
Уже подходя к своему дому, Решетников нащупал в кармане пальто клочок бумаги. Вытащил, взглянул на него при свете фонаря. Это были два билета в кино. Он разорвал их и выбросил.
Утро – обычно самое спокойное, самое мирное время в лаборатории. И разговоры утром чаще всего ведутся домашние – о семейных заботах, о магазинах, о вчерашних телепередачах… Пока возишься с лабораторной посудой, пока не спеша готовишь к работе приборы, можешь узнать, что за кофточку купила вчера мама Вали Минько, какие новые таланты обнаружились у Машиной дочки, куда собирается этой зимой ехать кататься на лыжах Сашка Лейбович… Впрочем, последнее узнать труднее, поскольку Лейбович редко появляется в институте с утра. «Энгельс писал, – говорит он, – что во время работы над «Анти-Дюрингом» самые ценные мысли приходили ему по утрам, когда он лежал в постели. Обратите внимание – не когда мчался он на работу, не когда тискался в автобусе, не когда подбегал к лаборатории, а когда л е ж а л в п о с т е л и! Так что я всего лишь скромный последователь Энгельса». Сколько ни проходило в институте кампаний за укрепление дисциплины, сколько ни издавалось грозных приказов, а все равно рано или поздно все возвращалось к тому же, с чего начиналось. Кажется, одна только Фаина Григорьевна по-прежнему, как школьница, переживала из-за каждого своего опоздания, и все-таки опаздывала почти каждый день – прибегала запыхавшаяся, в волнении, старалась незаметно проскользнуть по коридору, испуганно спрашивала: «Алексей Павлович уже здесь?» Как будто таким уж грозным начальником был Алексей Павлович, как будто хоть одно суровое слово сказал ей когда-нибудь.
Сегодня утром Решетников нарочно пришел пораньше, чтобы спокойно поработать. Его обрадовало, что Валя Минько тоже была уже на месте, уже ждала его.
Нетерпение по-прежнему не оставляло Решетникова. Может быть, оттого он был так нетерпелив, что уверенность в удаче подстегивала, подгоняла его. Давно уже не испытывал он такой уверенности.
– Что день грядущий нам готовит? И верно, Валечка, что он нам готовит?
Он взял пробирку с первой контрольной пробой, осторожно опрокинул ее в кювету, сел за фотометр. Стрелка фотометра поползла к нулю…
Уже первые результаты ошарашили Решетникова. Он смотрел на колонки цифр, записанных в общей тетради, он пересчитывал все заново и ничего не мог понять. Даже по этим, пока еще черновым, необработанным, не приведенным в систему записям он видел, что все его расчеты летят к черту.
Он не верил своим глазам. Контрольные цифры и те цифры, которые он получил сейчас, почти не отличались. В ту самую мышечную ткань, которая вчера на его глазах разбухала от внутриклеточной воды, краситель проникал в столь же малом количестве, что и в обыкновенную мышцу! Это было необъяснимо, нелогично, невозможно. Это было так же фантастично, как если бы вдруг Решетников, положив в чай сахар, обнаружил, что в половине стакана чай сладкий, а в половине – нет.
Он заставил себя не торопиться. В конце концов, отчаиваться еще рано. Надо посмотреть остальные результаты. Хотя чутье уже подсказывало ему: изменений не будет.
Он работал так, как будто ничего не случилось, как будто все шло по плану. Тщательно снимал показания фотометра, выстраивал цифры в аккуратную колонку, но сам уже думал только об одном: в чем дело? Что это может значить?
Необъяснимость – вот что было самое худшее. Когда опыт не удался, когда он не подтвердил твоих предположений, но ты понимаешь почему, – это полбеды. Но вот когда ты не в состоянии понять, объяснить, когда ты голову готов дать на отсечение, что подобного результата не должно быть, не может быть, а он все-таки есть, он налицо – это самое скверное. Скорее всего это означает, что опыт был неверно задуман, что допущена ошибка, но в чем? Где ее искать? Какая ошибка, если все заранее было взвешено, все, что можно предусмотреть, предусмотрено?..
Когда Новожилов хаял Фаину Григорьевну, говорил, что нет в ее экспериментах идеи, мысли, Решетников – что греха таить – в душе соглашался с ним, а выходит, он и сам-то недалеко ушел от Фаины Григорьевны…
Валя Минько беспокойно, с участием посматривала на него. И в то же время надежда мелькала в ее глазах. Она ждала, что сейчас он встряхнется и скажет: «Ага, все понятно!» А что он мог сказать?
Интуиция не обманула Решетникова – и к концу дня, когда он уже завершал фотометрирование, картина не изменилась. Он устал, был раздражен, настроение у него упало.
В этот вечер он не стал задерживаться в лаборатории. Он собрал свои записи, он знал, что самое лучшее в таких случаях попытаться на какое-то время заставить себя не думать об опытах. Попробовать отключиться, а потом взглянуть на них, на эти колонки цифр, как бы заново, свежим взглядом. Во всяком случае, еще в юности, в школе, он всегда поступал именно так, если ему не давалась какая-нибудь задача. Но легко сказать – отключиться, если мысли о результатах, которые ты не в силах ни понять, ни объяснить, все равно не оставляют тебя! Попробуй заставь себя не думать. Ему было скверно еще и оттого, что сегодня-то он непременно надеялся увидеть Риту, горький осадок после вчерашнего дня еще давал себя знать. Но в лаборатории ее опять сегодня не было, а идти теперь к ней домой… Не было у него ни желания, ни настроения рассказывать о своей неудаче.
Главное, он вовсе не был уверен, что, если даже просидит сегодня, и завтра, и послезавтра над этими записями, что-то станет ему яснее. Решение редко приходит в тот момент, когда ждешь его, когда всячески стараешься получить…
И все-таки весь вечер в напрасной надежде – а вдруг осенит, а вдруг придет догадка, вдруг отыщется объяснение – ломал он голову над результатами опытов. Как ни уговаривал себя отвлечься, а все мысленно возвращался к ним, никуда ему было не деться.
И на следующий день, мотаясь по лаборатории, словно не зная, к чему приложить руки, думал о том же, и как ни крутил, как ни прикидывал, а все приходил к одной мысли: «Нет, не может быть, не должно быть».
И свыкся с этой мыслью, убедил себя.
Утром, повеселевший, сказал Вале Минько:
– А ну-ка начнем все заново. Не торопясь, спокойненько…
И опять так удачно, так точно по замыслу начинался опыт, так отчетливо, прямо на глазах, набухали лепестки мышц от внутриклеточной воды, что Решетников невольно начинал верить в успех. Хотя в глубине души уже знал, что обманывает себя.
Результаты оказались прежними.
Тогда, движимый уже упорством, тщетным стремлением переупрямить факты, он поставил опыты в третий раз. Он работал так, словно не сомневался в успехе. Кого он хотел перехитрить? Себя? Валю Минько?
Фотометрирование принесло те же результаты.
Необъяснимо!
Был поздний вечер, когда Решетников вышел из лаборатории. Он ощущал безразличие и усталость. Казалось, он уже готов был смириться и с неудачей, и с ее необъяснимостью.
Не спеша он шел по улице.
И как раз в тот момент, когда он меньше всего ожидал найти решение, догадка вдруг осенила его.
Как уловить это мгновение, этот переход, эту границу между «понятно» и «непонятно», эту малость, эту последнюю каплю, которой вдруг оказывается достаточно, чтобы наступила ясность?..
Теперь, едва догадка мелькнула в его голове, Решетников уже не мог понять, почему он шел к ней таким долгим путем. Так не раз бывало с ним в детстве. Когда долго рассматриваешь загадочные картинки, что-нибудь вроде «Найди охотника» или «Куда спрятался заяц?», когда вертишь картинку и так и этак – кажется, фигура упрятана художником так старательно, так тщательно, что ее никогда не найти. Но зато стоит только наконец обнаружить, разглядеть ее очертания – и она сама собой так и бросается в глаза.
Загадочная картинка… Сравнение это по своему несерьезному, забавному характеру совсем не соответствовало сейчас той истине, которая открылась перед Решетниковым.
Вся его работа, все то, что он делал последний год, – все было напрасно. Он пытался добиться результата, которого нельзя было добиться. Он стремился доказать мысль, которую нельзя было доказать.
Почему он не мог понять этого раньше? Почему не мог хотя бы допустить такого предположения? Конечно, сомнения иной раз приходили ему в голову, но он легко отбрасывал их. Откуда же была эта убежденность?
Оттого, что он так верил Левандовскому, что даже не допускал мысли, будто тот мог ошибаться? К потому так упорно старался отбросить все, что противоречило идеям его учителя? Впрочем, нет, не так уж слепо преклонялся он перед Левандовским, знал, прекрасно знал, что и у того бывали ошибки, что и он, бывало, выбирал неверный путь и потом возвращался и начинал всю работу заново…
Тогда отчего же?
Или так сильна в человеке способность принимать желаемое за действительное? Своего рода гипноз желаемого результата? Результата, который был для него важен и дорог, слишком важен и дорог, потому что он знал, как дорога́ была эта работа Василию Игнатьевичу Левандовскому…
Если бы не было этого гипноза, может быть, он не сейчас, этим вечером, а куда бы раньше понял, что те удачные опыты, которые проводил сам Левандовский, были лишь частным случаем, своего рода исключением, а Левандовский в своей нетерпеливости, увлеченности возвел эти случаи в общую теорию?.. Если бы не было этого гипноза, может быть, он куда бы раньше догадался, что те минимальные результаты, которые он получил на Дальнем Востоке, были лишь следствием методической ошибки?.. И разве не оттого он так легко поддался этой ошибке, что слишком хотел получить нужные результаты, слишком в них верил?.. Если бы не было этого гипноза, может быть, он куда бы раньше увидел, что все загадки, которые задавали ему его опыты с красителями, становятся объяснимыми, если принять точку зрения научных противников Левандовского.
И странно – первое, что испытал сейчас Решетников, была едва ли не радость оттого, что наконец-то разгадал он головоломку, нашел ответ, освободился от мучившего его ощущения неизвестности, необъяснимости.
Казалось, для того чтобы вся его работа, работа последнего времени, приобрела ясность, чтобы результаты, которые тяготили его своей неопределенностью, выстроились в единое целое, ему как раз и не хватало этой последней капли – тех опытов, которые он закончил сегодня.
А сколько времени потрачено понапрасну! Сколько усилий! Теперь что же, все начинать сначала? Отказаться от всего, что доказывал он с таким упорством?
Вот уж поистине – есть чему радоваться! Тревога и горечь разочарования пришли на смену минутной радости. Как будто разом лишился он всего, чем дорожил, и стоит теперь в растерянности, с пустыми руками…
Он вдруг сообразил, что завтра, или послезавтра, или несколько дней спустя – иначе говоря, рано или поздно – ему придется рассказывать о своем открытии в лаборатории. И как отнесутся к этому Алексей Павлович, и Мелентьев, и Фаина Григорьевна, и Лейбович, и Саша плюс Маша – все те, для кого имя Левандовского значило слишком многое?.. А Рита? Что они скажут? Какими глазами посмотрят на него? Особенно после этой истории с Андреем Новожиловым… Да и разве не отыщутся люди, которые тут же заговорят о бесполезности тех работ, что ведутся в лаборатории?..
«А Таня? – вдруг подумал он. – Как она отнесется к этому?» Раньше она, пожалуй, даже и не обратила бы внимания на то, что что-то не удалось ее отцу или его ученикам, но теперь… Еще помнил Решетников, с какой настойчивостью расспрашивала она о работах отца – словно старалась искупить перед ним свою вину…
А Трифонов?.. Ну, этот только усмехнется, скажет: я же предупреждал. И верно, ведь предупреждал – и не оттого, пожалуй, что Трифонов вдруг оказался умнее, прозорливее Решетникова, а оттого, что им не владел гипноз, желание во что бы то ни стало получить долгожданный результат, которое владело Решетниковым…
И снова мысли Решетникова возвращались к Левандовскому, и вдруг острая тоска о тех далеких днях, когда все еще только начиналось, о том вечере, когда вместе с Таней стоял он на вокзальном перроне, встречая Василия Игнатьевича, охватила его…
На другой день, с утра, едва придя в институт, Решетников заглянул в изотопную – не появилась ли Рита. Риты не было. Они так и не виделись с того злополучного вечера, и теперь Решетников решил позвонить ей на работу в институт Калашникова. Он попросит ее немедленно приехать. Он чувствовал, что ему необходимо поговорить с ней. Кто-то должен был разделить с ним его сомнения. У Риты трезвый ум, она поймет его.
Он долго не мог дозвониться. Телефонная трубка отвечала длинными равнодушными гудками. Ох уж эти институтские телефоны! Наверняка один аппарат на двадцать пять комнат и висит к тому же где-нибудь в самом конце коридора – никто не хочет бежать на звонок первым, бросать работу.
Наконец Решетникову ответил мужской голос:
– Маргариту Николаевну? Ее нет и не будет сегодня. Она уехала на конференцию в Подмосковье.
– Ах да! – сказал Решетников. – Спасибо.
Как он упустил это из виду! Рита же не раз говорила ему об этой конференции. А он совсем забыл. Сейчас она не преминула бы упрекнуть его в невнимательности, в пренебрежении к ее делам. Но почему она не зашла перед отъездом в лабораторию, не простилась с ним? Не успела? Или не захотела, считала себя с ним в ссоре? Впрочем, теперь все эти переживания уже не казались Решетникову столь значительными. Он был уверен – узнай Рита, о чем он хочет рассказать ей, и она бы сразу отбросила, забыла все обиды…




