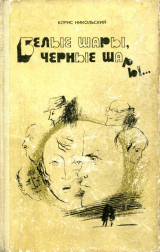
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Проснулся Решетников от телефонного звонка.
«Вот и начинается ленинградская жизнь», – сказал он себе, покосившись на часы.
Звонила Валя Минько. Как это набралась она решимости позвонить ему так рано – удивительно.
Решетников обрадовался, услышав в трубке ее тихий и всегда словно извиняющийся голос. После вчерашней встречи в аэропорту, после того как Валя видела его и Риту вместе, видела, что Рита пришла его встречать, Решетников испытывал такое ощущение, как будто владели они теперь с Валей одной тайной. И в то же время чувствовал он свою вину оттого, что так поспешно распрощался вчера с Валей, не успели даже поговорить…
– Митя, ты прости, я тебя разбудила, наверно. Я тебе вчера не хотела портить настроение, не стала говорить… А сегодня вот уже не выдержала. Митя, ты придешь сегодня в институт? Приходи обязательно. А то у нас тут такое надвигается, такое надвигается!
– Что же это у вас надвигается? – с ласковой снисходительностью шутливо спросил Решетников. Он знал Валину способность ко всему относиться с преувеличенной серьезностью.
– С Андрюшкой, с Новожиловым, неприятности. Я боюсь, Митя, за него.
Опять Новожилов! Что же еще стряслось с ним? Незадолго до отъезда Решетникова на Дальний Восток Андрей разводился с женой. Жена оставила его, сказала, что не хочет подлаживаться под его характер, не хочет вечерами сидеть одна, ждать, пока он соблаговолит вернуться из института, расстаться со своей лабораторией. Если кому это нравится, пусть нянчится с ним, а ей надоело.
– Митя, Андрея могут не утвердить на совете, выгнать из института!
– Ну, уж так сразу и выгнать… – все тем же тоном отозвался Решетников.
– Нет, ты не смейся, правда. Он совсем голову потерял. Он против Алексея Павловича хочет выступить. И вообще… Мы тебе не писали, чтобы не расстраивать, ждали, когда ты приедешь…
– Вот видишь, нельзя вас, оказывается, оставлять без присмотра.
– Ты все шутишь, – укоризненно сказала Валя, и даже слезы зазвучали в ее голосе. – А Андрею сейчас не до шуток.
– Ладно, Валюша, не сердись, – сказал Решетников. – Просто у меня хорошее настроение. Я приду.
Он попрощался с Валей и положил трубку.
«Неужели и верно что-то серьезное? – обеспокоенно думал он, собираясь на работу. – Еще только этого не хватало. Пять лет жили мирно, без вооруженных конфликтов – и вдруг… с чего бы это? Да нет, скорее всего понапрасну ударилась Валя в панику. Все в лаборатории давно уже замечают, что неравнодушна она к Андрею, вот и переживает за него, мерещатся ей всякие страсти. Да и Алексей Павлович не допустит столкновения, уладит».
А как ведь волновались, как спорили, когда после смерти Левандовского был назначен Алексей Павлович заведующим лабораторией – потянет ли, сумеет ли, разве это фигура по сравнению с Василием Игнатьевичем? Однако потянул, сумел. И даже мягкость, бесхарактерность, в которой прежде упрекали его, нередко вдруг оборачивалась достоинством. Бывало, не поладят между собой двое сотрудников, распалятся, придут жаловаться Алексею Павловичу. Впрочем, что значит придут, отдельного кабинета у него нет, всегда он на виду, вместе со всеми. Выслушает спорщиков, помолчит. «Значит, вы та́к считаете?.. А вы – та́к?» И опять помолчит, задумчиво пожует губами, проведет рукой по одутловатому лицу. Видно, страдает человек оттого, что должен принять чью-то сторону, кому-то отдать предпочтение. И неловко становится жалобщикам – да неужели и правда они сами между собой не могли договориться? «И вы считаете, что это очень существенно?» – осторожно спросит еще Алексей Павлович. А им и самим уже кажется, что несущественно… Да серьезных, принципиальных столкновений и не возникало пока в лаборатории.
Никогда не навязывал никому он своего мнения, был прост в обращении, и оттого дух равенства царил в лаборатории. Сам Алексей Павлович был пунктуален, в институте всегда появлялся точно к началу рабочего дня, но на то, что некоторые его сотрудники, допустим, тот же Лейбович, опаздывали, смотрел сквозь пальцы, знал, что Лейбович засиживается в лаборатории до поздней ночи. И когда начиналась в институте очередная кампания по укреплению дисциплины, когда представлял местком директору списки опоздавших, тут на Алексея Павловича сыпались все шишки… Вообще, он не умел разговаривать с начальством, сразу тушевался, не умел потребовать, ударить кулаком по столу, отстоять интересы лаборатории – это, пожалуй, было главным его недостатком.
Решетников любил наблюдать Алексея Павловича за работой. В белом халате, склонившийся с пинцетом над крошечными электродами, он казался похожим на часовщика. Делал он все обстоятельно, спокойно, молча. И весь опыт предпочитал проводить сам, даже препарирование не доверял лаборантам. «Когда биолог перестает работать руками, это первый шаг к тему, что скоро он перестанет работать и головой», – полушутя, как бы оправдываясь, говорил он.
…К институту Решетников подходил уже совсем успокоившись. В его портфеле позвякивали изящные баночки с дальневосточными консервами из трепангов – вот будет сюрприз к общелабораторному чаепитию. Эти чаепития устраивались в лаборатории ежедневно – во время обеденного перерыва все собирались на полчаса в одной из лабораторных комнат, и эти полчаса нередко заменяли то профсоюзное собрание, то веселый импровизированный капустник, то маленький научный симпозиум.
…По белой парадной лестнице вверх до третьего этажа, потом по коридору и снова по лестнице, уже боковой, невзрачной, и еще раз по коридору – спешил Решетников к своей лаборатории. Торопливо кивал знакомым, коротко и скупо отвечал на вопросы, ревниво храня радость возвращения, боясь растратить ее по мелочам.
Зато едва лишь ступил он на родную территорию, едва лишь заглянул в первую комнату, как раздался торжествующий вопль Лейбовича:
– Братцы, смотрите, кто явился!
Словно Лейбович и не встречал его вчера в аэропорту, словно вовсе и не ожидал увидеть сегодня в институте.
И сразу окружили Решетникова, затормошили, начали расспрашивать, и сам Решетников уже не скрывал, не сдерживал больше своей радости.
– Загорел!
– Да он, братцы, научную работу на пляже проводил! Воздействие ультрафиолета на кожный покров изучал! Знаю я Решетникова, он своего не упустит!
– И кальмары, смотри-ка, его не съели!
– Это он их съел!
– Серьезно, Митя, как работалось? Доволен?
– Не зря прокатился?
– А тут уже слух прошел, что ты, во-первых, отрастил бороду, во-вторых, женился, а в-третьих… Что, братцы, в-третьих?
– В-третьих пока не было! В-третьих еще будет!
Сколько раз вот так просовывалась в дверь чья-нибудь сияющая загорелая физиономия, и откуда бы ни возвращался человек – из отпуска ли, из дальней ли командировки, все дружно кидались его приветствовать. Потому что знали, как дорога и радостна для вернувшегося эта первая минута, это ощущение, что тебя помнили и ждали, что ты среди своих, что ты нужен… И сейчас все было как всегда. Ничего не замечал Решетников, что могло бы свидетельствовать о ссоре, о разногласиях, о напряженных отношениях в лаборатории. И Андрей Новожилов был вместе со всеми, красовался своей черной монашеской бородой, и Алексей Павлович, по своему обыкновению, стоял чуть в сторонке, близоруко щурился, улыбался Решетникову. Никогда ни у кого здесь, в лаборатории, не было привычки скрывать, таить свое недовольство, свое отношение друг к другу, и Решетников сразу бы угадал по лицам, если бы действительно что-нибудь произошло. Одна лишь Валя Минько тревожно и жалобно посматривала на него. Сама себе напридумывала страхов!
Но только откатилась волна первых восторгов, только добрался наконец Решетников до своего стола, до своего рабочего места, как Фаина Григорьевна – ее стол был рядом – негромко сказала:
– Вы слышали, Митя, что у нас происходит?
«Ага, все-таки есть. И видно, глубоко уже зашло, коли все так старательно делают вид, что ничего не случилось».
– Только краем уха, – сказал он. – А что?
– Митя, вы имеете влияние на Андрея. Поговорите с ним. Он уже переходит всякие границы. Андрей если закусит удила, так уже и не видит, и не слышат ничего, вы же знаете.
Да, Решетников знал. Иногда на Андрея вдруг находили приступы принципиальности, и тогда с ним было не справиться. И копья-то, кажется, не из-за чего ломать, дело выеденного яйца не стоит, а он упрется – и ни с места. Однажды, например, привезли в институт новую мебель. Таскать старые столы и шкафы вниз и новые вверх пришлось, конечно, самим сотрудникам. А Андрей с самого начала заявил: «Не буду, и все. Наймите грузчиков». «Это же, – говорит, – дико – научным работникам целый день таскать мебель. За границей никогда бы такого расточительства не позволили». Сколько ни уламывали его, сколько ни совестили: «Товарищи же твои таскают, как тебе не стыдно!» – так и не пошел.
– Что же все-таки случилось? – спросил Решетников.
– Весь сыр-бор разгорелся из-за штатной единицы, которую, кажется, дают нашей лаборатории. Алексей Павлович хочет взять на это место Мелентьева.
– Так Мелентьев же работает у Калашникова, – удивился Решетников. – И, по-моему, никуда переходить не собирается.
– Нет, нет, Митя, все уже изменилось. У него там неприятности. Мелентьеву полгода до пенсии, он чувствует, что его сразу попросят. В общем-то Алексей Павлович для него и хлопотал эту единицу. Мелентьев же старый сотрудник Василия Игнатьевича, порядочный человек, да вы сами знаете…
– А при чем здесь Новожилов?
– При том. Новожилов, видите ли, считает, что Мелентьева брать в лабораторию не следует.
– Почему?
Фаина Григорьевна пожала плечами.
– Спросите его сами. Но дело даже не в этом. Престо Андрей уже забывается. Пользуется мягкостью Алексея Павловича. Почему заведующий лабораторией, доктор наук, обязан отчитываться перед человеком, который до сих пор не сумел даже защитить диссертацию? У Андрея вообще очень шаткое положение. И вы, Митя, и Лейбович почему-то смогли защититься, хотя ситуация у вас была ничуть не проще…
– Ну, не велика заслуга, – сказал Решетников.
– Не прибедняйтесь, Митя, – сказала Фаина Григорьевна, – и не делайте вид, что вам все равно – быть кандидатом наук или не быть. И не думайте, что я так уж настроена против Андрея. Я всегда прощала ему его заскоки, вы это тоже прекрасно знаете. Он талантливый парень, но я опасаюсь за него. Эта история может кончиться для него плохо. Он уже настроил против себя чуть ли не весь институт. Думаете, Трифонов забыл ему те времена, когда они работали вместе? Я ничего не говорю, тогда он был прав, но Трифонов-то теперь член ученого совета – вот вам уже голос против. А потом эта дурацкая история с мебелью. А теперь это. Андрей как малое дитя, он думает, что его вечно будут терпеть, он ничего не хочет понимать. Ну какое ему-то дело, кого возьмет Алексей Павлович?
Решетников хотел еще кое о чем порасспросить Фаину Григорьевну, но тут всунулся Лейбович:
– Ну как, ввели товарища в курс дела? Остальное доскажет сам Андрей. Вот увидишь – борода устроит нам сегодня бостонское чаепитие! А теперь пошли, я тебе покажу, что я намудрил тут, пока ты путешествовал…
Лейбович оказался прав. Спор вспыхнул в обеденный перерыв, когда все собрались за чаем.
Решетников хорошо знал, что помимо основной работы, которая нередко была однообразной, нескоро давала видимые результаты, затягивалась надолго, в лаборатории всегда находилось еще что-нибудь, вокруг чего разгорались страсти, велись разговоры, строились предположения… Нынче это могло быть распределение дефицитных приборов между лабораториями, через месяц – создание в институте жилищного кооператива, еще через месяц – назначение нового ученого секретаря…
Сегодня такой «новостью номер один», такой точкой приложения лабораторных страстей была штатная единица.
Напрасно Валя Минько робко пыталась увести разговор в сторону, переключить внимание на Решетникова, на его консервы из трепангов – ничего не получилось.
– Алексей Павлович! – несколько торжественно начал Андрей. – Мне кажется, до сих пор мы всегда работали без всяких недомолвок. Разрешите мне и теперь быть откровенным?
«Он специально ждал моего приезда. Он рассчитывает на мою поддержку», – подумал Решетников.
– Ну разумеется… – отозвался Алексей Павлович. – Откровенность – это такая черта, без которой, думаю, просто трудно представить себе совместную работу… Вы правы, в нашей лаборатории всегда…
Все-таки он был очень терпеливый человек, Алексей Павлович. Мог ведь найти тысячу предлогов, чтобы уйти, не сидеть сейчас здесь, за этим столом, не выслушивать нападок Новожилова. Но у него тоже были свои принципы, свои убеждения, и, как ни тягостно было ему, при его характере, оказываться в подобных ситуациях, он считал, что научный руководитель не вправе уклоняться от острого, прямого разговора. А может быть, в глубине души он все же надеялся, что сегодняшнее чаепитие обойдется мирно, что сегодня – хотя бы ради возвращения Решетникова – пощадит его Новожилов. Но Андрей был настроен воинственно.
– Алексей Павлович, – спросил он, – это уже окончательно решено, насчет Мелентьева? Нам бы хотелось знать.
Алексей Павлович не смотрел на Андрея, глаза его были опущены вниз, к чашке с чаем.
– Собственно, такого решения еще не принято… Но…
Другой бы человек на его месте сказал просто: «Да, решено. И обсуждать больше нечего». А Алексей Павлович не мог так, не умел.
– Странная все-таки получается картина, – уже обращаясь ко всем сразу, сказал Новожилов. – Из одного института человека просят, там почему-то всем ясно, что наука от этого не пострадает, а мы вдруг раскрываем объятья – пожалуйста!
– Андрей Николаевич, вы не правы, – перебил его Алексей Павлович. – Я должен сказать, что Петр Леонидович последнее время работает очень активно, им опубликован ряд статей…
– Ну да, пережевывает то, что положил в рот десять лет назад!
– Андрей! – воскликнули в один голос Фаина Григорьевна и Валя Минько.
– Что Андрей? Вам но нравятся мои выражения? Вас волнует мой тон? А меня волнует судьба нашей лаборатории!
– Можно подумать, она волнует тебя одного, – вставил Лейбович.
Новожилов быстро обернулся на его голос:
– А что, неужели и тебя волнует? Тогда почему ты молчишь? Почему не скажешь, что лаборатории сейчас нужен вовсе не Петр Леонидович, каким бы добрейшим и прелестнейшим человеком он ни был! А нужен свежий человек, который разбирался бы в электронике, нужен физик, который пришел бы в биологию, – вот кого нам не хватает! И такие ребята сейчас есть. Это несколько лет назад они свою физику ни на что не променяли бы, а сейчас уже посматривают в сторону биологии – только позови! Поглядите, в Москве у кого из молодых самые интересные работы в биологии – у физиков! У кого самые любопытные, самые смелые идеи? У физиков! А хороший инженер-радиоэлектроник? Кто скажет, что он нам не нужен? А мы вместо этого пенсионеров подбираем!
– Андрей, не смейте так говорить! – рассердилась Фаина Григорьевна. – Нехорошо это, некрасиво. Петр Леонидович много лет работал вместе с Василием Игнатьевичем, и Василий Игнатьевич ценил его, вы отлично знаете. Хотя бы из-за одного этого вы не имеете права так говорить! Был бы жив Левандовский, разве бы он не пригласил к себе Петра Леонидовича?
– Я не люблю рассуждать о том, что было бы, если бы… – сказал Андрей. – Я говорю о том, что есть. А вы, Фаина Григорьевна, предпочитаете закрывать на это глаза и жить предпочитаете по старинке, как двадцать лет назад. Как будто время не движется, ничего не меняется. А сейчас, между прочим, уже не сороковые и даже не пятидесятые годы. Мы с вами уже к самой серединке шестидесятых годов двадцатого столетия подбираемся, многоуважаемая Фаина Григорьевна! И нельзя забывать об этом. Могу вас уверить: был бы жив Василий Игнатьевич – он бы давно уже понял, в ком с е г о д н я нуждается наша лаборатория!..
– А о человеке вы подумали? Вы подумали, каково человеку расставаться с любимой работой, когда он еще полон сил? Вы подумали, какая травма будет нанесена ему? Разве он заслужил это? Он всю жизнь был порядочным человеком, честным. Даже в самую трудную минуту он не отказался от Левандовского, он всегда называл его своим учителем. Разве вам мало этого? Кто же должен помочь ему, если не мы?
– Фаина Григорьевна, мы говорим на разных языках. Вы руководствуетесь альтруистическими побуждениями, я исхожу из интересов науки. Делайте ваши добрые дела, я с удовольствием помогу вам, только не за счет науки. Не превращайте лабораторию в богадельню.
– Вы просто жестокий человек, Андрей.
– А вы думаете, наука движется добренькими?
Обычно все споры, которые возникали за этим столом, как бы ни были они серьезны, велись полушутливо, с неизменными колкостями и остротами, и когда дело доходило до острот, тут уж не знали пощады, тут уж высмеивали друг друга почем зря – послушай человек со стороны, показалось бы, не миновать смертельной обиды. Они словно владели неким шифром, кодом, неким веселым искусством мистификации, лицедейства, которое было понятно только им самим и ставило в тупик постороннего.
А теперь, казалось, шифр этот был утерян ими, или сам Решетников вдруг превратился в человека, больше не владеющего тайной кода, – слова звучали совсем по-другому, не было в споре остроумия и легкости, раздражение все чаще прорывалось в интонациях, и все сидевшие за столом – и те, кто знал Андрея Новожилова уже давно, и те, кто пришел в лабораторию сравнительно недавно, – ощущали тягостную неловкость и потому с преувеличенной заинтересованностью обращались к своему чаю и бутербродам.
И раньше, бывало, не раз схватывались Фаина Григорьевна и Андрей Новожилов – слишком разные были у них характеры. Любил он ее поддразнивать – особенно когда речь заходила о его диссертации. «Поймите, Андрей, – говорила ему Фаина Григорьевна. – Вы же просто глупо себя ведете. Материал у вас есть, вам только надо заставить себя сесть за стол и написать. Вы просто ленитесь. Вы должны перебороть свою лень». Жажда опекать и наставлять все еще жила в ней. «Фаина Григорьевна, вы же должны мной гордиться, – отвечал Новожилов. – Я же самый сознательный человек в институте. Работу делаю ту же, что и кандидаты, а денег получаю меньше, А вы меня подбиваете, чтобы я этак на полгодика забросил работу и занимался писаниной. Кто же, выходит, из нас сознательней?» Такие шутливые перепалки тянулись иногда довольно долго, но никогда не превращались в серьезные раздоры.
– Во всяком случае, Василий Игнатьевич никогда не был жестоким человеком!
– Но и добреньким он не был, не правда ли? Особенно когда дело касалось науки.
– Добреньким, как вы выражаетесь, он, может быть, и не был. Но он был человечным. Человечным, Андрей, человечным.
– Не будем трогать Левандовского, – сказал Новожилов. – Такие люди, как он, исключение из правил. И потом вас, Фаина Григорьевна, все в область психологии тянет. К отвлеченным понятиям. А меня сейчас интересует реальная, практическая польза. Кто полезнее – вот как стоит вопрос.
– Ну, знаете ли, Андрей, так вы можете зайти далеко. Если принять вашу логику, завтра может появиться человек, который будет для лаборатории полезней, чем вы, так что же, вас выгонять прикажете?..
– А как же! – воскликнул Новожилов. – Конечно!..
– Ой, Андрюша, – сказала Фаина Григорьевна, – не искушайте судьбу…
– Только так, – в запальчивости говорил Новожилов. – Для этого, между прочим, и существуют конкурсы на замещение. Просто мы сами превратили их в комедию, в пустую формальность. Но вы мне так и не ответили на мой вопрос. Вы все время уклоняетесь. Кто полезней?
– Я не знаю, – сказала Фаина Григорьевна.
– Ах, вы не знаете? А я знаю. И Лейбович знает. И Решетников знает. Митя, правда, ты знаешь? Что же ты молчишь, Митя? Ты скажи!
Он один сейчас главенствовал за этим столом – раскольник, обличитель, мученик, готовый под батоги лечь за свои убеждения, куда уж до него Алексею Павловичу! Есть люди, которые обладают способностью быть незаметными – ни лишнего слова не произнесут, ни лишнего движения не сделают, чтобы не привлечь к себе внимания. Алексей Павлович был как раз таким человеком. Он совсем стушевался, затих, бесшумно попивал свой чаек, беззвучно, одними глазами благодарил Валю Минько, когда она предлагала подлить еще.
– Что же ты молчишь, Решетников? – повторил Андрей.
Решетников колебался. И прост и непрост был тот спор, который вели между собой Новожилов и Фаина Григорьевна. Слушая их, Решетников все время испытывал чувство раздвоенности. Все, что говорил сейчас Новожилов, не было для него новостью – сто раз уже будоражил Андрей лабораторию этими своими разговорами. Физика, электроника – его старый любимый конек. Да и первооткрытия тут никакого не было, и ниспровержения основ – тем более: все верно, и спорить, кажется, не о чем. Вроде бы прав Андрей, кругом прав. И староват Мелентьев, и повторяется иной раз в своих работах, и поди-ка к тому же разберись, что он сам сделал, а что его соавторы, когда над каждой статьей по пять фамилий стоит… Все правильно, нечего возразить. И все-таки сердце его не хотело смириться, протестовало против подобной логики. Чувствовал он скрытую неправоту в словах Новожилова, только не мог ухватить, нащупать ее.
Мелентьев был оппонентом Решетникова во время защиты. И, между прочим, маленькие знаки вопроса, осторожно, бледным карандашом проставленные Мелентьевым на полях решетниковской рукописи, не были такими уж безобидными. Так что в умении заглянуть поглубже ему не откажешь. И в добросовестности тоже. Примерно за неделю до защиты он пригласил Решетникова к себе домой поподробнее поговорить о диссертации. Жил он одиноко, только две беспородные собачонки бегали по его квартире. «Знаете, привязался к своим подопытным, – как бы извиняясь, сказал он, – одна из них обречена была, чудом выжила. Опыт кончился – что делать? – забрал их к себе. Пусть живут, заслужили». И сразу вспомнил тогда Решетников Левандовского, их последний вечер, прогулку и доску объявлений: «…отдам собаку в хорошие руки…» У Мелентьева же впервые увидел Решетников пожелтевшую от времени любительскую фотографию. На ней был запечатлен сам Мелентьев, худой, сутулый, в красноармейской форме, в ботинках с обмотками, в очках. Рядом с ним, тоже в гимнастерке и галифе, стоял грузный и уже немолодой человек, в котором не сразу Решетников узнал Левандовского. Это был июль или август сорок первого. Народное ополчение.
И вдруг показалось Решетникову, что он наконец понял, в чем не прав Новожилов.
– Знаешь, Андрей, – сказал он. – Мне кажется, так рассуждать, как рассуждаешь ты, нельзя. Ты все хочешь оторваться от живого человека, от его судьбы, от его отношений с другими людьми. А все это взаимосвязано. Ты хочешь, чтобы мы решали твою задачу абстрактно, в чистом виде. А в жизни так не бывает. И в науке тоже. Потому что наука – это тоже ведь жизнь. Как бы тебе сказать лучше… Ведь от того, какая у нас будет атмосфера в лаборатории, добры мы будем или себялюбивы, внимательны или пренебрежительны, жестоки к тому, кто потерпел неудачу, – от этого тоже будет зависеть наш успех…
– Что-то туманно, – сказал Андрей. – Ответь лучше прямо: если бы пришлось решать тебе лично, взял бы ты в лабораторию Мелентьева?
Он, казалось, совсем уже забыл о присутствии Алексея Павловича, не думал даже, что ставит того в неловкое положение, что задавать такой вопрос при заведующем лабораторией – бестактно. Решетникова покоробила эта его бесцеремонность. Но вопрос был задан, и на него надо было ответить.
– Да, – сказал он. – Взял бы.
– Поздравляю! – язвительно воскликнул Новожилов.
И тут в разговор вмешался Алексей Павлович.
– Видите ли, Андрей Николаевич, – тихо, по-прежнему не отводя глаз от своих веснушчатых рук, покоившихся на столе, сказал он, – вы абсолютно правы, когда ставите вопрос о необходимости привлечения в лабораторию новых, свежих сил, людей с физическим и инженерным образованием… И мы обязательно будем думать, что тут можно сделать… Вы правы… Но сейчас… видите ли… Петр Леонидович для нас ценный человек… Разумеется, и у него, как и у каждого из нас, есть свои недостатки, но все-таки… его опыт… Вот и Дмитрий Павлович, оказывается, придерживается такого мнения.
– Ясно, все ясно, – сказал Новожилов. – Вот за что люблю вас, Алексей Павлович, так это за то, что вы м я г к о с т е л е т е…
Он сказал это весело, и было непонятно, то ли это не совсем удачная шутка, но все таки шутка, приглашение к примирению, то ли насмешка…
Решетников поморщился. Не любил он этой пришедшей в последнее время моды, этой манеры резать правду-матку в глаза человеку, который из деликатности, из такта не может ответить тебе тем же.
Чаепитие закончилось, все стали подниматься из-за стола, Валя Минько и Маша принялись убирать чашки.
Алексей Павлович взял Решетникова под руку, они рядом пошли по коридору.
– Вот видите, какие страсти… – с искренним огорчением сказал он. – Я думал, мы сегодня вас послушаем… Ну бог с ним, неприятно, конечно, но все перемелется, утрясется… Как ваша работа? Довольны? Мы тут наметили ваше сообщение поставить на семинаре.
– Не знаю пока… – сказал Решетников. – Надо подумать. Смущают меня некоторые результаты…
Он начал рассказывать Алексею Павловичу о своих сомнениях, о последних неудачных опытах. Алексей Павлович слушал его внимательно, с интересом, чуть наклонив голову. Потом задумчиво пожевал губами.
– Ну что ж, первая серия ваших опытов, по-моему, очень любопытна. Краситель сорбируется протоплазмой – вот что для нас важно, не так ли? Вас смущает, почему в столь незначительных дозах? Учтите специфические свойства внутриклеточной воды. Вы же знаете, именно спецификой воды Василий Игнатьевич объяснял подобные явления. Так что ваши опыты только подтверждают эту точку зрения. Ну, а что касается последних результатов, тут, я думаю, ошибка. Иного объяснения я не могу найти. Пока, во всяком случае. В общем, готовьтесь, докладывайте, на семинаре обсудим все детально.
К концу дня Решетников отправился в библиотеку. Не терпелось ему добраться до свежих журналов, которых уже немало накопилось, пока он был на Дальнем Востоке.
В библиотеке он столкнулся с Новожиловым. Тот, стоя у стенда новинок, просматривал английский журнал.
– И ты, Брут? – сказал он. – Но тебе-то как раз простительно: отстал от жизни на своем острове, оторвался, одичал. А Фаина-то наша какова? Она же себя защищала, неужели ты не понял? Она же тут будет до пенсии сидеть, место занимать. А что толку? Она сто опытов может поставить, двести, а спроси – зачем, начнет бормотать что-то невнятное. У нее же ни одной идеи нет, она же все время ждет, что ей Алексей Павлович скажет. Ну что ты так смотришь на меня, ты же сам это знаешь.
И верно, и Решетников, и другие сотрудники лаборатории знали, что Фаина Григорьевна звезд с неба не хватает. Ну что ж делать, не всем же дается талант, да и вряд ли наука может обойтись без простых исполнителей. А усидчивости, старательности ей не занимать. И до сих пор та дружба, которая связывала всех их, та вера, что все они служат единой цели, не позволяла им ставить одного человека выше другого, не позволяла о ком-то говорить плохо. И вот Андрей Новожилов первым сейчас нарушил этот запрет.
– Она только тем и держится, что работала вместе с Левандовским, это же всем ясно…
…Словно первый камень полетел с горы, и ты стоишь у подножия и, задрав голову, смотришь, как скачет он по склону, и ждешь, затаив дыхание, начнут ли вслед за ним срываться другие камни, повлечет ли он лавину, или так и скатится вниз один…







