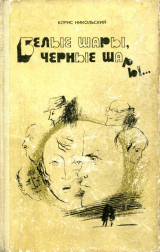
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
А Творогов в те минуты ощущал лишь одно: как болезненно разрастается, захватывает все его существо чувство обиды. Оно, это чувство, было тем сильнее, что не находило выхода, что он не мог высказать его немедленно, тут же, на семинаре.
Зато с какой страстью, с какой жестокой горячностью накинулись они все – и Творогов, и Вадим Рабинович, и Валя Тараненко – на Синицына, едва только остались одни в своей уже начинающей приобретать известность, уже становящейся знаменитой двадцать седьмой комнате.
– Ну ты, старик, даешь! – сказал Вадим Рабинович. – Мог бы, между прочим, хоть с нами посоветоваться. Предупредить нас, что ли.
– Предупредить? Зачем? Что ему мы! – сразу же подхватила Валя Тараненко. – Это мы о нем думаем, беспокоимся, голову ломаем, как ему помочь, переживаем, а ему, оказывается, на все на это ровным счетом наплевать…
– Я же говорил вам, ребята, я же предупреждал, – примирительно сказал Синицын. – Вы, что, не помните?
И правда, однажды он вроде бы намекал, вроде бы пробовал заикнуться о том, что, мол, не станет тратить время на всю эту напрасную, никому не нужную писанину, на защиту. «Игра не стоит свеч, зачем же свечи жечь?» – что-то в таком роде действительно говорил он, но кто же мог принять всю эту трепотню всерьез? Кто же мог подумать, что слова эти, шуточки эти – первые предвестники бунта, что они обернутся столь серьезным образом?
– Нет, ты понимаешь, что ты сегодня сделал? Ты понимаешь? – говорила Валечка Тараненко, и глаза ее блестели от обиды и бессильной ярости. – Ты нам, нам всем надавал пощечин! Это ты нам сказал сегодня: вы ничего не стоите вместе со всей вашей научной работой, со всеми вашими диссертациями, будущими и настоящими, все это – чушь собачья… И только ты один это понимаешь, ты один имеешь мужество признаться в этом!..
– Погоди, погоди, Валечка. Разве не ты сама, наш комсомольский вождь, учила меня говорить всегда только правду? Я откровенно высказал сегодня то, что думаю. Ничего больше.
– Но неужели ты не чувствуешь, как отвратительно быть нескромным?
– А кто сказал, Валечка, что ученый должен быть скромным? Кто дал такое указание?
– Ну, если ты даже этого не понимаешь!
– Представь себе, даже этого не понимаю.
– И очень печально.
– Не знаю, может быть, и печально, но не понимаю! Не дано. Ах, какие мы хорошие, какие скромненькие! А сплошь и рядом за этой скромностью скрывается лишь душевная робость, неумение мыслить самостоятельно, боязнь риска, преклонение, приниженность перед авторитетами, зависимость от них!..
– Для тебя, конечно, авторитетов не существует, ты сегодня блестяще доказал это. Для тебя и Федор Тимофеевич из авторитет.
– Да, Валечка, как ни ужасно тебе это слышать, не авторитет.
– Ты зарываешься, Женька, ты зарываешься! – сказала Валя Тараненко, и отчаяние прозвучало в ее голосе. – Тебе может не нравиться характер Федора Тимофеевича, ты можешь острить сколько угодно над его манерами, но ты не можешь не считаться с его научным авторитетом, с его опытом, наконец. Он один из самых известных ученых в нашем институте…
– Был, – сказал Синицын. – Ко всему этому, Валечка, нужно добавлять слово «был». Знаешь, как твой Федор Тимофеевич работает сегодня? По методу моего отчима. Когда у отчима ломается радиоприемник или телевизор, он начинает крутить все ручки подряд, менять одну за другой все лампы, тыкать наугад во все сопротивления и конденсаторы – авось что-нибудь выйдет. Иногда выходит. И оттого у нас в доме он считается большим специалистом по части радиотехники.
– Ты, оказывается, еще и жестокий человек, Синицын! – Валя говорила и в то же время пыталась отвернуться от Синицына, спрятать свое лицо, чтобы он не увидел копившиеся в ее глазах слезы.
– Я кажусь тебе жестоким только потому, что говорю правду, – сказал Синицын. – Видишь ли, Валечка, ученый, уже утративший умение работать, выдавать идеи, но еще обладающий авторитетом, гораздо опаснее, чем просто ученый, не умеющий работать. Вот в чем штука.
– Почему ты присваиваешь себе право судить людей, которые намного старше и опытнее тебя? Откуда в тебе такая самонадеянность и высокомерие? Откуда?
– А отчего мне не быть самонадеянным, Валечка? Если я действительно надеюсь прежде всего на себя, на свои руки, на свою голову? Если я чувствую, что могу сделать куда больше, чем с меня требуют? Разве это плохо? А когда я прихожу к Краснопевцеву со своими мыслями, со своими предложениями, он смотрит на меня так, словно даже не понимает, чего я хочу. А может быть, и правда, не понимает, не знаю… Вот что самое печальное. Я же не против: занимайтесь своими инфузориями, облучайте их ультрафиолетом, в этом есть польза, кто же спорит, только не выдавайте эту свою работу за титанический научный труд.
– Спасибо, что разрешил, Женечка, спасибо.
– Пожалуйста, – с легким поклоном отозвался Синицын.
– Ну что ты за человек! – в досаде воскликнула Тараненко. – С тобой серьезно, а ты… Почему, ну почему ты не можешь работать, как все люди, почему тебе обязательно надо все осложнять, портить, разрушать?.. Ты, что, воображаешь – Краснопевцев будет с тобой церемониться? Да ему достаточно пальцем шевельнуть, чтобы ты тут же вылетел из института! Понимаешь ты это? Ты сейчас пользуешься его добротой, его расположением, ты знаешь, что он ценит тебя, хорошо к тебе относится, и потому думаешь, что тебе все можно, все позволено, так, что ли? Но ты уверен, что он вечно будет терпеть твои выходки? Ты ведь сейчас что-то значишь только потому, что работаешь у Краснопевцева, только потому, что отсвет его авторитета, его имени падает и на тебя… А ты вместо благодарности кусаешь руку, которая тебя кормит!..
Казалось, Тараненко нарочно старалась побольнее задеть Синицына, нарочно испытывала его самолюбие и гордость, нарочно старалась вывести его из себя, но он только поглядывал на нее с усмешкой и любопытством.
– Вот погоди, Синицын, вылетишь как миленький из института. Куда ты тогда пойдешь, что будешь делать? Сто раз пожалеешь тогда, да уже поздно будет!
– Валечка, если я вылечу из института и останусь без работы, я буду приходить обедать к тебе, надеюсь, ты не откажешь несчастному в тарелке супа?..
– Тебе бы только издеваться надо всеми, Синицын! – Слезы вдруг прорвались в ее голосе, и Валечка Тараненко выскочила из комнаты.
Как не догадался Творогов тогда, сразу же, как не понял, что и горячность эта, и слезы имели самое простое объяснение. Как не раскрыл он эту маленькую тайну до тех пор, пока Лена не сказала ему: «Да они же любят друг друга, ты что, не видишь?» Как не понял он тогда, сразу же, что Валечка Тараненко, уверенная в себе, всегда знающая, как следует поступать, не ведающая сомнений Валечка Тараненко плачет оттого, что уже предвидит свою будущую судьбу и свое бессилие что-либо изменить в ней…
Обычно чаще всего Творогов возвращался домой вместе с Синицыным, иногда к ним присоединялись Валечка Тараненко и Лена Куприна. Творогов любил эти вечерние общие прогулки – у них всегда находилось, что обсудить, над чем посмеяться, о чем поспорить, – казалось, мало им было рабочего дня. Но теперь Творогов чувствовал: за тот час с небольшим, который провели они на лабораторном семинаре, что-то незаметно сдвинулось, изменилось в их отношениях и нужно было время, чтобы преодолеть холодок отчуждения, возникший между ними.
В этот день Творогов вышел из института вдвоем с Леной Куприной.
На улице было ветрено и сыро. Ветер налетал сильными порывами, тревожно раскачивал уличные фонари. Пронзительно взвизгивая сиреной, мигая слепящим синеватым светом, одна за другой куда-то пронеслись две пожарные машины, еще усилив безотчетное ощущение тревоги.
Творогов и Лена шли молча. Он взял ее под руку, и она доверчиво прижалась к нему, словно пытаясь укрыться от ветра. Обескураженные, сбитые с толку, взволнованные всем, что произошло сегодня, они оба нуждались сейчас друг в друге, оба нуждались – пусть в молчаливой – поддержке и понимании.
Там, в лаборатории, во время спора Синицына и Тараненко Лена не произнесла ни слова, только лицо ее поблекло, осунулось, стало некрасивым. Но сейчас, на улице, на ветру, пока они шли рядом, она, казалось, начала оживать, даже обычно бледные ее щеки слегка разрумянились, порозовели.
– Куда мы так мчимся? – вдруг спросила Лена.
– Не знаю… – смущенно пробормотал Творогов.
Обычно, когда Творогов гулял по городу вдвоем с Зоей, они шли не спеша, подолгу задерживаясь у освещенных витрин магазинов и подъездов кинотеатров, рассматривая рекламы и афиши. А сейчас с Леной Куприной они шли, выбирая тихие, безлюдные улицы, шли торопливо и целеустремленно, словно опаздывали или спасались от кого-то бегством.
Они замедлили было шаг, но вскоре Творогов обнаружил, что они снова идут все с той же прежней поспешностью. Что гнало их в тот вечер? От чего пытались они уйти? Куда спешили?
По каким улицам и переулкам, мимо каких домов шли они тогда, потом Творогов не мог уже вспомнить. Он только помнил точно, отчетливо, как останавливались они возле старого пятиэтажного дома, где жил он с родителями до войны, еще совсем маленьким ребенком. Огромная, несуразная квартира, огромная, безалаберная, неповторимо странная семья! Нынче таких семей уже не бывает. Во время блокады умер старый профессор, дед Творогова, и война разметала, разбросала всю семью по разным городам и весям, больше никогда уже не суждено было ей собраться вместе…
Творогов рассказывал Лене о своем детстве, о том, таком далеком и таком счастливом времени, она слушала его, притихнув, и печаль понимания видел он в ее глазах…
Был уже поздний час, когда Лена и Творогов наконец добрались до ее дома. Это был район новостроек, бугристый, еще не заасфальтированный проезд вел к пятиэтажному блочному дому, который отчетливо белел в темноте. Посередине проезда маячила одинокая мужская фигура.
– Это мой папа, – с виноватым оттенком в голосе сказала Лена. – Он всегда меня встречает, если я поздно возвращаюсь.
И Творогов внезапно ощутил легкий укол ревности. Здесь пролегала граница, здесь была своя жизнь, свой мир, со своими, пока неведомыми ему законами, привычками и обычаями. Но в то же время даже одно это прикосновение к прежде скрытой от него стороне Лениной жизни побуждало его еще сильнее тянуться к ней, еще острее чувствовать ее своим, близким человеком.
– Познакомься, – сказала Лена отцу. – Это Творогов, я о нем тебе рассказывала.
– Очень приятно, – отозвался тот, без особой, впрочем, радости, протягивая Творогову руку.
Они стояли на продуваемом ветром пустыре, перед домом, не зная, о чем говорить дальше, испытывая неловкость.
– Иди, папа, домой, – мягко, но решительно сказала Лена, и Творогов удивился этой, казалось бы, совсем не свойственной ей решительности. Потом, позже, он еще не раз все с тем же удивлением убеждался а том, что эта, такая тихая, такая застенчивая на первый взгляд девушка умеет быть решительной. Еще как умеет!
– Иди, папа, не беспокойся, – повторила Лена. – Как видишь, я под надежной охраной.
И отец Лены покорно повернулся и пошел к дому.
А Творогов, который уже успел мысленно распрощаться с Леной, уже успел с тоскливой отчетливостью представить, как уходит она от него вместе с отцом, а он остается в одиночестве по эту сторону невидимой границы, сразу ощутил, как захлестнула его волна нежности и благодарности к этой девочке. Лена же, подняв к нему лицо, смутно освещенное отблесками, падающими из окон, казалось, спрашивала одними глазами: «Ты доволен? Доволен?»
Она совсем продрогла на ветру, и, немного помедлив, они вошли в парадное. Здесь, под потолком тускло горела лампочка, и Творогову сразу бросилось в глаза ругательство, косо нацарапанное на побеленной стене. Творогов повернулся к стене спиной, встал так, чтобы закрыть эти крупные, кривые буквы от Лены. Может быть, это было наивно – разве не проходила, не пробегала Лена здесь каждый день? – но Творогову ничего не хотелось сейчас так сильно, как суметь защитить, отгородить Лену от всего низкого, дурного, нечистого…
В парадном было тепло, тишина стояла на лестнице, никто сейчас не нарушал этой тишины. Как будто все, кто жил в этом доме, ушли, исчезли или погрузились внезапно в глубокий сон, чтобы не мешать им, чтобы оставить их вдвоем.
И еще даже не дотронувшись до ее руки, до ее худеньких, теплых пальцев, желая и еще не отваживаясь обнять, притянуть ее к себе, еще не прикоснувшись губами к ее холодной, хранившей запах влажного ветра щеке – или все это уже произошло, было? – Творогов чувствовал, как перехватывает у него дыхание, как темнеет в глазах от волнения и нежности. Никогда больше – ни в те дни, ни потом – не испытывал Творогов такого сильного, такого пронизывающего чувства, какое испытал тогда, когда они стояли в этой маленькой, плохо освещенной, невзрачной парадной, еще не решаясь ни распрощаться, ни шагнуть навстречу друг другу…
…Домой Творогов возвращался пешком. Легко и свободно было у него на душе. Но даже в эти минуты, весь поглощенный мыслями о Лене Куприной, еще сохранявший перед глазами ее лицо, еще продолжавший мысленно говорить ей те слова, которые не произнес сегодня, он убеждал себя, он тешил себя иллюзией, будто его отношения с Зоей останутся такими же ясными и неизменными, как и прежде, будто он сумеет ничем не нарушить свои – пусть не высказанные ни разу вслух, но все же существующие – обещания… Словно Зоя и Лена обитали в двух совершенно различных измерениях, словно сам он обладал двумя параллельными независимыми жизнями, которым никогда не суждено было пересечься…
В том, что это была только иллюзия, только самообман, он убедился очень скоро. Он метался между двумя женщинами, с отчаянием понимая, что, какое бы решение ни принял, одной из них он все равно вынужден будет причинить боль.
Это был счастливый и нелегкий период в его жизни. И наверно, оттого, что он был так поглощен тогда своими личными переживаниями, своими сомнениями и колебаниями, на время он словно бы упустил из виду Женьку Синицына, да и сам Женька, казалось, не торопился посвящать его в свои дела и замыслы, не торопился растопить тот ледок отчуждения, который возник между ними после семинара…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
– Нет, Константин Александрович, я возражаю. Возражаю самым решительным образом, – говорил Осмоловский, набычившись, глядя исподлобья на Творогова. – Я вообще не понимаю, как этот вопрос можно было решать без моего ведома и согласия. А согласия я никак не могу дать. Что хотите со мной делайте, но не могу…
Дмитрий Иванович Осмоловский был из тех людей, кто, подобно конденсатору, постепенно, но неуклонно накапливает в себе заряд возмущения, кто долго готовится, собирается возразить, долго колеблется, прежде чем пойти к начальству, вступить в спор, но зато уж, набравшись однажды решимости, утвердившись в своей правоте, отстаивает свою точку зрения с таким упрямством и непреклонностью, что пытаться переубедить подобного человека оказывается делом почти безнадежным.
В этот раз речь опять шла о Зиночке Ремез. В Киеве намечался симпозиум молодых ученых, занимающихся проблемами флюоресценции клетки, и несколько сотрудников института были приглашены туда, в том числе и Зиночка Ремез. Не говори Зиночка об этом каждый день, не обсуждай это событие со всеми сотрудниками института, не радуйся так бурно предстоящей поездке, может быть, Осмоловский и смирился бы и промолчал. Но Зиночка не умела скрывать своей радости, вся лаборатория всегда была в курсе всех ее переживаний и волнений, всех надежд и разочарований.
– В прошлый раз, когда проводилась школа молодых специалистов в Минске, – продолжал Осмоловский, – вы знаете, как вела себя Ремез? Она половину семинаров сочла возможным пропустить, все бегала по магазинам. И теперь, я уверен, в Киеве повторится та же история.
Он по-прежнему исподлобья смотрел на Творогова, и что-то знакомое промелькнуло в его взгляде. Женьку Синицына – вот кого напомнил он сейчас Творогову! Или Творогов просто все время подсознательно думал о Женьке и оттого померещилось ему это сходство?
– Да, я с вами согласен, Дмитрий Иванович, – сказал Творогов. – Меня самого всегда возмущают, коробят подобные факты, Вы знаете, ведь до смешного порой доходит! Я тут как-то заглянул днем, во время перерыва, в «Пассаж» и вижу: мне навстречу все попадаются люди с одинаковыми значками. Пригляделся – а это участники съезда одного довольно солидного научного общества, не буду уж уточнять – какого. И ведь наверняка знаю: у них в это время идет заседание. Ну хоть бы эмблемы свои сняли, честное слово! И смех и грех!
Осмоловский покачал головой, и его закаменелое лицо стало понемногу расслабляться, отсвет улыбки пробежал по нему.
– Но вот что касается Ремез… – продолжал Творогов. – Я, откровенно говоря, не знал об этом факте. Вы ведь после Минска не рассказывали мне об этом, не правда ли?.. Нет, нет, нет, – заторопился он, не давая Осмоловскому вступить в спор, – я вовсе не к тому, чтобы оправдывать Ремез. И, разумеется, если теперешнее решение было принято без вашего ведома, это не дело, я разберусь, как это могло произойти…
Творогов понимал, что в принципе Осмоловский прав в своем возмущении, но попробуй скажи сейчас кто-нибудь Зиночке, что она не поедет, и Зиночка потоками слез затопит всю лабораторию! Да и защитники у нее найдутся сразу же, тот же Корсунский побежит хлопотать за нее. Такие страсти разгорятся, не дай бог! Работать некогда будет. Поэтому подобные конфликты Творогов всегда старался гасить, сглаживать в самом начале, едва только они зарождались.
– Я, кажется, догадываюсь, почему так получилось: ведь это была не наша инициатива. Ремез получила приглашение. Почему бы не поехать, раз приглашают? Я понимаю, вы правы, Дмитрий Иванович, но, может быть, не стоит копья ломать, если так все получилось? Честное слово, больше шума будет, чем толку, себе дороже. А так я поговорю с Зинаидой Павловной, предупрежу ее. Ну, а в следующий раз непременно учтем ваши соображения… А, Дмитрий Иванович? Честное слово, так лучше будет…
– Все равно позвольте мне остаться при своем мнении, – упрямо проговорил Осмоловский.
– Я и не настаиваю на том, чтобы вы его меняли, – сказал Творогов. – И могу повторить еще раз: я вас очень хорошо понимаю, Дмитрий Иванович. Я всегда очень ценил и ценю ваше мнение, вы это знаете. И если как-то так вышло, что с вами вовремя не посоветовались, это чистое недоразумение, никакого умысла здесь не было, поверьте.
Творогов не кривил душой: при всем максимализме Дмитрия Ивановича Осмоловского, при всей его категоричности, непримиримости, пожалуй, не было другого человека в лаборатории, кем бы так дорожил Творогов.
Кажется, ему все-таки удалось успокоить Осмоловского. Теперь, не откладывая, следовало поговорить с Зиночкой Ремез. Но только было Творогов вознамерился проделать эту операцию, как его вызвал к себе директор.
Впрочем, слово «вызвал» здесь менее всего подходило. У директора института, Антона Терентьевича Антонова, или Антея, как сокращенно именовали его между собой сотрудники, была оригинально-демократичная манера приглашать к себе в кабинет. Обычно он не прибегал для этого ни к посредничеству секретарши, ни к помощи телефона. Он сам шел в лабораторию, разговаривал там с сотрудниками, интересовался результатами последних экспериментов, а потом, словно бы между прочим, словно бы извиняясь, говорил заведующему: «Константин Александрович, если у вас есть время, может быть, мы ненадолго уединимся с вами? Где удобнее нам поговорить – может быть, у меня в кабинете?» Он словно бы стеснялся своего директорского положения, словно бы всячески старался подчеркнуть, что он – прежде всего такой же ученый, научный работник, как и все остальные, а уже потом – администратор. Да и во внешнем его облике почти не было ничего директорского, начальнического – сухощавый, невысокого роста, со светлыми, будто выгоревшими на солнце волосами, какие бывают у деревенских ребятишек летом, он в свои пятьдесят с лишним лет выглядел худеньким парнишкой, пытливо и требовательно вглядывавшимся в своего собеседника.
– Так что же за пиратское судно движется в наши воды, а, Константин Александрович? – спросил Антон Терентьевич, едва они оказались вдвоем в его кабинете. – Ко мне тут заглядывал Илья Семенович, он порассказал кое-что. Это действительно что-то серьезное?
– Нет, – сказал Творогов. – Не думаю.
– У меня, в общем-то, тоже такое впечатление. Значит, вы уверены, никаких неожиданностей не будет? Не накидают нам черных шаров?
– Ну, от неожиданностей никто не застрахован, – засмеялся Творогов. – Вы сами это знаете, Антон Терентьевич, не хуже меня. Но мне кажется, все будет нормально.
– Так, так, так… – похлопывая ладонями по подлокотникам кресла, точно выбивая какой-то простенький мотив, проговорил Антон Терентьевич. – А диссертация Боярышникова, говоря между нами…
Он сделал паузу, выжидающе глядя на Творогова, как будто давая ему возможность самому подобрать нужное слово.
– Вы хотите сказать: могла бы быть и посильнее?
– Вот именно. Вы тоже так считаете, Константин Александрович?
Творогов пожал плечами.
– Антон Терентьевич, вы же знаете, за последние три года из моей лаборатории вышло четыре кандидатских и одна докторская. И среди них – вы тоже это знаете – есть очень и очень любопытные работы. Но все работы не могут быть на одном уровне. Одни – сильнее, другие – слабее, это естественно, это живой процесс…
Отчего вдруг так близко принял он к сердцу замечание директора? Отчего обида непроизвольно прорвалась в его голосе? Уж не сам ли с собой он сейчас спорил? Не сам ли себя пытался успокоить?
– Константин Александрович, ну что вы, милый? – укоризненно сказал Антон Терентьевич. – Я же пригласил вас не для того, чтобы вы отчитывались передо мной, и уж тем более не для того, чтобы вы оправдывались…
«Ах, черт, – внутренне поморщился Творогов. – Еще не хватало, чтобы мои слова выглядели так, будто я оправдываюсь…»
– Я же все понимаю. Мне просто хотелось услышать ваше собственное суждение. И потом… Говорят, вы были близко знакомы с этим Синицыным. Я ведь лишь понаслышке знаю его историю. С чего она началась? Чем она кончилась, я как раз знаю, а вот с чего началась? Вы мне не расскажете?
– С чего началась… – задумчиво повторил Творогов. – С чего она началась… Пожалуй, на это не так-то просто ответить… Мне всегда казалось, что история эта началась с мелочей, с ничего не значащих пустяков. Хотя, может быть, я и не прав в том смысле, что, любое пустяковое столкновение между людьми, работающими в одном коллективе, – это уже отражение чего-то более серьезного, только еще скрытого до поры до времени. Да и что значит – пустяк? Как раз если люди начинают не ладить друг с другом по пустякам – это уже самый скверный признак, это уже самое непоправимое… Впрочем, я в этой истории ведь тоже действующее лицо, причем не беспристрастное…
– Ну так что же, пусть вас это не смущает. Быть абсолютно беспристрастным редко кому удается. Да и нужно ли? Тем не менее, насколько я слышал, ваша позиция в этом деле была наиболее объективной…
– Не знаю. Со стороны, как говорится, видней, – сказал Творогов. Однако услышать сейчас эти слова от директора ему было приятно. И он не стал скрывать этого.
Антон Терентьевич по-прежнему смотрел на него пытливым и слегка скептичным взглядом умного, понимающего куда больше, чем могут предположить взрослые, мальчика, и Творогов невольно подумал, что, пожалуй, не позавидуешь студентам, которым приходится под этим пристальным взглядом сдавать зачеты по спецкурсу, читаемому Антоном Терентьевичем в университете.
– История эта, если уж обращаться к самым ее истокам, началась с того, что Федор Тимофеевич – я говорю о Краснопевцеве – взял Синицына к себе в лабораторию. Причем ирония судьбы заключалась в том, что оформление Синицына было связано, я точно помню, с какими-то организационными трудностями – вроде бы ставку не хотели давать лаборатории Краснопевцева, и Краснопевцев ходил в дирекцию, добивался, чтобы ставку все же отдали ему – специально для Синицына, ругался из-за этой ставки. Впрочем, нет, не ругался – г н е в а л с я, – Творогов усмехнулся своим воспоминаниям. – Про него и в институте всегда так говорили: Федор Тимофеевич г н е в а е т с я. Вообще, это был своеобразный человек. Вы ведь знали его?
– Знал, – сказал Антонов. – Федор Тимофеевич, без сомнения, был порядочным человеком, это главное. Ведь в его жизни случалось всякое, разные были времена, но тем не менее он всегда оставался порядочным человеком. Вы согласны со мной?
– Да, – сказал Творогов.
– Можно по-разному оценивать его как ученого, но этого у него не отнимешь. Что же касается его чудачеств, так еще в те времена, когда я сам был студентом, о них уже ходили легенды. Большей частью, конечно, выдумки, студенческий фольклор, но все равно…
– Вот, вот, – сказал Творогов. – Ну если вы знали его, тогда мне не нужно вам его описывать. Вы, конечно, помните и его знаменитую медвежью шубу, которую не выдерживали институтские вешалки, и трость с резным набалдашником и монограммой, ему ее, кажется, подарил какой-то англичанин, английский ученый, и Федор Тимофеевич, по-моему, никогда не расставался с этой тростью, и его буйную седую шевелюру, – личностью он, конечно же, был колоритной, впечатление производил незабываемое…
Да, Творогов отлично помнил то время, когда Женька Синицын еще восторгался чудачествами старого Краснопевцева. И был счастлив, что попал к нему в лабораторию. Это теперь многим кажется, будто их вражда началась чуть ли не сразу, а на самом деле прошло немало времени, прежде чем Творогов почувствовал, как меняется отношение Синицына к своему шефу. Пожалуй, он даже мог точно назвать день, когда впервые ощутил эту перемену в Женькином настроении.
Это было на одном из лабораторных семинаров или, точнее, сразу после семинара, когда сотрудники еще не разошлись по своим комнатам. Краснопевцев вдруг своим громким, хорошо поставленным, рокочущим голосом обратился к Валечке Тараненко:
– А где же ваша да-авненько обещанная статья, дорогая Валентина Михайловна?
Валя Тараненко покраснела и пролепетала что-то невнятное. Щекотливость ситуации заключалась в том, что на самом деле статья эта уже больше месяца находилась у самого Федора Тимофеевича. Он взял рукопись домой да так и забыл о ней. И теперь никто не решался сказать ему об этом, потому что старик вечно ставил всем в пример свою память, уверял, что н и к о г д а и н и ч е г о не забывает, гордился своей памятью, и, естественно, ничто не вызывало у него такого гнева, как чья-либо попытка намекнуть на его забывчивость. И в этот раз все молчали, а Краснопевцев с шаловливой галантностью погрозил Валечке пальцем и сказал:
– Я понимаю, Валентина Михайловна, ваши многочисленные поклонники избаловали вас и приучили к неточности, но наука – дама строгая, она требует обязательности…
– Вот именно! – вдруг с неожиданной резкостью сказал Синицын.
Как часто вовсе не задевают нас, проходят мимо нашего внимания, не остаются в нашей памяти далее весьма существенные события, если они касаются людей, которые нам безразличны. И как глубоко, как невытравимо впечатывается в нашу память любая мелочь, любая деталь, имеющая отношение к человеку, которого мы любим!
Творогов тогда не знал, не мог знать, что этот пустячный, на первый взгляд, эпизод станет решающим, поворотным моментом в отношениях между Синицыным и стариком Краснопевцевым, что это минутное столкновение между ними многое определит в дальнейшей судьбе Синицына, в дальнейшей судьбе всей их лаборатории, что именно эта минута, по сути дела, и была для Синицына м и н у т о й в ы б о р а. Ничего этого еще не мог знать Творогов, но тем не менее сцена эта навсегда с болезненной остротой запечатлелась в его памяти. Эта резкость Синицына уже была знакома ему – когда в жестокой решимости словно бы наливалось тяжестью Женькино лицо, когда, казалось, он уже и не слышал и не видел никого, кроме того человека, на которого была обращена его ярость. В памяти Творогова остались и удивленно вскинутые косматые брови Краснопевцева, и растерянные его глаза за толстыми стеклами очков – по-детски беззащитный взгляд человека, неожиданно получившего удар и еще даже не успевшего сообразить, кто и за что его ударил.
– Вот именно! – повторил Синицын, казалось, с трудом разжимая свои затвердевшие губы.
– Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу сказать, Федор Тимофеевич, что статью Валентины Михайловны, – раздельно произнес Синицын, – вы еще месяц назад при мне положили в свой портфель. А Валентина Михайловна теперь боится напомнить вам об этом. Только и всего, Федор Тимофеевич.
Валя Тараненко протестующе, отчаянно замотала головой, а Краснопевцев медленно побагровел и прогремел на всю комнату, на весь институтский коридор:
– Молодой человек! Я еще никогда в жизни – слышите: ни-ког-да! – ничего не имел обыкновения забывать!
Была ли это лишь игра, одно из тех театральных действ, которые Федор Тимофеевич Краснопевцев обожал время от времени разыгрывать перед студентами, или слова Синицына действительно вывели его из себя? Побагровевшее, внезапно налившееся темной кровью лицо, пожалуй, свидетельствовало о том, что это был настоящий, подлинный приступ гнева.
Может быть, он понял, почувствовал в эту минуту, что речь идет о большем, чем его старческая забывчивость?..
– Да будет вам известно, Евгений Николаевич, в свои шестьдесят пять лет я помню наизусть всего «Евгения Онегина» от первой до последней строфы! Не угодно ли проверить, у кого из нас лучшая память?
И он тут же, встав в театральную позу, прочел:
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог…
– Ну продолжайте, Евгений Николаевич, что же вы молчите?
– Простите, но у меня поставлен опыт, – холодно сказал Синицын. – Мне некогда.
С этими словами Женька повернулся и вышел.
Это было как объявление войны. Если до этой фразы, произнесенной Синицыным, положение еще можно было спасти, поправить, обратить все происшедшее в шутку, в буффонаду, к чему, казалось, стремился, на что, казалось, поощрял Синицына и сам Краснопевцев, то теперь уже обратного пути не было.
Потом, уже вечером, когда они вдвоем шли из института, Творогов сказал Женьке: «Зачем ты так резко со стариком? Неужели нельзя было как-то помягче, потактичнее? Нужно быть снисходительнее к старикам, нужно уметь прощать их чудачества…» И вот тогда-то Синицын и сказал с горечью: «Что чудачества… Чудачества – не беда. Беда, что, кроме чудачеств, давно уже нет ничего. Чудачества для него, как профессорская мантия, а сними ее – и ничего не останется, пусто. Неужели ты еще не видишь этого?» И Творогова тогда поразили не столько даже эти слова, сколько та глубокая горечь, которая в них прозвучала, – словно в тот вечер Женька Синицын раз и навсегда прощался с чем-то очень дорогим для себя…








