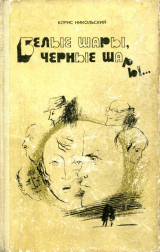
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
И снова возвращался он к записям Левандовского:
«…Вдруг потянуло перечитать письма Ухтомского. Теперь мы уже и не пишем друг другу таких писем, какие писал он нам, своим ученикам. Это были письма-размышления, письма-откровения. Не так давно мы разговорились об Ухтомском с моим бывшим студентом Н., и Н. со свойственной его возрасту категоричностью и горячностью («Уж не Новожилов ли?» – подумал Решетников) принялся уверять меня, что Ухтомский превратил физиологию из науки точной в науку гуманитарную. «Растворил ее в словах» – так выразился Н. Я никак не мог с этим согласиться. И конечно же, не только потому, что академик Ухтомский был моим учителем и я глубоко уважал и любил его. Мне кажется, что наша беда, беда многих наших, так называемых узких специалистов в том, что мы нередко сами себя добровольно обрекаем на эту узость, слепоту, ограниченность. Более того – мы начинаем гордиться этой узостью, мы молимся на нее. Исследование, познание становятся самоцелью. А человек, тот самый человек, ради которого и для которого мы и должны-то работать, вдруг оказывается забыт, оттеснен новым божеством – наукой. Ухтомский же, на мой взгляд, тем и велик как ученый, что он никогда не забывал о ч е л о в е к е. Отсюда и широта взглядов его, и широта интересов, и стремление понять движение души человека…
Если судьба отпустит мне еще несколько лет, если я успею, я непременно попытаюсь написать книгу о своем учителе. Я должен это сделать…»
«Если успею…»
Еще долго сидел Решетников в задумчивости над тетрадью Левандовского. От учителя к ученику, в свою очередь ставшему учителем, и от него вновь к ученику… И он, Решетников, тоже был теперь звеном в этой цепочке… Казалось, никогда еще не ощущал он так полно, так сильно своей общности с теми, кто жил до него, с теми, кто словно бы доверил, передал ему свои мысли, свои тревоги, свои сомнения и надежды…
ГЛАВА 15Две новости обрушились на Решетникова на другой день, когда он утром появился в лаборатории, исполненный решимости поговорить с Алексеем Павловичем.
Новость первая – Андрей Новожилов через две недели будет проходить переаттестацию на ученом совете.
Новость вторая – Валя Минько выходит замуж за Андрея Новожилова.
Эти две новости, как уверяла Фаина Григорьевна, были связаны между собой. Судьба Андрея – останется он в институте или нет – должна решиться на ученом совете. После всех его выходок и демаршей, после выпадов против Алексея Павловича вряд ли сумеет он удержаться в лаборатории – кто станет защищать его? Слишком многих уже успел он настроить против себя. Тасенька из лаборатории Трифонова, которая под его руководством давно уже успела превратиться из лаборантки в младшего научного сотрудника, но тем не менее, как и в прежние времена, впадала в беспокойство и волнение, едва лишь речь заходила о каких-либо сокращениях или перемещениях, утверждала, что шансов у Новожилова на успешную переаттестацию почти нет, что вылетит он из института как миленький. Впрочем, сам виноват, так ему и надо, ей нисколько не жалко. Да и сам Андрей, кажется, уже приготовился к худшему. Он работал теперь с утра и до позднего вечера, словно торопился довести до конца задуманные опыты, пока оставалась еще у него такая возможность. Был он по-прежнему угрюм, озлоблен, легко раздражался, вспыхивал, грубил.
– На самом деле ведь он совсем не такой. Просто он очень переживает, – говорила Валя Минько Фаине Григорьевне. – И если ему придется уйти из института, это будет для него настоящий удар. Вы даже не представляете, как он переживает!
Такой уж характер был у Вали Минько – характер подвижницы. Добейся сейчас Андрей успеха, окажись в победителях, окажись на гребне славы и удачи, и Валя скромненько оставалась бы в тени, издали восторженно и преданно поглядывала бы на него, и только; да и сам он вряд ли вспомнил бы о ней. А раз выпали на его долю трудные дни, раз грозят ему неприятности – тут уж она должна быть рядом с ним, должна делить с ним поровну все его беды… И глаза ее светились счастьем оттого, что была дарована ей такая возможность. Не будь Решетников последнее время так погружен в собственные переживания, он бы наверняка сразу заметил перемену в Валином настроении – трудно ее было не заметить…
Он поздравил Валю и пошутил, что вот, мол, проморгал, что, видно, судьба оставаться ему старым холостяком. Но Валя ответила серьезно:
– Ты совсем другой человек, Митя. Ты можешь быть один. А он не может. Он как ребенок. Если ребенка не похвалить, не поддержать, он теряет уверенность в своих силах, ожесточается… Я знаю: Фаина Григорьевна жалеет меня, говорит, что с таким человеком, как Андрей, даже ангел не уживется. А зачем жалеть меня? Я ведь сама хочу этого! Я нужна ему, понимаешь, нужна…
И столько счастливой уверенности было в ее лице, в ее голосе, что Решетников залюбовался ею. Да и рад он был за нее, рад, – сколько лет ведь знают друг друга, не просто близкий – родной ему человек Валя Минько…
«Наверно, и правда, – думал он, – настоящее счастье именно в этом – верить, что ты нужен, необходим другому, что ты можешь поддержать любимого человека в трудную минуту…»
Алексея Павловича на месте не оказалось – ушел к директору. Значит, сегодня, скорей всего, разговор не состоится: потом, днем, его все время будут окружать люди, трудно выбрать момент, чтобы поговорить обстоятельно и серьезно, наедине.
Как еще сложится этот разговор, что ответит ему Алексей Павлович! Ведь согласиться с Решетниковым – это для Алексея Павловича означает признать несовершенство тех опытов, которые проводил он вместе с Левандовским, это означает поставить крест на тех своих взглядах, которые он так старательно отстаивал в последних своих статьях. Легко ли пойти на это?
Эти мысли, эти сомнения не оставляли Решетникова, как будто в его силах было найти еще какое-то, иное решение, иной выход. А тут еще отправился он в библиотеку и на широкой, беломраморной парадной лестнице неожиданно столкнулся с профессором Рытвиным. За последние годы Рытвин заметно сдал – не то чтобы похудел, но как-то словно бы сжался, ссохся, не было в его фигуре прежней значительности. Он почти совсем облысел, и на лысине его обнаружились нежно-розовые веснушки. Эти веснушки бросились в глаза Решетникову еще до того, как узнал он профессора Рытвина в человеке, который, тяжело дыша, поднимался вверх по ступенькам широкой лестницы. Конечно, Решетников предпочел бы вовсе не встречаться с ним, но было уже поздно.
– Дмитрий Павлович, здравствуйте! – прозвучал знакомый захлебывающийся тенор. – Рад вас видеть! Читал, читал в газете о ваших успехах…
– А-а, – отмахнулся Решетников, снова в душе помянув Первухина недобрым словом. Впрочем, так ли уж виноват тут Первухин, – что ему сказали, то он и написал. Не ко времени только, ах как не ко времени…
– Нет, не говорите, Дмитрий Павлович, – продолжал Рытвин, – современная молодежь, она ведь все больше опровергнуть нас, стариков, стремится… Все больше грехи нам припоминает… Но мы, старики, тоже пока за себя постоять умеем, есть еще порох в пороховницах…
«Уж ты-то за себя постоишь, в этом я не сомневаюсь», – думал Решетников. Люди, подобные Рытвину, всегда поражали его умением приспособиться, вывернуться – куда там до них каким-нибудь жукам или бабочкам с их жалкой мимикрией!
– А Василию Игнатьевичу можно только позавидовать, что сумел он оставить после себя таких учеников… Поверьте мне: вы делаете благородное дело. Я представляю, как это непросто… Мы-то с вами, Дмитрий Павлович, знаем, что Василию Игнатьевичу, как и всем нам, тоже было свойственно ошибаться, и некоторые его работы далеко не так перспективны, как это могло казаться раньше…
Так вот куда он метит! Уже пронюхал, учуял что-то, или пока это только пробный шар, разведка, так, на всякий случай? И как это он сказал: «Мы-то с вами…», как ловко повернул, словно они уже связаны одной веревочкой: «Мы-то с вами…»
Рытвин замолчал, глаза его добродушно щурились за стеклами очков, он, казалось, выжидал, поддержит Решетников этот разговор или нет.
– Поживем – увидим, – сказал Решетников неопределенно. Никакого желания пускаться в объяснения с Рытвиным у него не было.
– Разумеется, – засмеялся Рытвин. – Вся наша жизнь держится на этом принципе, не так ли?
И опять, показалось Решетникову, был в этой шутке какой-то скрытый смысл, намек на то, что они понимают друг друга. «Мы-то с вами…»
Они простились, расстались тут же, на лестнице, каждый направился дальше своей дорогой, но все же этот короткий разговор оставил неприятный осадок в душе Решетникова. И никак не мог он унять беспокойство, которое все сильнее одолевало его.
Конечно, у Рытвина сейчас уже нет и десятой доли той силы, той власти, которая была когда-то. И все-таки… Своего он не упустит. Можно себе представить – стоит только Решетникову публично выступить со своими выводами, со своим опровержением опытов Левандовского, уж Рытвин не пройдет мимо такого случая! Уж он-то приложит все усилия, чтобы раздуть эту историю. На это он мастер, можно не сомневаться…
Уже сама по себе мысль, что Рытвин со своими друзьями будет опять трепать имя Левандовского, склонять их лабораторию, была отвратительна Решетникову. А между тем ведь именно он, Решетников, сам, своими руками преподнесет им эту возможность.
Снова сомнения охватили Решетникова. Так ли уж прав он в своем намерении, в своей решимости предать гласности результаты экспериментов?
А что делать? Разве есть у него иной выход?
Есть, он знал, что есть.
Он мог промолчать, мог не писать, не докладывать о результатах опытов. Ну, работал, ну, пытался доказать что-то, работа не получилась. Бывает в науке такое? Да сколько угодно! Никто не осудит его, если он возьмется сейчас за новую тему. Интересных проблем, и важных, и нужных, хватает. Еще посочувствуют ему – в конце концов, он же первый страдает оттого, что работа не дала результата, оттого, что год, целый год, полетел кошке под хвост… Может быть, так и сделать? Может быть, это будет достойнее, благороднее по отношению к Левандовскому? Все равно кто-то рано или поздно повторит эти опыты, кто-то придет к тем же выводам, к которым пришел Решетников, но пусть уж лучше это будет кто-то другой, а не он…
Вечером он рассказал обо всем Рите.
Еще утром, глядя на Валю Минько, слушая, с какой горячностью защищает она Андрея, Решетников вдруг испытал зависть, почувствовал, как не хватает ему сейчас поддержки, ободрения, слов участия. Не может он все время один на один пребывать со своими колебаниями. Впрочем, сам виноват, кто же еще?..
Начать разговор ему помогла сама Рита. Когда он провожал ее из института, когда уже подходили они к ее дому, она вдруг спросила:
– Митя, о чем ты думаешь? Я вижу, ты все время отсутствуешь. Что тебя мучает? Валя говорит, что у тебя что-то не получается с опытами. Это правда? Это действительно серьезно?
– Да, серьезно, – сказал Решетников. – Очень серьезно. Я давно уже хочу поговорить с тобой об этом.
– Пойдем, – сказала Рита. – Ты сейчас мне все расскажешь, нам никто не будет мешать. Сережка мой укатил в лесной оздоровительный лагерь. Так что сегодня я одна дома.
И эти ее слова, и мысль о том, что сейчас они останутся вдвоем, едва не заставила его забыть все, о чем собирался он говорить с ней.
Сама же Рита, казалось, была совершенно спокойна, как будто Сережкино отсутствие ничего не меняло, как будто им постоянно приходилось оставаться наедине в ее комнате. Решетников же сразу ощутил такое лихорадочное волнение, такое смятение и растерянность, что ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы унять дрожь. Впервые, едва перешагнув порог комнаты, он мог обнять Риту, никто не мешал ему, не нужно было ждать, пока Сережка выйдет на кухню или заснет, не нужно было таиться, но Ритино спокойствие, даже холодность отрезвили его. Стараясь изо всех сил скрыть свое волнение, он почему-то не допускал и мысли, что Ритино спокойствие тоже может быть лишь маской, за которой она прячет свои истинные чувства. Ему в тот момент это просто не пришло в голову.
Рита сняла сапоги, блаженно пошевелила пальцами ног, обтянутых прозрачным нейлоном, сунула ноги в домашние тапочки.
– Я готова слушать, – сказала она.
Она сидела на кушетке, и Решетников отчего-то не осмелился сейчас сесть рядом с ней, опустился на стул поодаль.
Но едва он начал рассказывать о своих опытах, о тех надеждах, которые возлагал на них, и о крушении этих надежд, все переживания последних дней ожили, вернулись к нему, он говорил горячо, волнуясь, но это было уже совсем не то лихорадочное, кружащее голову волнение, которое он испытывал несколько минут назад.
Многое Рита уже знала из его прежних рассказов о работе, о лаборатории, но слушала она его внимательно, не перебивая. И только, когда он наконец выговорился, осторожно, после долгой паузы, спросила:
– Ну и что же ты теперь собираешься делать?
– Об этом я и думаю, – сказал Решетников. – Выступлю у нас на семинаре, напишу статью… Я уже набросал ее.
– Да ты с ума сошел! – сказала Рита.
Решетников быстро взглянул на нее. Он заранее знал, что Риту никак не может обрадовать его рассказ, но он не ожидал такого резкого – без всяких колебаний – отпора.
– А как же вся твоя работа? Да ты подумал, как это будет выглядеть? – продолжала Рита. – Тебя же никто в лаборатории не поддержит, я уверена!
– Почему? Лейбович, например, я думаю, поддержит. Новожилов…
– Ну, разве что Новожилов! Тебе что же, его лавры не дают покоя? Нет, ты понимаешь, что ты намерен сделать? Боролись, боролись за восстановление авторитета Левандовского, а теперь своими руками все рушить?..
– Почему же рушить? Речь идет только об одной теории Василия Игнатьевича.
– Которой, ты сам говоришь, он особенно дорожил…
– Да, дорожил. Но он же считал ее еще не проверенной до конца. И потом, ведь значение последних работ Василия Игнатьевича в том и состоит, что он почувствовал, понял важность этой проблемы, начал ее исследовать, вовлек нас в эти исследования… Это и есть чутье настоящего ученого. А какую теорию он выдвинул – это уж дело второе…
– Ты просто оправдываешь и утешаешь себя. А когда поднимется весь этот шум, никто и не вспомнит, что Левандовский был автором пяти или там десяти верных теорий, все будут говорить о нем как об авторе о ш и б о ч н о й теории, вот увидишь. И виноват в этом будешь ты.
– Нет, Рита, ты преувеличиваешь. Я убежден, меня поймут правильно. Во всяком случае, те, чье мнение для меня дорого.
– А мое мнение для тебя, выходит, не имеет значения?
– Рита, зачем же придираться к слову? Если бы твое мнение для меня не было важно, я бы не разговаривал сейчас с тобой. И я уверен, когда ты подумаешь обо всем спокойно, ты…
– Нет, нет, Митя, нет! Ты витаешь где-то в заоблачных высях, а я на вещи смотрю реально. Что будет с твоей собственной работой? Ты подумал? Все заново?
– Ну, все не все, а многое, конечно, придется начинать сначала…
– А моя диссертация? Что с ней? Или такие мелочи ты не берешь в расчет?
– И тебе надо будет кое-что пересмотреть. Зато от этого твоя работа только выиграет.
– Выиграет! Да на это еще год уйдет, не меньше! – воскликнула Рита, и отчаяние послышалось в ее голосе. – Ты себя ведешь так, словно у тебя в запасе десятки лет! А я не хочу ждать! Мне надоело.
– Рита, ты противоречишь себе. Помнишь, когда я спорил с Мелентьевым, ты сказала, что сама порвешь свою диссертацию, если…
– Ну и что же? Это разные вещи! Или ты уже считаешь, что моя работа никуда не годится? Так и скажи прямо!
– Рита!..
– Я устала, Митя. Тебе этого не понять. Ты занят только своей работой. А у меня еще Сережка, дом… Я так надеялась на свою диссертацию… А теперь что же, опять конца не видно?.. Я не могу больше ждать!..
– Как же ты предлагаешь мне поступить? – спросил Решетников.
– Не знаю, во всяком случае, не торопиться.
– Зачем же откладывать? Какой в этом смысл?
– Помнишь, ты сам говорил, что факт в науке имеет самостоятельное значение. Факт существует сам по себе, он имеет ценность независимо от того, какими глазами мы на него смотрим. Мы собираем факты, и этого с нас достаточно. Не надо спешить с выводами.
– Это компромисс, – сказал Решетников.
– Ну и что же, что компромисс? Я убеждена, что в лаборатории тебе посоветуют то же самое, вот увидишь. По крайней мере, тебе не придется опровергать свою предыдущую работу. Или ты на всю жизнь решил остаться кандидатом?
– Дело же, Рита, не в этом. Мы говорим о разных вещах. Науке абсолютно безразлично, кто работает на нее – кандидат, академик или лаборант…
– Митя, не будь таким наивным. Не повторяй сказочки для студентов. Разве звание, положение не дают тебе больших возможностей? Не определяют масштаб твоей работы?
– Возможно, только…
– Нет, ты дослушай меня! Разве не сто́ит порой пойти на компромисс только ради пользы дела, только ради того, чтобы потом, поднявшись на следующую ступень, обладать бо́льшими возможностями и отстаивать свои взгляды?..
Решетников покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Это опасная философия, В ней есть красивый обман – вот чем она опасна. Сегодня я умолчу, солгу, а завтра, когда я поднимусь вверх, я опять стану честным? Нет, так не бывает. Боюсь, что люди вроде Рытвина начинают именно с этого…
– Браво! – воскликнула Рита. – Ты уже сравниваешь меня с Рытвиным! Договорились!
– Рита!
Они смотрели друг на друга злыми, непонимающими глазами. Но даже сейчас не мог Решетников не заметить, как идет ей гневный румянец, как в ярости спора хорошеет ее лицо…
– Все равно, я не хочу, я не хочу, чтобы ты это делал, слышишь? – сказала она. – И никто тебя не поддержит, никто!
Решетников встал.
– Ладно, не будем ссориться, – сказал он. – Лучше прекратим этот разговор, а то, я чувствую, мы наговорим друг другу чего-нибудь такого, о чем потом сами будем жалеть…
Рита молчала, она по-прежнему сидела на кушетке, сжавшись, обхватив себя руками, словно ей было холодно. Решетникову вдруг стало жалко ее. Столько надежд возлагала она на свою диссертацию, столько говорила о ней, и теперь все отодвигается… Ее можно было понять.
Он нерешительно переступил с ноги на ногу.
– До свидания…
Она все так же молча встала и протянула ему руку. И едва он прикоснулся к этой руке, его вдруг охватило странное ощущение: словно он возвращался сейчас, приходил в себя после сна или забытья. Как будто вдруг заново возникали, наплывали на него стены этой комнаты, оклеенные светло-зелеными обоями, и стопки книг, высящиеся на столе, на кушетке, на стульях, и чернильница-непроливайка, и ученическая ручка, лежащая возле нее… Как будто уже с трудом мог он припомнить, что было с ним несколько минут назад.
Он посмотрел Рите в глаза. Ему вдруг показалось, что с ней происходит то же самое.
– Рита… – беззвучно, одними губами произнес он. Голос отказывался ему подчиняться.
– Ну что, Митя? – Она положила руки ему на плечи, и тогда Решетников притянул ее к себе, обнял. Ладонями сквозь тонкую материю платья он ощущал ее горячее, напрягшееся тело.
– Обними меня крепче… – прошептала Рита.
Он целовал ее лицо, шею, волосы, он чувствовал, как она все теснее прижимается к нему. Этими торопливыми, горячечными поцелуями, этими объятиями они словно спешили преодолеть ту отчужденность, ту враждебность, которая возникла между ними.
– Обними меня крепче… еще крепче… еще…
Он чувствовал, как нервная дрожь снова колотит его, и уже не пытался скрыть эту дрожь. Прямо перед своим лицом он увидел вдруг блестящую пуговицу, и то ли сама она расстегнулась, то ли он расстегнул ее – он уже не помнил…
Он только еще слышал Ритин шепот: «Митя… Митя… Митя же…», только ощущал на своем лице ее горячее дыхание…
…Некоторое время они лежали молча, неподвижно, потом Рита нащупала в темноте его лицо, осторожно провела ладонью по щеке.
– Митя, скажи что-нибудь…
Решетников молчал, лишь прижался губами к ее ладони.
– Тебе хорошо со мной?
Он продолжал молча целовать ее ладонь.
– Ты ласковый, Митя, – шепотом сказала Рита, – ты очень ласковый… А я нет. Я даже не знаю, отчего так… Ты слушаешь?
– Слушаю, – тоже шепотом ответил он.
– Я с самого начала знала, что это должно было случиться сегодня, я, еще когда мы по лестнице поднимались, уже знала, – шептала Рита.
«Зачем же тогда была эта ссора, и эти минуты непонимания, отчужденности? – думал Решетников. – Этот разговор об опытах – красители, мембраны, протоплазма – неужели все это могло иметь значение?»
Каждое Ритино слово, каждое движение сейчас вызывало в нем прилив ответной нежности. Казалось, никогда еще не было ему так хорошо. Даже в те времена, когда их любовь с Таней Левандовской достигала своей вершины, он вечно мучился от противоречивых чувств. Сегодня он обнимал ее, а завтра – само это желание прикоснуться к ее телу казалось ему постыдным, унизительным для них обоих, низким, недостойным, и он казнил себя за низменность своих побуждений… Слишком молоды они были, что ли… А сейчас он чувствовал себя просто и естественно, и не было, казалось, для него человека ближе, необходимее, чем эта женщина, которая лежала рядом с ним в темноте. И благодарность к ней, и радость, и нежность переполняли его. И он снова прижимал ее к себе, и гладил, и целовал смутно белевшее в темноте тело, и шептал, задыхаясь, ласковые, сумбурные слова…
…Он не знал, сколько прошло времени. Был еще только поздний вечер, или глубокая ночь, или уже приближалось утро?..
– Митя, скажи что-нибудь…
– Я люблю тебя.
– Митя, о чем ты сейчас думаешь?
– О тебе, о себе, обо всем сразу. – Он засмеялся. – А ты?
– А я опять подумала о нашем споре. О том, как бы все-таки поступила я на твоем месте…
– Ну и как?
– Ты ведь любил Левандовского, он был тебе дорог?
– Да. Очень.
Рита молчала, и он решил, что ее уже сморил сон.
– Ты спишь? – шепотом спросил он.
– Нет, я думаю. Не знаю, может быть, это чисто по-женски, но, если человек мне дорог, если я его люблю, я должна защищать этого человека… И я стала бы защищать, что бы там ни было…
– Даже если он не прав?
– Даже если он не прав.
Ее голос звучал совсем тихо, и Решетникову вдруг показалось, что она удаляется от него. Словно совсем не о Левандовском и не о нем думала она сейчас, словно отвечала сама себе на какие-то затаенные свои мысли…
Скоро по ее ровному дыханию он понял, что она уже спит.
Решетников лежал не шевелясь, боясь побеспокоить, спугнуть Риту, вскоре он тоже, кажется, задремал, но быстро проснулся от какого-то странного, однообразно повторяющегося звука. Где-то за окном, далеко внизу, кричала кошка. Она не мяукала, а именно кричала, точнее, это был полукрик-полустон; в том, как равномерно, через одинаковые промежутки времени повторялся этот стонущий звук, было что-то механическое, безнадежное.
Решетников осторожно приподнялся на локте и нащупал в темноте часы. Светящиеся стрелки показывали половину четвертого.
И вдруг мысль о доме, о тетках, которые ждут его, пронзила Решетникова. Как же он мог забыть о них! Наверняка они даже не ложились и сходят сейчас с ума от беспокойства за него. Чего только, наверно, не пришло им в голову, какие несчастья не мерещились!
Так уж было заведено в их доме, что если он задерживался где-нибудь допоздна, то непременно предупреждал их. И как ни странно, несмотря на свои тридцать с лишним лет, он ни за что не мог бы признаться им, что провел ночь у женщины, да они и сами в мыслях своих не могли допустить этого. С их точки зрения, это было то же самое, что признаться в своей н е п о р я д о ч н о с т и. Причем он знал, что тень этой н е п о р я д о ч н о с т и невольно ляжет и на репутацию женщины; что бы он о ней ни говорил, в их глазах она навсегда останется женщиной, недостойной уважения. А потому при всем своем отвращении ко лжи он готов был сочинять любые небылицы, готов был мучиться от сознания собственной нечестности и терзать себя за эту нечестность, но рассказать правду, даже намекнуть на нее, он не мог. И как ни старомодно, как ни нелепо, по современным понятиям, выглядело это их представление о порядочности и непорядочности, все-таки в их убежденности, в их нравственном максимализме было что-то, что вызывало уважение, что заставляло Решетникова, взрослого человека, робеть перед ними, как мальчишку. Как будто он и верно был виноват…
Он быстро оделся и потом несколько минут стоял возле кушетки, глядя на Риту и не решаясь дотронуться до нее. Потом наклонился и поцеловал ее.
– Мне надо идти, – сказал он шепотом. – Меня ждут.
– Господи, ты же взрослый человек… – отозвалась Рита полусонно, лениво растягивая слова. – Куда же ты ночью?..
Все-таки она покорно поднялась, накинула халатик, зажгла свет. Жмурясь, она смотрела на него.
– Я приду к тебе завтра, ладно? – сказал он по-прежнему шепотом.
– Нет, Митенька. – Она покачала головой. – Не приходи. Не нужно.
– Но почему? – Решетников даже задохнулся от неожиданности.
– Я так хочу, – сказала Рита. – Мне надо побыть одной.
– А я как же?
Рита пожала плечами:
– Не знаю.
– Но почему, почему?
– Это долго объяснять, а ты же торопишься, – с усмешкой сказала она.
– Ладно, не объясняй, я все равно приду, – решительно сказал он.
– Нет, Митя, не придешь. Тебе нужно – ты же уходишь. Мне тоже нужно. Побыть одной. Подумать.
Решетников чувствовал, как волна отчужденности снова поднимается между ними. Совсем другая женщина – не та, которую он целовал так недавно, – стояла сейчас перед ним. Или и сам он уже был другой?..
– Ну что ж, смотри, – сказал он. – Тебе виднее.
В этот момент тот самый стонущий звук, который разбудил Решетникова, опять донесся с улицы.
– Что это? – спросил он.
– Наверно, кошку кто-нибудь выбросил, – сказала Рита. – Берут животных, а потом мучают…
Они помолчали, прислушиваясь, но звук больше не повторялся.
– До свидания, – сказал Решетников. И вдруг вспомнил, что уже говорил сегодня эти слова. Может быть, и Рита подумала сейчас о том же?
От Риты веяло сонным, домашним теплом, и Решетников почувствовал: скажи она сейчас хоть слово, попроси его, и он не выдержит, забудет обо всем, останется. Но она промолчала, лишь полуприкрыла глаза – в знак прощания.
Решетников торопливо сбегал по лестнице, в мыслях его была сумятица, да он и не пытался сейчас разобраться в них, радость и горечь перемешались в его душе. Он бежал вниз, и опять тот надсадный, уже слабеющий звук, кошачий стон, раздавался в тишине лестничных клеток. Когда он вышел во двор, он понял, что звук этот доносится от кучи строительного мусора, запорошенного снегом. Решетников приблизился к ней и на битом, заснеженном кирпиче разглядел кошку. Слабая судорога передергивала ее тело. Видно, и правда кто-то выбросил кошку из окна, или, может быть, она сама сорвалась с карниза. И теперь Решетников уже ничем не мог помочь ей. Он только досадовал на нелепый случай, который, словно нарочно, подсунул ему на глаза это умирающее, страдающее от боли существо именно сейчас, в эту ночь, которая – что бы там ни случилось – навсегда останется в его памяти…







