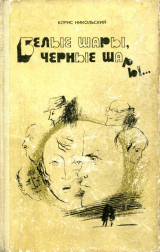
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
В понедельник Решетникова вызвал к себе Алексей Павлович и, несколько смущаясь, словно заранее угадывая, как нежелательна будет для Решетникова его просьба, сказал:
– Дмитрий Павлович, к нам сегодня должен зайти товарищ из газеты. Кстати говоря, кажется, наш коллега, биолог. Хочет писать о лаборатории.
– Что это его вдруг заинтересовала наша лаборатория? – усмехнулся Решетников.
«Вот уж поистине, – подумал он, – самое подходящее время разговаривать с корреспондентами…»
Теперь, когда для него стала ясной причина неудач его опытов, ошибочность тех посылок, из которых он исходил, Решетников занимался тем, что обобщал, систематизировал всю проделанную раньше работу; все то, что раньше казалось ему разрозненным, необъяснимым в своей разрозненности, несовместимости, теперь-то наконец вырисовывалось в единую картину. Конечно, это была не такая уж радостная работа – подытоживать и обдумывать результаты своих неудач, однако, как всякая работа, она постепенно захватывала и увлекала его. Но чем глубже погружался он в эту работу, тем сильнее становилось чувство смятения, как будто рушилось на его глазах то здание, которое возводил он сам с таким терпением и упорством…
– Чем заинтересовала его наша лаборатория? – переспросил Алексей Павлович. – Вот уж, право, не знаю. Говорит, что хочет писать о том, как развиваются идеи Левандовского. Но я, откровенно говоря, подозреваю, что это дело рук Новожилова. Дай бог, чтобы моя подозрительность не оправдалась. В общем, Дмитрий Павлович, я вас прошу, побеседуйте с этим товарищем, поводите его по лаборатории…
Попроси его сейчас об этом кто-нибудь другой, Решетников, не колеблясь, отказался бы, но Алексею Павловичу, с его застенчивой манерой обращаться к своим сотрудникам, он никогда не умел отказывать.
– Что ж, попытаюсь, – сказал он.
…Он сидел за своим столом спиной к двери, когда услышал вдруг удивленный возглас Вали Минько. Он обернулся и сначала не узнал человека, который негромко переговаривался с Валей, но затем тот шагнул к Решетникову, и Решетников увидел перед собой Глеба Первухина. Вот уж этот человек не изменял своей удивительной привычке, своей способности пропадать на долгие годы, а потом возникать как ни в чем не бывало, словно они расстались только вчера в университетском коридоре. Решетников не видел Глеба с того самого памятного дня, когда умер Левандовский. Теперь Глеб заметно изменился, под глазами у него появились мешки, но не в пример прошлому разу был он аккуратно одет, чисто выбрит, длинные его волосы были тщательно зачесаны.
– Ну как? – сказал он. – Все корпим?
– Как видишь, – сказал Решетников.
Глеб был ему неприятен, как будто тогда своим нелепым паясничаньем, этими разговорами о своей странной профессии он предсказал и навлек на них несчастье.
– Кем же ты теперь работаешь? Что заготовляешь? – спросил Решетников.
– А-а… Не забыл? – усмехнулся Первухин. – А я ведь не врал тогда. То была, прямо скажем, не самая лучшая профессия. Ну, с тех пор я успел поработать и лаборантом, и препаратором, и еще бог знает кем. Но все это не по мне. Вот теперь пытаюсь совсем сменить амплуа – пописываю рассказики, статьи, и, знаешь, говорят, получается…
– Погоди, погоди, – изумленно сказал Решетников. – Да никак ты и есть обещанный нам товарищ из газеты?
– Ну конечно, разрешите представиться! – Глеб был явно доволен изумлением Решетникова. – А что ты удивляешься? Если я, как говорится, владею пером, да еще имею специальное образование, то есть разбираюсь в ваших фокусах-мокусах, значит, для газеты я просто незаменимый человек. Не так ли?
То ли для большего эффекта, то ли заметив, что недоверие по-прежнему не сходит с лица Решетникова, он вытянул из кармана бумажку и положил на стол. Это было удостоверение, правда, не постоянное, не очень солидное, а просто бланк с несколькими строчками машинописного текста, из которых явствовало, что Первухину Г. А. в порядке разового задания поручается написать очерк о работах, проводимых в такой-то лаборатории. Просьба оказать ему содействие.
– Так, так… – сказал Решетников, – так, так…
Пока еще он не мог решить, каким образом вести себя дальше. Теперь у него тоже мелькнуло подозрение, что Первухина наслал на них Андрей Новожилов.
«А впрочем… – подумал он. – Газета просит оказать содействие… Окажем… Им виднее. Может быть, и правда за эти несколько лет у человека прорезался талант, может быть, изменился человек…»
– Вот ты смотришь на меня так, – вдруг сказал Первухин, – словно считаешь неудачником, который хватается то за одно, то за другое, и ничего у него не получается…
Решетников пожал плечами:
– Как я могу судить, я давно тебя не видел…
– Нет, признайся, все-таки думаешь…
– Ну, допустим…
– А я ведь живу интереснее вас всех – разве не так? Ты вот, кроме этой лаборатории, я уверен, за последние годы ничего и не видел, наверно, и вечерами здесь сидишь. Признайся, сидишь?
– Сижу, когда нужно. – Решетникова уже начал забавлять этот разговор.
– Ну вот, а моя жизнь из каких только перепадов не состояла! Если хочешь знать, у меня даже такая теория есть: жизнь в современном мире настолько напряженна, что она делит людей как бы на две группы. Одни ищут, куда бы забиться, лишь бы потише, лишь бы поспокойнее – они-то и заполняют тихие институты, вроде вашего, они укрываются здесь, словно в средневековых крепостях, а другие – те ищут разрядки в сильных ощущениях, в творчестве, где идет постоянная острая борьба самолюбий, наконец, в алкоголе…
– Ты что, об этом собрался писать? – спросил с усмешкой Решетников.
– Ты не смейся, – вдруг обиделся Первухин. – Об этом я когда-нибудь еще напишу! Сейчас у меня цель иная – я хочу написать о вашей лаборатории, о том, как вы продолжаете работы, начатые Левандовским. Если хочешь, кратко тема формулируется так: «Верность учителю». Неплохо, а?
– В общем, как я понял, ты собираешься написать о людях, забившихся в тихие углы, так? – сыронизировал Решетников.
– Ладно, не обижайся, – сказал Первухин, и вдруг просительные нотки зазвучали в его голосе. – Мы же с тобой все-таки не чужие люди…
И опять, как когда-то давно, прежде, Решетников почувствовал, что перед ним просто неустроенный, мечущийся человек, пытающийся наивной бравадой прикрыть эту свою неустроенность…
И снова он возвращался к мысли о том, что, может быть, нет для человека ничего важнее, чем приобрести еще в детстве, в юности душевную устойчивость. Он снова думал о том, как повезло ему, что самыми близкими для него, родными оказывались люди, которые сами были душевно устойчивы, имели крепкий жизненный стержень. И его мать, и обе тетушки, и Левандовский – у всех у них было нечто общее: это внутренняя чистота, цельность натуры, отвращение к лжи. В общем-то, на каждом этапе своей жизни человеку приходится держать экзамен – каким он станет завтра. И не окажись в университете рядом с ним такого человека, такого учителя, как Левандовский, может быть, и он бы растерялся тогда, сломался, подобно Первухину…
«Верность учителю… Верность избранной цели…» – думал он.
Жаль, что мысль написать эту статью не пришла никому в голову раньше. А теперь… теперь, по крайней мере для него, для Решетникова, все обстояло сложнее. И не мог, не собирался он сейчас доверять свои самые сокровенные мысли Глебу Первухину.
– Так что тебе рассказать? – спросил он.
– Ну, о своей работе… Проведи, если можно, по лаборатории. Конечно, если бы что-нибудь поинтереснее, поэффектнее… Мне сейчас, понимаешь, важно сделать статью, на которую обратили бы внимание. Может быть, конфликтик какой-нибудь?..
– Нет, – покачал головой Решетников, – какие у нас конфликты…
Значит, вовсе не известие о конфликте Алексея Павловича с Новожиловым привело Первухина к ним в институт. Да и действительно, вряд ли это было правдоподобно, – Новожилов всегда не то что недолюбливал Глеба, а относился к нему со снисходительным презрением.
Первухин бережно взял со стола свой в общем-то весьма жалкий мандат, аккуратно спрятал его в карман, и вдруг только теперь Решетников догадался, почему этот человек пришел именно к ним лабораторию. Конечно же, никакой Новожилов здесь ни при чем, да и не так уж интересуют его их работы – мог он найти лабораторию поэффектнее. Ему показать себя хотелось – вот в чем все дело! Ему реабилитироваться перед ними, перед теми, с кем вместе учился он когда-то, было необходимо: мол, вы, наверно, думаете, что Глеб Первухин вовсе уже пропащий человек, а он – вот каков! И все эти его разговоры о современности и прочем – шелуха, не больше.
Ну что ж, как говорится, давай аллах ему удачи.
Решетников повел его по лаборатории, старые сотрудники, те, кто знал Глеба, ахали и удивлялись, и расспрашивали его о жизни, и охотно рассказывали о своей работе, новые – сдержанно знакомились с ним. Для них он был только представителем газеты.
И снова на какое-то мгновение показалось Решетникову, что во взгляде Первухина вдруг мелькнула тоскливая зависть – мог же он сейчас вот так же работать вместе со всеми, не метаться, как перекати-поле. Впрочем, может быть, это только показалось Решетникову. Глеб все время очень старательно вел записи в своем блокноте, старался не упустить ни одной мелочи, и вид у него при этом был очень важный.
Больше всех, конечно, растрогалась Фаина Григорьевна. Она едва не расцеловала Глеба, она, разумеется, не сомневалась, что наконец-то он нашел свое истинное поприще, и радовалась этому.
И когда Первухин наконец удалился, все еще долго обсуждали это событие – разумеется, не то, что в лаборатории побывал корреспондент, сотрудники газет и раньше бывали у них, причем несколько посолиднее Первухина, – а именно то, что этим корреспондентом оказался Глеб.
И еще все говорили о том, как хорошо, что наконец появится статья, посвященная памяти Левандовского, статья о том, что работы его продолжаются, – в конце концов, утверждение и развитие идей Левандовского было для них для всех самым главным делом на протяжении этих последних лет. И хотя для Решетникова имя Левандовского было так же дорого и значительно, как прежде, он все-таки чувствовал себя сейчас так, словно был виноват перед всеми и таил в своей душе эту вину…
Спустя несколько дней Глеб позвонил Решетникову.
– Ну как, старик, прочел мой материал? – с горделивой небрежностью спросил он.
– Какой материал? – удивился Решетников.
– Ну, ну, газеты читать надо, отстаешь от жизни.
– Да я вроде бы читал. Ты меня не разыгрываешь?
– Ну вот еще! Сегодня, на четвертой полосе. Посмотри внимательней. А то трудишься, вас прославляешь, а вы, оказывается, даже понятия об этом не имеете. Привет!
Решетников отыскал газету. И верно, на четвертой полосе притаилась маленькая заметка, на которую утром он не обратил внимания. Она называлась «В тайны клетки». «Ученики профессора Левандовского успешно продолжают работы своего учителя…» – прочел Решетников…
ГЛАВА 12Думая о Рите, Решетников нередко испытывал странную раздвоенность. Словно неумелый фотограф, который старается навести аппарат на резкость, пытался он совместить два лица, два образа – одинаковых и разных, уже почти сливающихся воедино и снова раздражающе раздваивающихся. Одно лицо возникало перед ним, когда они расставались, когда Риты не было рядом – лицо, на котором лежала мягкая печаль и усталость, лицо женщины, нуждающейся в нежности, защите и сострадании… Но Рита, казалось, сама старалась всячески разрушить этот образ, и другое лицо, лицо уже совсем иного человека видел Решетников, когда они встречались. Впрочем, он не мог отделаться от ощущения, что каждый раз он словно открывал Риту для себя заново, что каждый раз он как бы сталкивался с новым для себя человеком. Это и смущало его, ставило в тупик, и в то же время привлекало.
Существовала ли на самом деле та Рита, которую он любил, о которой он думал, к которой спешил, или это был только образ, созданный его воображением? И насколько ее представление о нем совпадало с тем реальным человеком, который был Дмитрием Решетниковым?.. Кто это знает?.. Кто может на это ответить?..
Однажды Рита полушутя сказала ему:
– Я боюсь откровенности. Раскрываясь перед другим, человек становится беззащитным, он обнажает сбои уязвимые места, и это редко проходит безнаказанно.
Тогда он не придал особого значения этим ее словам, воспринял их только как шутку, как стремление к оригинальности, но теперь ему все чаще казалось, что какая-то очень важная частица Ритиной души так и остается закрытой, недоступной для него. Ему хотелось большей открытости, большей доверчивости. Порой она умела быть и нежной, и ласковой, и тогда Решетникову начинало казаться, что вот они – два человека в этом огромном мире, которые способны понять, и отогреть, и поддержать друг друга, но потом она снова замыкалась, уходила в себя, и опять он видел, что это его представление о ней было только его фантазией, самообманом, не больше…
Как-то он сказал ей:
– Рита, нам надо серьезно поговорить…
Был поздний вечер, Сережка уже спал, они сидели вдвоем в полуосвещенной комнате. Каждый раз, когда Сережка погружался в сон, когда наконец они оставались наедине, возникала пауза, молчаливое замешательство. Маленькая Ритина рука лежала на столе, рядом с рукой Решетникова. Ее ногти были коротко острижены, на указательном пальце виднелся небольшой шрам – след ожога. Решетников молча накрыл ее руку своей ладонью. Рука была теплой, он гладил ее, и Рита отвечала на его ласку легким движением пальцев. Тогда-то у него и вырвалась эта фраза:
– Рита, нам надо серьезно поговорить…
Рита сразу – словно он спугнул ее – убрала руку и засмеялась:
– Боже мой, Митя, ты неисправим! У тебя такое лицо, будто ты хочешь сделать мне предложение!
– А что, разве это было бы так уж удивительно?
– Нет, почему. Только не считай, что ты меня осчастливишь. Я не из тех женщин, кто умирает от счастья при слове «загс».
– По-моему, этого слова еще никто не произносил, – сердито сказал Решетников.
– Ага, задело! – опять засмеялась Рита. – Вот видишь, Митя, какой дурной у меня характер. И давай не будем торопить события. Пусть все идет так, как идет.
Так ничем и закончилась эта попытка Решетникова завести серьезный разговор. Что ж, пусть все идет так, как идет…
…Рита появилась в лаборатории на другой день после возвращения с конференции. Утром, едва Решетников устроился за своим столом, едва начал работать, как кто-то подошел сзади и закрыл ладонями ему глаза.
– Рита! – сразу угадал он.
Давно он не видел ее такой оживленной и веселой. Она словно забыла об их размолвке, словно забыла, что уехала даже не простившись с ним. И Решетников был рад, ему тоже вовсе не хотелось вспоминать об этом.
Рита вся еще была во власти впечатлений от поездки, от своего выступления на конференции, от новых знакомств и встреч. Ею еще владело радостное, праздничное возбуждение, желание немедленно излить свои переживания, и Решетников хорошо понимал ее – это был едва ли не первый ее самостоятельный доклад на большой конференции перед чужими людьми, перед иностранными гостями, перед учеными, кого до сих пор она знала лишь по статьям да упоминаниям в отчетах о научных дискуссиях. Решетников помнил, каким событием для него самого была поездка на первый в его жизни симпозиум, как волновался он перед своим выступлением…
– Между прочим, я даже не ожидала, что будет столько народу, когда делала доклад, – рассказывала Рита. – И вопросов поднакидали. Ну ничего, я довольно бодро отвечала. Правда, один товарищ такой дотошный попался, докопался-таки, добрался до ахиллесовой пяты в моем сообщении, впрочем не пяты, а этакой крошечной пяточки – так будет точнее. Пришлось сказать, что тут мы еще не можем утверждать свои выводы с достаточной определенностью… В общем, все закончилось благополучно, даже сам Боровиков потом меня поздравил и так шутя, шутя, а поинтересовался, не хочу ли я после защиты перебраться к ним в Сибирь. Мол, им очень нужны перспективные, молодые, энергичные кадры. Вот видите, я, оказывается, молодой, энергичный кадр, а вы меня здесь не цените…
– Ну что ты, Риточка, кто же тебя не ценит! – пропел только что появившийся Саша Лейбович. – Может быть, этот гадкий Решетников? Так ты не обращай на него внимания…
– Ладно, раз цените, тогда так и быть скажу: Боровиков и о вашей лаборатории очень хорошо отзывался. И о тебе, Лейбович, и о Решетникове, и – язык даже не поворачивается – о Новожилове. Я и не подозревала, что со всех сторон меня окружают сплошные таланты…
– Вот видишь, как полезно ездить на конференции, – сказал Лейбович. – А то сидишь здесь в темноте беспросветной, ничего не знаешь. Риточка, ты повтори, пожалуйста, что Боровиков сказал, мы запишем и потом высечем на стене института золотыми буквами…
– Фу, Лейбович, противный, – смеясь, сказала Рита. – Надо было самому съездить и послушать. Вообще, жаль, ребята, что никто из вас там не был. А меня, между прочим, не только Боровиков хвалил, ко мне потом еще многие подходили, говорили…
– Риточка, ты у нас такая нарядная и красивая, что было бы странно, если бы эти облысевшие в научных сражениях субъекты не летели к тебе, как мотыльки на огонь… – сказал Лейбович.
– Фу-фу, нельзя так низко падать даже из чувства зависти, – сказала Рита. – Какие вы, мужики, все-таки эгоисты и циники! Просто диву даешься!
А Решетников вдруг испытал укол ревности. Рита рассказывала о заключительном банкете, о поездке на экскурсию в Суздаль, о каком-то чехе, который тоже интересовался ее работой, о реактивах, которые обещал ей добыть некий кандидат наук, и Решетников видел, что она еще продолжает жить в атмосфере этой конференции, что она радуется, словно ребенок, впервые попавший на праздник взрослых, что ей доставляет наслаждение ощущать себя равной с известными учеными, ощущать их интерес к себе…
Позже, когда они остались вдвоем, она сказала:
– Знаешь, Митя, мне было очень приятно слышать хорошие отзывы о тебе. Мне хочется, чтобы и ты мог мной гордиться. И я добьюсь этого, обязательно добьюсь, слышишь?
Какое-то странное упорство, непонятная Решетникову настойчивость звучали в ее голосе, когда она произносила эти слова: «Я добьюсь». Словно она спорила с кем-то.
– Ты почему молчишь? Ты не веришь?
– Верю, – сказал Решетников.
Она была слишком погружена в свои переживания, и он не стал сейчас рассказывать ей о результатах своих опытов, о выводах, к которым он пришел, не стал рассказывать, как звонил ей на работу. Он решил, что сделает это позже. Все равно острота первого момента, когда он чувствовал необходимость тут же поделиться своими сомнениями, уже прошла.
А Рита все никак не могла расстаться с воспоминаниями о конференции. Новые и новые подробности всплывали в ее памяти, и она торопилась рассказать о них Решетникову.
– Да, между прочим! – вдруг спохватилась она. – Нас же даже телевидение снимало! В субботу, говорят, будут показывать. Мы с Сережкой даже думаем: не ускорить ли ради такого события приобретение телевизора? А что, купим в кредит. Так что будь готов – тебе предназначается роль главного консультанта…
Днем, в субботу, Решетников приехал к Рите – помочь выбрать телевизор. Больше всех, конечно, волновался Сережка – до сих пор ему приходилось довольствоваться лишь пересказами телевизионных передач, а пересказов этих, как можно было догадаться, у них в школе на переменах велось более чем достаточно. Да и мысль о том, что он увидит на экране свою маму, будоражила его, не давала ему покоя.
Они совсем было уже собрались идти в магазин, когда Рита вдруг спохватилась:
– Братцы, а как же мы его потащим!
– Ну, такси возьмем или закажем с доставкой, подумаешь, – сказал Решетников.
– Такси на два квартала брать – кто это тебе поедет? Да и зачем лишние деньги тратить? Мы их лучше на мороженом проедим, правда, Сережка?
– Правда!
– Так что обойдемся своими силами. Неужели мы втроем-то не справимся? Ну-ка, Сережка, где твои старые санки? Давай-ка мы их приспособим.
Сережка отправился в коридор и приволок оттуда санки. Санки были старенькие, обшарпанные, со стершимися до блеска полозьями.
– Ну вот и транспорт! – весело сказала Рита. – Сейчас мы дядю Митю впряжем… Митя, что с тобой?
Решетников молча смотрел на эти старые детские санки, и не эта комната, оклеенная светло-зелеными обоями, не паркетный пол, которого касались сейчас полозья, не дверь, возле которой в нетерпении переминался с ноги на ногу Сережка, были сейчас у него перед глазами… Маленькие детские санки, и на них – завернутое в простыню худенькое мамино тело…
– Ну что же ты, Митя? Мы тебя ждем!
А он не мог заставить себя взяться за грубую, потрепанную веревку, привязанную к передку санок.
…Это нам только кажется, что время смягчает горечь потерь, что время облегчает боль воспоминаний. На самом деле эта горечь всегда с нами, она не проходит. Это только иллюзия, будто мы еще можем стать счастливы и беспечны, это только иллюзия…
Сережка ухватился обеими руками за руку Решетникова и тянул его за собой:
– Дядя Митя, идемте!
Его лицо было радостно-оживленным – вот так же охватывало в далекое довоенное время маленького Митю Решетникова волнующее нетерпение, когда они собирались с отцом в магазин за покупками. Сейчас Сережка и чувствовал, что с Решетниковым происходит что-то странное, и не мог понять что. И по-детски старался расшевелить, ободрить его.
И Решетников пересилил себя.
– Ладно, – сказал он. – Пошли. Только оставь санки, они ни к чему. Возьмем такси. Уж шиковать так шиковать, правда?
И Рита – хотя никогда не рассказывал он ей о последних днях своей матери, и потому она так же, как Сережка, не могла догадаться, что творится в его душе, – видно, все-таки почувствовала, что нельзя сейчас с ним спорить, что надо согласиться.
– Смотри, как хочешь… – сказала она.
Они отправились в магазин и купили телевизор, и торжественно доставили его домой, и уже в тот же вечер смотрели программу «Наука и жизнь».
Сюжет, посвященный конференции, был совсем коротким. Под дикторский текст камера следила за тем, как люди рассаживались в небольшом зале, как приветственно кивали друг другу, как обменивались беззвучными репликами. Вот на экране появилась Рита, она оживленно разговаривала с высоким полным мужчиной, и камера задержалась, приостановила свое скольжение по лицам, словно оператору доставляло удовольствие снимать именно ее. Ее лицо и правда было фотогенично – резко очерченные брови, глаза, светящиеся искренним, неподдельным интересом к собеседнику… Потом камера еще несколько раз возвращалась к ней – вот она слушает докладчика, вот рассматривает график, вот опять беседует с кем-то.
– Это Боровиков! – шепнула Рита.
Она не отрывала взгляда от телевизора, вся захваченная происходящим на экране, боясь что-нибудь упустить, заново переживая все то, что уже было пережито там, в маленьком подмосковном городке… И тогда первый раз Решетников вдруг с грустью подумал, что она придает слишком большое значение успеху… Он-то сам уже знал, насколько обманчиво, иллюзорно это ощущение успеха, когда кажется, что ты достиг едва ли не всего, о чем мечталось, и только потом видишь, как бесконечна дорога, расстилающаяся перед тобой, и убеждаешься, что ты стоишь лишь в самом ее начале…
– Ну как, можно было меня узнать? – смеясь, спросила Рита, когда передача закончилась. – Можно? – И вдруг добавила неожиданно: – Ах, как бы мне хотелось, чтобы один человек включил сегодня телевизор, ах, как бы мне хотелось…
Эта фраза вырвалась у нее словно невзначай, как будто на мгновение она забыла, что она не одна, что рядом с ней Решетников и Сережка.
– А кто? Мама, кто? – сразу спросил Сережка.
– Сережа, ну когда наконец я тебя приучу не слушать маму, если она говорит глупости, – сказала Рита. – Я просто пошутила.
– Иногда какая только белиберда не взбредет в голову, – сказала она уже Решетникову.
Решетников молчал. Ему казалось, он знал, о ком сейчас говорила Рита. Сережкин отец. Она никогда не вспоминала о нем при Решетникове, никогда не заговаривала о нем. Это была та запретная зона в ее жизни, куда не допускался Решетников. И все-таки теперь он знал: мелькнувшая однажды догадка, что этот человек играет в ее жизни куда более существенную роль, чем ей бы хотелось, чем она уверяет себя, чем ей кажется, – верна. Словно стремление д о к а з а т ь этому человеку нечто, чего не понимал или не хотел понимать он, постоянно томило ее. Впрочем, и теперь Рита сразу снова перевела разговор на конференцию, обратила все в шутку. Хорошее настроение весь вечер не покидало ее.
И Решетников опять сдержал себя, не стал рассказывать о своих делах. Последние дни ему приходилось нелегко, колебания и сомнения одолевали его, все еще не решался он поговорить с Алексеем Павловичем, все еще раздумывал и взвешивал, и проверял и перепроверял, и сейчас ему было жаль этими своими сомнениями и колебаниями портить Рите ее счастливый вечер, разрушать ее радость…







