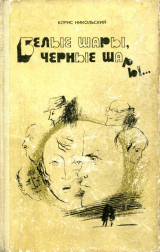
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Вечером Решетников задержался в лаборатории. Он теперь все реже провожал Риту после работы домой, все чаще оставался по вечерам, ставил опыты, дня ему не хватало – все бился над той же загадкой, что и на Дальнем Востоке. Только теперь он работал на мышцах лягушки. Результаты по-прежнему дразнили своей неопределенностью – краситель то обнаруживался в протоплазме, то не проникал в клетку вовсе. Решетников просматривал литературу – результаты, которые приводились в статьях зарубежных авторов, были противоречивы. Все чаще он наталкивался на работы, стремящиеся доказать активную роль клеточной мембраны, опровергающие выводы Левандовского. Он дотошно изучал методику этих опытов, выискивал их уязвимые места, готовился повторить опыты сам, проверить.
Решетников всегда особенно любил эти вечерние часы в институте. Тишина, можно сосредоточиться, подумать, никто не отвлекает тебя разговорами. Щелкают, включаясь, холодильники, журчит вода в аквариуме – все сейчас кажется таинственным, необычным, все располагает к неспешной, обстоятельной работе.
Сегодня первый день, как начали утихать страсти, бушевавшие в лаборатории. Вчера райкомовская комиссия закончила проверку, вчера же стали известны ее выводы. Все волновался, беспокоился Решетников: вдруг пришлет райком некомпетентных, случайных людей – что им объяснишь, как они будут судить?.. Только напрасными оказались его опасения: ученый-медик, физик, кандидат наук – биолог входили в состав комиссии. Когда, шутя, рассказал Решетников о своих неоправдавшихся опасениях инструктору райкома, тот засмеялся: «У вас устарелые представления о методах партийной работы. Современный стиль. Так сказать, веление времени».
С Решетниковым члены комиссии беседовали на второй день после своего появления в институте. Сначала он чувствовал себя неловко и настороженно, словно человек, дающий показания и вынужденный тщательно выбирать и взвешивать каждое свое слово. Да и сама по себе мысль, что не смогли они понять друг друга, договориться внутри лаборатории, что с такой легкостью, по милости Новожилова, вынесли свои разногласия на суд посторонних, в общем-то, людей, раздражала его.
Но постепенно, едва начал он рассказывать о том времени, когда создавалась лаборатория, когда только начинали они работать все вместе, как воспоминания захватили его – какая уж тут настороженность, какая неловкость! Вспомнил, как готовы были они работать хоть ночь напролет, как даже выходные дни казались им тогда ненужной помехой, как радовались каждому успеху, как отстаивали правоту Левандовского!.. Разве делили они тогда работу на «мою» и «твою», разве прикидывали, высчитывали, чья работа важнее?.. Да что там говорить – теперь, когда эти пять лет остались уже позади, Решетников мог признаться, что они были самыми счастливыми в его жизни…
…Конечно, отыскала комиссия недостатки, недочеты, упущения, ошибки и нарушения – как же без этого, – но все это были мелочи по сравнению с главным выводом: в лаборатории продолжают успешно развиваться основные направления, намеченные Левандовским. Попусту только устроил Новожилов нервотрепку и себе и другим. И смотрит теперь на всех так, как будто его же обидели. Сегодня сказал Решетникову:
– Я на этом не остановлюсь. Я буду бороться.
Откуда в нем такая нетерпимость? Такая уверенность, что прав только он один? Жалуется, что его зажимают, а дай ему власть, он же первый ни одного инакомыслящего не потерпит. Вслух Решетников сказал:
– Брось, Андрей, это уже глупость, детство какое-то. Мальчишеское упрямство.
Новожилов взглянул на него затравленно. Чувствовал он свое одиночество, не мог не чувствовать.
– Что же мне, уступить, смириться? А правда? Я вижу, быстро ты, Митя, жирком обрастать стал. Тому ли нас Василий Игнатьевич учил?
– Только не строй из себя, пожалуйста, мученика, страстотерпца, – раздраженно сказал Решетников. – Не забывай: можно взойти на костер ради того, чтобы доказать, что земля вертится, но, честное слово, не стоит этого делать из-за штатной единицы. Масштабы не те.
– Дело не в масштабах, Митя. Дело в принципе. Ты что, не видишь, что твой Алексей Павлович – это пустое место?
Ага, уже до Алексея Павловича дошло, кто же следующий?
– Я не хочу обсуждать моих товарищей по работе, да еще в такой форме, – сказал Решетников.
Валя Минько присутствовала при этом разговоре, умоляюще смотрела на них обоих: только не ссорьтесь.
– Не надо так, Андрюша, – сказала она. – Алексей Павлович – хороший человек, и к тебе он хорошо относится.
– Меня не интересует, какой он человек. Меня интересует, какой он ученый.
– Андрюша, нельзя так!
Валя Минько, добрая душа, она больше всех страдает от этих раздоров – мечется между Андреем и остальными. Жалко ее – груб с ней Андрей, резок.
– А ты бы уж помолчала, миротворица. Тебе бы лишь примирить, утешить всех, а какой ценой – безразлично! Исцелительница страждущих!
И Валя безропотно сносит его грубость – любит она Андрея, сразу видно, любит.
В общем-то, со всеми перессорился Новожилов. А может быть, неправоту свою уже чувствовал, оттого и злился?..
Разговор этот, что ли, оставил неприятный осадок в душе, в остальном все вроде хорошо – и лабораторный семинар с его докладом прошел неплохо, и статью для журнала он уже набросал.
– Вы не огорчайтесь, что пока не можете сделать определенных выводов, – сказал ему Алексей Павлович. – И не спешите. Наше главное богатство – это факты. Экспериментатор, если хотите, подобен пчеле – он добывает мед фактов и наполняет им свои соты. Кто будет есть этот мед – это уже иной вопрос. – На Алексея Павловича иногда находила склонность к поэтическим сравнениям. В такие минуты Решетников подозревал, что в юности Алексей Павлович, наверно, пробовал писать стихи. – Будьте терпеливы. Введенский сказал однажды: «Я всю свою жизнь провел наедине с нервом лягушки».
Что сказал Введенский, все хорошо знали. Это было любимое изречение Алексея Павловича. Как-то Лейбович даже предложил начертать эти слова на стене в лаборатории и сам вызвался претворить в жизнь свою идею. Но его удержали – боялись обидеть Алексея Павловича. Конечно, он и виду бы не показал, что обиделся, посмеялся бы вместе со всеми, но, наверно, в глубине души это его задело бы. И так-то каждый раз, заговорив подобным образом, он сам же и смущался своей высокопарности, краснел и тушевался, как человек, невзначай обнаруживший перед другими свою слабость.
Не зря успокаивал Алексей Павлович Решетникова – угадывал, что доклад на семинаре не принес все-таки Решетникову настоящего удовлетворения, что бы там ни говорили о полезности собранного им материала, проделанной им работы.
Тихо и темно в институтских коридорах. Только кое-где выбивается из-под двери узкая полоска света – значит, еще работают такие же, как Решетников, полуночники. А вот и шаги чьи-то звучат, гулко разносятся в тишине: наверно, Лейбович – он тоже засиделся сегодня в лаборатории – соскучился в своей келье, идет навестить Решетникова.
Решетников оторвался от карточек, на которые заносил выписки из американского журнала, обернулся.
Из темноты коридора возник Трифонов.
– А я слышу – кто-то еще трудится во славу науки, – сказал он. – Решил взглянуть.
Какой-то странный, непривычный был у него вид. Выражение счастливой отрешенности плавало в его глазах.
– Оправдываем свое существование, – в тон ему ответил Решетников.
Трифонов остановился за его спиной, смотрел на записи, сделанные Решетниковым.
– Между прочим, я давно уже хотел тебе сказать, да все не решался как-то, вроде бы не мое это дело, – проговорил он. – Напрасно ты возишься с этими красителями. Увязнешь в них. Поверь мне, у меня есть нюх на такие вещи.
Ого, это было уже что-то новенькое. Хоть и не стало между ними прежней холодности и неприязни, но все же не отваживался пока Трифонов давать ему советы.
– В твоих словах промелькнуло одно очень точное замечание, – сказал Решетников. – Что это не твое дело.
– Ладно, не сердись, – примирительно отозвался Трифонов. – Я же из лучших побуждений. Просто какое-то дурацкое у меня сегодня настроение. «Все прошлое опять припоминаю…» – продекламировал он. – Как мы с тобой в университет поступали, вдруг вспомнил…
Решетников молчал. Он уже догадывался, куда клонит Трифонов. О Тане ему хочется поговорить, о Тане.
И точно, Трифонов спросил:
– Ты Таню часто видишь?
– Нет, – сказал Решетников.
– Мне кажется, у них отношения с мужем не ладятся, – сказал Трифонов. Тревожная озабоченность звучала в его голосе.
– Откуда ты взял?
– Я их в театре видел. Они меня не видели, а я видел. Мы с Галей в ложе сидели, на первом ярусе, а они в партере. Потом в антракте я прогуляться вышел – смотрю, они передо мной идут. Ты не думай, я не следил за ними, – сказал он, поймав быстрый взгляд Решетникова. – А впрочем, – что врать! – нарочно шел позади них. Он ее под руку хотел взять, а она вдруг руку отдернула и отстранилась – так, как если бы человек этот ей н е п р и я т е н был…
Он говорил таким тоном, словно их с Решетниковым связывала одна общая тайна, словно он не сомневался, что все, что он рассказывает, так же важно, сокровенно и дорого для Решетникова, как для него самого. И Решетников поймал себя на том, что слушает с острым, почти болезненным любопытством.
– Вот ты бы с Галей и поделился своими наблюдениями, – сказал он, сердясь больше на себя, чем на Трифонова. – Ей бы тоже было интересно.
– Я, знаешь, как-то не сообразил, – сразу принимая шутливый тон, откликнулся Трифонов. – Кстати, она уже заждалась меня, наверно, мечет громы и молнии. Ты даже не представляешь, что сейчас будет. Не женись, Решетников, не женись – вот тебе мой последний совет.
И он ушел, посмеиваясь, беззаботно помахивая портфелем, – ни дать ни взять, проказливый муж, спешащий домой, к своей супруге. Но слишком хорошо знал Решетников Женьку Трифонова, чтобы поверить в эту беззаботность.
Он посмотрел на часы – до конца опыта еще ждать и ждать.
Едва затихли в коридоре шаги Трифонова, явился Лейбович. Как всегда, в своем затрапезном свитере, в синих потертых джинсах. Однажды девчонки-лаборантки подшутили над ним – как-то, когда было жарко и он работал в ковбойке, они спрятали его свитер. И сколько ни злился Лейбович, сколько ни упрашивал, так и остались непреклонными, так и не вернули. Ничего, ничего, пусть хоть раз придет на работу в приличном виде. И что вы думаете? На следующий день Лейбович появился в свитере, который был как две капли воды похож на конфискованный – столь же затасканный и затертый. Таким образом, экспериментальным путем было установлено, что у Лейбовича вовсе не один, как предполагалось, а по крайней мере два свитера.
– Чего этот вынюхивал? – спросил Лейбович.
– Да так… – неопределенно пожал плечами Решетников.
– Что-то частенько он стал к нам заглядывать. Мне это не нравится.
«Как долго тянется за человеком плохая слава, – думал Решетников. – Вот уже сколько лет прошло, а нет-нет кто-нибудь да и скажет: «Трифонов? Это тот самый? Нет уж, увольте – е г о статью я на отзыв не возьму…»
Лейбович сел на край стола, сгорбился, уперся подбородком в кулак.
– Сашка, да ты наполовину седой! – удивленно сказал Решетников. – Когда это ты успел?
Ему и верно только сейчас вдруг бросилось в глаза, сколько седых волос в густой, буйно торчащей во все стороны шевелюре Лейбовича.
– Успел, – грустно отозвался Лейбович. – А моя мама до сих пор говорит знакомым: «Мой сын еще совсем мальчик, а уже кандидат наук!» Вот так-то, друг Горацио… Молодой кандидат наук, молодой ученый, а один, глядишь, уже седой, другой – лысый…
– Ты сегодня меланхолично настроен.
– Да, Митя, да. Тебе нельзя отказать в проницательности. Как твои опыты?
Решетников опять пожал плечами:
– Буду смотреть. Завтра, пожалуй, начну новую серию.
– Вот то-то и оно, – сказал Лейбович. – Меня не оставляет ощущение, будто мы топчемся на одном месте. Проверяем уже открытое. Доказываем уже доказанное. Ну, первые годы это понятно, так и нужно было, но сколько же можно? Ну хорошо – докажем, подтвердим – так все равно нам особой славы не будет, потому что не нами открыто. А если не сумеем, не подтвердим, так и вовсе труды свои кошке под хвост?..
– Что ты предлагаешь?
– Не знаю, пока сам не знаю. Но чувствую – мы топчемся на месте, словно подошли к черте какой-то, к рубежу, и топчемся. И между прочим, Андрей это первым почувствовал. Думаешь, это случайно, что каша лаборатория такой дружной была, а теперь пошли вдруг трещины? Ты знаешь, я не люблю Андрея, характер у него – не сахар, и с Валей он обращается по-хамски, и вся эта склока, затеянная им, неприятна, противна, но в интуиции ему отказать нельзя.
– К чему ты все-таки клонишь? Оставить все, бросить на полпути?
– Не знаю, Митя, не знаю. Вот у тебя не получается одна серия опытов, ты ставишь другую. Зачем?
– Ты сам прекрасно знаешь зачем. Ищу новые пути, новые доказательства.
– Вот в том-то и дело, что новые доказательства. А идеи? Где новые идеи? Мы живем старым багажом, который оставил нам Левандовский. Кто-то однажды заметил, что ученые бывают двух типов: одни прорубают дорогу в джунглях, другие ее асфальтируют. Мы – из тех, кто асфальтирует. Здесь ямка – мы ее засыпаем, здесь бугорок – мы его срежем.
– Что ж, тоже полезно, – усмехнулся Решетников.
– Да, но я думаю, что Левандовский нас бы не похвалил.
– Мы должны довести до конца его работу.
– Да, ты, конечно, прав, я и сам не понимаю, что это на меня накатило. Вдруг все начинает казаться мелким, бессмысленным. У тебя так бывает?
– Бывает, – сказал Решетников. – Ты, пожалуй, просто устал. Каждый вечер торчишь в лаборатории. Куда только твоя мама смотрит?
«В одном он, безусловно, прав, – думал Решетников, – эти трещины, эти раздоры – они не случайны. Кризис. Болезнь роста. – Он ухватился за эту мысль. – Да, да, болезнь роста».
Когда он возражал сейчас Лейбовичу, он возражал самому себе. Его и самого не раз охватывали сомнения, подобные тем, которые высказал сегодня Саша.
«Болезнь роста», – повторил он. В общем-то все понятно – первое время они были озабочены тем, чтобы утвердить авторитет школы Левандовского. Они повторяли и развивали уже сделанное Левандовским. Тогда это было необходимо. Но это было проще, и удач тогда было больше. А теперь… Теперь настала пора идти вглубь, и это оказалось куда труднее.
«Мы просто истосковались по ощутимым результатам, – думал Решетников. – Вот в чем все дело».
– А тут еще, понимаешь ли, ингибитор один никак не могу достать, – пожаловался Лейбович. – Позарез нужен. В литературе наткнулся на любопытную идейку, надо бы проверить. Так нет – я, видишь ли, еще год назад, оказывается, должен был знать, что меня осенит, что мне этот самый тетродотоксин понадобится. «Пожалуйста, – говорят, – мы у вас на будущий год заявочку примем, в план вставим…» У этих снабженцев-плановиков один разговор. А у меня горит, мне работать надо! Чувствую – идея в воздухе носится, не я – кто-нибудь другой, за границей, за нее ухватится. Там ведь не будут год ждать тетродотоксина. Придется по институтам идти, милостыню выпрашивать…
– С этого бы и начинал! – засмеялся, Решетников. – А то – настроение, настроение… У меня тут тоже возникла в голове одна интересная мыслишка. Я с тобой как раз хотел посоветоваться. Вот смотри. До сих пор нам никак с достаточной убедительностью не удавалось доказать, что краситель проникает именно во внутриклеточную воду, что именно особые свойства внутриклеточной воды регулируют его поступление. Теперь я что придумал: надо добиться резкого увеличения содержания воды в мышечном волокне. Увеличится содержание воды – должно возрасти и поступление красителя в клетки. А коли так – то уж не останется никаких сомнений, что краситель поступает именно во внутриклеточную воду, что вода, а не мембрана играет в этом процессе главную роль…
– Остроумно, – сказал Лейбович. – И, как все гениальное, просто. Подожди, а каким образом ты думаешь вызвать увеличение воды?..
Они начали обсуждать детали предстоящего опыта, и сразу увлеклись, и, казалось, совсем забыли о разговоре, который только что состоялся между ними…
Было уже поздно, когда Решетников вышел из института. Стояла осенняя ночь, с Невы дул порывистый ветер, с сухим шуршанием, то скользя по асфальту, подобно детским бумажным корабликам, то крутясь, как перекати-поле, проносились вдоль улицы опавшие, съежившиеся листья. Низкие тучи, наползая из темноты, клубились над самыми крышами, но дождя не было.
Когда-то в юности он особенно любил шататься по городу в такую погоду. И сейчас Решетникова потянуло побродить по улицам. Сначала пошел он было, как в молодости, наугад – без цели, но потом невольно повлекло его к знакомой улице. Вдруг захотелось ему хоть издали взглянуть на Ритин дом, хоть постоять возле него.
На маленькой улочке было безлюдно и тихо, только ветер со скрипом раскачивал фонари да громыхал где-то полуоторванным карнизом… Кошка деловито перебежала дорогу и скрылась в подворотне.
Решетников вошел во двор, дом равнодушно смотрел на него темными окнами, лишь над парадными горели желтоватые лампочки.
Решетников запрокинул голову, и сердце его радостно екнуло: на пятом этаже одиноко светилось знакомое окошко. Он еле удержал себя, чтобы не взлететь вверх по лестнице, чтобы не переполошить звонками всю коммунальную квартиру. Он уже видел, как открывает ему Рита дверь, как изумленно шепчет: «Сумасшедший! Всех перебудил! Откуда ты?»
Все-таки он не сделал этого.
Он взглянул на часы – четверть второго. И так ясно представил он себе спящего Сережку, лампу, прикрытую наброшенным платком, и Риту, склонившуюся над книгой…
Ничем, даже своим появлением, не хотелось ему сейчас тревожить Риту, не хотелось нарушать тот домашний, мирный уют, который исходил от одиноко светящегося окошка…
ГЛАВА 8«…Ну вот, Таня, я и подошел к событию, ради которого взялся за это письмо. Сумею ли я рассказать о нем?.. Я ловлю себя на том, что теперь мне хочется, чтобы это письмо подольше не заканчивалось. Я запечатаю его, опущу в почтовый ящик, и вместе с ним улетучатся все мои иллюзии и надежды… А пока я пишу его, я еще могу надеяться. Ну что ж… Может быть, я оттого и решился открыться перед тобой, что мне терять нечего…
Вообще, с точки зрения рассудка, логики, с точки зрения нормального человека, это письмо мое, эта исповедь, это желание непременно поведать тебе о самом сокровенном, даже постыдном, что, может быть, лишь оттолкнет, испугает тебя, – необъяснимо, лишено смысла. Только человек, который сам мучился от любви, который жил в мире фантазий, который так привык мысленно разговаривать с любимой женщиной, что уже утерял ощущение – что происходит наяву, а что лишь в его воображении, только этот человек поймет меня…
Меня всегда страшило, что ты можешь подумать, будто я совершил т о т свой поступок, будто я решился на него, желая отомстить тебе. Будто, метя в твоего отца, я мстил тебе, его дочери. Клянусь, у меня даже мысли такой никогда не было в голове. Наоборот, я пришел в отчаяние, когда сообразил, что тогдашним моим действиям легко можно дать и такое истолкование, что оно напрашивается само собой.
Впрочем, все по порядку.
Знали ли мы тогда, на третьем курсе, что над твоим отцом сгущаются тучи?.. И да, и нет. Да – потому что уже доносились до нас отголоски каких-то слухов, разговоров, предположений. Нет – потому что наша жизнь и жизнь твоего отца – это были как бы две совершенно разные сферы, слишком большая была дистанция между студентами-третьекурсниками, едва лишь начинающими осваивать азы самостоятельной научной работы, и профессором, доктором наук, членом-корреспондентом академии. Слишком незыблемым авторитетом, слишком крупной, значительной фигурой был он в наших глазах, чтобы мы всерьез поверили, будто ему что-то угрожает. И когда однажды меня вызвали в деканат, я меньше всего мог предположить, что разговор пойдет о Василии Игнатьевиче Левандовском.
Деканом нашего факультета в то время был профессор Рытвин. Когда я, несмело постучавшись, вошел в его кабинет, я увидел там кроме самого Рытвина его заместителя Петра Ивановича Бекасова, немолодого уже человека, обычно пребывавшего в состоянии тихой задумчивости, и секретаря факультетского комсомольского бюро Романа Кравчука. Кравчук пришел в университет из армии, на первом курсе не расставался с гимнастеркой – я всегда был уверен, что он фронтовик, и только потом, много позже, чуть ли не на выпускном вечере, узнал, что на фронт он попасть не успел: еще учился то ли на каких-то курсах, то ли в училище, когда война уже кончилась.
Рытвин сидел не за письменным столом, как обычно, когда принимал студентов, а на черном кожаном – с высокой прямой спинкой – диване, сидел свободно, по-домашнему, развалившись, рядом с ним пристроился Бекасов. Кравчук восседал на стуле напротив них.
Я нарочно стараюсь восстановить все детально, в подробностях, потому что без этих подробностей ты не поймешь моего тогдашнего состояния – каждая мелочь тут была важна, каждая мелочь сыграла свою роль.
Рытвин кивнул мне, улыбнулся, Кравчук крепко пожал руку, придвинул еще один стул, мне предложили сесть. Теперь все четверо мы образовывали как бы кружок, письменный стол не разделял меня и декана, я был принят здесь как равный, и этим словно подчеркивалась неофициальность той беседы, которая должна была последовать.
Конечно, мне трудно теперь абсолютно точно восстановить весь разговор, но с чего он начался и как протекал, я помню прекрасно.
– Ну как, Трифонов, грызете гранит науки? – коротко хохотнув, пошутил Рытвин.
Я улыбнулся в ответ.
– Грызет! Чего ему не грызть! – выйдя из задумчивости, подхватил шутку Петр Иванович. – Зубы-то у него вон какие!
Они отсмеялись, и лица их приняли озабоченное выражение. И я тоже перестал улыбаться. Первым опять заговорил Рытвин:
– Скажите, Трифонов, вы ведь в кружке у Василия Игнатьевича занимаетесь?
Я кивнул.
– И лекции его, наверно, внимательно слушаете?
– Да, – сказал я.
– Ну и какое же впечатление они на вас производят?
– По-моему, интересно, – сказал я.
– Да, лектор Василий Игнатьевич отличный, этого у него не отнимешь. Этому всем нам у него поучиться можно. Если бы к такой форме еще и содержание… а Петр Иванович?
Все трое понимающе улыбнулись, и я улыбнулся вслед за ними такой же понимающей улыбкой, хотя, надо признаться, еще ничего не понимал.
– А скажите, Трифонов, – опять обратился ко мне Рытвин, – вам не кажется, что в лекциях профессора Левандовского проскальзывает что-то… как бы это помягче выразиться… что-то неприемлемое для нас?
Я замялся. Только теперь я начал догадываться, куда он клонит.
Я не помню, что именно я ответил. Я не обманываю тебя, Таня, я ничего не хочу скрывать, я действительно не помню слов. Я пробормотал что-то неопределенное, что с одинаковым успехом можно было истолковать и как согласие и как отрицание.
Почему я не ответил четко и ясно? Скажи я «нет», и они бы отпустили меня с миром. Почему я не сказал «нет»?
Не знаю, но мне всегда трудно ответить человеку не то, что он от меня ждет. Я начинаю мяться, я чувствую себя не в своей тарелке. А тут я был один – примерный студент, робкий, приученный к послушанию мальчик, а их трое.
Я был растерян, неожиданность того, что совершалось сейчас на моих глазах, ошеломила меня. Или подкупало меня то, что эти люди, руководители факультета, нашли нужным посоветоваться со мной, доверились мне? Что там скрывать – тщеславие, гордость оттого, что я п о д н я т до них, что я п р и р а в н е н, уже шевелились во мне. Или боязнь обнаружить, что я чего-то недопонимаю, давала себя знать?
И Рытвин сразу уцепился за эту мою неопределенность. Он, наверно, все понял. До сих пор это была только разведка, а теперь он заговорил всерьез.
– Видите ли, Трифонов, вам мы можем сказать, что нас очень тревожит то, что происходит с профессором Левандовским. И не только нас. – Он понизил голос, он говорил со мной так, словно и правда делился самыми наболевшими, самыми сокровенными своими опасениями. Выражение озабоченности не сходило с его лица. И я вдруг почувствовал, как эта его тревога, эта озабоченность передаются и мне.
– Я понимаю, вам, конечно, еще трудно оценить всю серьезность создавшегося положения, весь тот вред, который может нанести нашей науке, воспитанию студенчества наш уважаемый профессор своими ошибочными концепциями. Но вот все-таки и вы уже почувствовали, каким душком несет от его лекций. Хотя Василий Игнатьевич вовсе не такой уж наивный человек, чтобы идти в открытую. Как говорится, сомнительные идейки преподносятся в весьма изящной упаковке. Это нас с Петром Ивановичем, старых воробьев, на мякине не проведешь, а вы, студенты, народ увлекающийся, горячий, доверчивый… Так что прицел тут дальний, да-альний! Возьмите ту же историю со ссылками на Франца Фиша. Сегодня Левандовский на его эксперименты сослался, завтра вроде бы между прочим фамилию упомянул, а там, глядишь, у вас об этом самом Франце представление как о непререкаемом авторитете, как о научной величине сложится! А если копнуть поглубже, кто такой этот Франц Фиш? Идеалист, представитель реакционной школы в физиологии, наш противник. Вот и прикиньте, зачем Левандовскому это понадобилось? Какие такие у него расчеты? А, Трифонов?
Я молчал. Я был слишком подавлен серьезностью обвинений, выдвигаемых против Левандовского. Дело и верно заваривалось нешуточное. Кто бы мог подумать! Я-то смотрел всегда на Левандовского восторженными глазами, а оказывается… Теперь я припоминал – и правда Левандовский не раз ссылался на эксперименты этого Франца Фиша, Рытвин был прав, тут ничего не возразишь.
Рытвин еще долго говорил о Левандовском, о его ошибках, об отходе от павловской школы, о нежелании считаться с критикой, и я слушал его внимательно и сосредоточенно, с прилежанием студента, сидящего на лекции в первом ряду.
Наконец он, видно, счел, что сказанного достаточно.
– Ну вот, – произнес он после небольшой паузы. – Теперь, хотя бы в общих чертах, картина вам ясна.
Я кивнул.
– Дело, как видите, серьезное. Готовится обсуждение работ Левандовского, его деятельности. Наш общий долг – помочь Василию Игнатьевичу осознать свои ошибки, помочь выбраться на правильную дорогу.
Я опять кивнул.
– Мы считаем, – сказал Рытвин, – что вы, Трифонов, должны выступить от имени студентов.
Только теперь до меня дошло, зачем они меня позвали. Не просто же поделиться своими сомнениями!
Первое, что я почувствовал, был испуг. Я никогда не любил выступать, любое выступление давалось мне с трудом.
– Я не знаю, – сказал я. – Я…
– У вас еще есть достаточно времени, – сказал Рытвин. – Вы не смущайтесь, мы вам поможем. Да вы и сами все понимаете правильно.
– Я не знаю… – повторил я. – Я всегда очень хорошо относился к Василию Игнатьевичу.
Мне казалось, что, произнося сейчас эту фразу, я совершаю едва ли не героический поступок.
– Мы знаем! – воскликнул Рытвин. – Мы знаем! И потому тем более ценным будет ваше выступление! Нам не нужны штатные ораторы, которые готовы говорить о чем угодно и о ком угодно. Нам нужно, чтобы Левандовскому правду в глаза сказали те, к кому он прислушивается. Вы как раз такой человек. Вы его ученик. Вы не имеете права молчать о его ошибках. Вы должны помочь ему. Нет, вы просто обязаны выступить!
Я еще колебался. И тут в разговор вступил Роман Кравчук. До сих пор он не произнес ни слова, только шевелил пальцами – была у него такая привычка, все время тренировал он кисти рук, то ли волейболист он был, то ли борец, не помню уже.
– Трудно? – быстро спросил он. – А Геннадию Сергеевичу, – и он кивнул в сторону Рытвина, – думаешь, не трудно? Ты с Левандовским год, от силы два, как знаком, а Геннадий Сергеевич его лет двадцать знает. Если бы все так просто было, и весь разговор этот незачем было бы затевать!..
Я еще тянул, я мялся, но уже чувствовал, что соглашусь, никуда не денусь. После того как я почти час просидел в этом кабинете, после всего, что услышал, после того как кивал, соглашаясь, – мог ли я отказаться?.. Я уже был преисполнен ощущением серьезности надвигающихся событий – почему же не допустить, что я сумею помочь Левандовскому своим выступлением?
– Ну как, согласны?
Потом уже я часто думал: почему их выбор пал именно на меня? Только ли оттого, что я был образцовым студентом, отличником, и вместе с тем не занимал никаких общественных постов, не был приближен к факультетскому руководству, был, так сказать, человеком независимым, нейтральным, увлеченным только наукой, и потому моя кандидатура оказалась наиболее подходящей, наиболее выигрышной?.. Или и они угадали во мне эту готовность подчиниться, эту печать послушания, которую я носил на своем лице?.. Во всяком случае, они не ошиблись.
– Я еще подумаю, – сказал я.
– Ну вот и прекрасно, – улыбнулся мне в ответ Рытвин. – Я вижу, что вы согласны.
Странно, но до сих пор, в течение всего этого разговора, я почему-то ни разу не подумал о тебе, Таня. Профессор Левандовский существовал в моем сознании отдельно, обособленно, вроде бы даже и не связывался никак с тобой.
И лишь уже очутившись за дверью, идя по университетскому коридору, я вдруг сообразил, на что я согласился.
И вот что поразительно – мысль о тебе не только не остановила меня, не только не заставила тут же отказаться от выступления против твоего отца, а, наоборот, она как бы освободила меня от последних колебаний. Опять я боюсь, ты можешь подумать, что мной руководила ревность, желание отомстить, я ведь был отвергнут тобой, причем ты обходилась со мной довольно жестоко, ты не будешь отрицать этого, я был не нужен тебе. И все-таки вовсе не обида двигала моими поступками. Наоборот! То, что я любил тебя, то, что ты была дорога мне, и то, что, несмотря на это, я собирался, я должен был выступить против твоего отца, вдруг осветило мое намерение новым светом. Я ш е л н а ж е р т в у, я жертвовал своим чувством во имя долга, во имя принципа, я не мог поступить иначе – вот о чем я теперь думал. Я прежде всего себе, самому себе причинял страдание этим выступлением, и потому я был теперь чист перед Левандовским.
Все, что произошло затем, ты уже знаешь.
Моя исповедь закончена. Какие чувства она вызовет в твоей душе? Не знаю. Но прежде чем ты будешь судить меня за малодушие и слабость, позволь еще сказать вот о чем. Меня осуждали многие. Я чувствую это осуждение до сих пор, я только делаю вид, что ничего не замечаю. Я осудил себя сам. Но я ли один виноват в том, что случилось? Разве все, кто окружал меня – и мать, и учителя, и преподаватели, – все, кто был призван меня учить и воспитывать, разве не пестовали они с усердием во мне все того же послушного, покорного мальчика?







