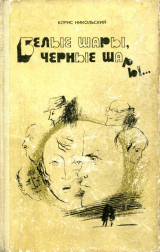
Текст книги "Белые шары, черные шары... Жду и надеюсь"
Автор книги: Борис Никольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
– В искусстве действуют другие законы. И между прочим, писать рассказы несколько потруднее, чем диссертации, – съязвил Миша.
– Тогда не пишите их вовсе, если это вам так трудно, – сказал Решетников.
– Зачем ты с ним так сурово? – сказала Таня, когда Миша отошел и они опять остались одни. – Он и правда мальчик не без способностей.
– Может быть. Но я не терплю разглагольствующих дилетантов. И потом, – сказал Решетников, – я боюсь за тебя.
– За меня?
– От этих людей за километр несет обреченностью на неудачи. Их бесплодное дилетантство заразно, как корь. Зачем ты окружила себя этими людьми?..
Таня пожала плечами:
– Окружила – слишком громко сказано. Просто мы собираемся изредка. Зачем? Я уже говорила тебе однажды. Мне было любопытно. Мне казалось, что они из какой то иной, неизвестной мне жизни… А еще… Понимаешь, мне нужно было чем-то заполнить образовавшуюся пустоту…
Они помолчали.
– Почему ты не спрашиваешь, отчего я разошлась с мужем? – сказала Таня.
– Я давно уже спрашиваю об этом. Только молча, мысленно, – сказал Решетников. Лишь теперь он поймал себя на том, что все время пытается отыскать здесь, в кабинете, следы прежнего присутствия этого человека – Таниного мужа. Но ничего не было – как будто он и не жил здесь несколько лет, как будто он прошел сквозь Танину жизнь, не оставив никакого напоминания о себе. И вообще, если бы не та давняя встреча на похоронах, Решетников был бы, кажется, склонен поверить, что этот человек не существовал вовсе, что вся эта история с замужеством – лишь Танина фантазия.
– Впрочем, ты уже однажды ответила мне на этот вопрос, – добавил он.
– Это когда же?
– А помнишь, когда ты приходила в институт и мы прощались внизу, в гардеробе, ты сказала вдруг: «Не вздумай жениться без любви – понял? Можно уговорить, убедить, обмануть себя, но потом все равно приходится расплачиваться…» Ты сказала это весело, но в голосе у тебя звучали слезы…
– Вот видишь, ты все уже знаешь, – сказала Таня. – Когда умер папа, я тоже ведь пыталась заполнить пустоту… Мне, правда, все время казалось, что я сумею полюбить этого человека… Он-то славный был, только слишком мягкий, характера ему не хватало… Может быть, все бы и обошлось у нас, привыкла бы я к нему, если бы не его родственники… Понимаешь, папа незадолго перед смертью почти все свои деньги передал в Фонд мира, и я не возражала, я согласилась, я видела, что ему это важно… Но этот его поступок родителям мужа казался диким, необъяснимым – каким-то странным чудачеством старого человека. Им все казалось, что я их обманываю, что не мог мой отец сделать этого. Даже вспоминать противно, как издалека, словно невзначай, все заводили они со мной разговор об этих деньгах… Бр-рр… Гадость…
Они разговаривали негромко, по-прежнему стоя у окна, никто не мешал им, но едва лишь разговор коснулся Левандовского, оба, и Таня, и Решетников, вдруг замолчали.
Однажды, много лет назад, они уже стояли так же возле этого окна. Тогда они были одни в этом кабинете, и Таня сказала: «Иногда мне кажется, что я люблю тебя так, что на все готова ради тебя, а иногда вдруг я ничего не чувствую… Что мне делать, Решетников? – И добавила неожиданно сердито: – Поцелуй меня, Решетников, слышишь?»
– Боже мой, какие мы были глупые! – сказала Таня сейчас.
Вспомнила ли она тоже тот день и те свои слова? Вспомнила ли?
– Мы хотели любви и в то же время больше всего боялись расстаться со своей свободой, больше всего боялись зависимости. И не могли понять, что настоящая любовь это и есть зависимость. Кажется, я только теперь поняла это.
– Выходит, мы все-таки хоть немножко поумнели за это время, – сказал он.
Она посмотрела на него с грустной улыбкой:
– Что ж, все возвращается на круги своя?.. Так? Или не так?
Решетников тоже улыбнулся в ответ ей и покачал головой:
– Нет, будем считать, что это виток спирали…
– Ну да, – сказала она, – мы же немножко поумнели за это время…
ГЛАВА 4Что ж, все возвращается на круги своя?..
И разве нет в этом чувстве – чувстве в о з в р а щ е н и я – возвращаешься ли ты в милые твоему сердцу родные места, в родной ли дом, или, после долгой разлуки, к близкому тебе человеку – особого очарования, радости, и легкой печали, и ощущения собственной вины – оттого, что так затянулась эта разлука, и искупления этой вины, и счастливого сознания, что тебя ждут и что тот человек, кто ждет тебя, еще дороже, еще роднее тебе, чем прежде… И когда думал Решетников о Тане, казалось ему, будто всегда в глубине души ощущал он ее присутствие рядом с собой, даже когда она была далеко от него, с чужим, незнакомым ему человеком, будто знал он, что есть между ними нечто такое, что связало их прочно, раз и навсегда, – какие бы люди ни входили в их жизнь, как бы ни разъединяли их внешние обстоятельства или собственные поступки, но все это было преходяще, недолговечно, все это протекало как бы в ином мире, в иной плоскости и потому но могло коснуться их отношений…
В тот вечер они долго не могли наговориться и долго не могли расстаться.
Когда Глеб Первухин и его друзья стали собираться по домам, Решетников тоже засобирался домой, и Таня пошла их проводить – вышли они все вместе, но на улице скоро оказались одни, вдвоем – Таня и Решетников. Они даже и не заметили, как это произошло. Так бывало раньше, в молодости, – казалось, столь сильно было их желание остаться вдвоем, что люди вокруг них вдруг начинали ощущать случайность, ненужность своего присутствия и отпадали, отсеивались, исчезали.
– Как давно мы не бродили о тобой вдвоем! – сказала Таня, беря его под руку, Он сунул свою руку в карман пальто, и ее рука тоже скользнула вслед, он ощутил ее теплое прикосновение, их пальцы переплелись. Когда-то, прежде, она любила ходить с ним именно так, любила прятать озябшую руку в карман его пальто, отогревать свои пальцы в его руке…
– Как давно! – повторила она. – Даже подумать страшно! Ты знаешь, я никогда раньше не чувствовала течения времени. А теперь я чувствую, как оно уходит. Может быть, это началось, когда умер папа. А может быть, рано или поздно мы все равно начинаем задумываться – кто мы, зачем мы, какой смысл в нашей жизни… И вот я думаю о своем отце… Объясни мне, что же произошло?.. Вы же все клялись его именем, а теперь… Ты только не сердись, я не обвиняю тебя ни в чем, я понять хочу… Ты знаешь, я иногда просматриваю нарочно научные журналы, так на его работы ведь уже почти совсем и ссылаться перестали…
– Ну почему… – сказал Решетников.
– Только не надо меня обманывать. Я ведь все вижу. Я даже жалею иногда, что взялась за этот сборник об отце. Так бы я, может быть, ничего и не знала. Ты сам-то в своих последних статьях разве ссылаешься на него?
– Нет, – сказал Решетников, – но…
– Опять «но»! А раньше ведь ни одной твоей работы без имени Левандовского не обходилось. И опять, прошу, пойми меня правильно, тут не честолюбие, не обида говорит – я понять хочу… Это д л я м е н я важно. Он же всю свою жизнь науке отдал – ты сам это знаешь, для него же ничего больше не существовало, а что после него осталось? Вчера ты опроверг его, сегодня Лейбович, завтра еще кто-нибудь третий… Выходит, его работа была напрасной?..
– Нет, – сказал Решетников, – нет, Таня. В науке не бывает напрасной работы.
– Это общие слова! Ты просто хочешь меня утешить!
– Почему же общие? Твой отец был настоящим ученым, он не боялся риска. Он ошибался в своих последних работах – теперь мы это знаем. Он выбрал свой путь, свои доказательства, и мы пытались идти за ним и поняли, что путь этот неверен. Зато мы знаем теперь, где истина. Если хочешь, это тоже открытие, пусть от противного, но открытие. Вот почему мы говорим, что напрасной работы в науке не бывает.
– Все-таки это грустно… – сказала Таня.
– Грустно, – сказал Решетников. – Ты вот обиделась на меня тогда за то, что я сам первым не сказал тебе об этом, а я ведь просто все не решался, все откладывал, мне трудно было с тобой говорить об этом… Да я, пока в лаборатории решился сказать, сколько передумал… И все же – твой отец поступил бы так же.
– Да, он поступил бы так же… – отозвалась Таня. – Я это знаю…
– И понимаешь, – сказал Решетников, – может быть, в этом как раз главный смысл его жизни… Ты говоришь: что после него осталось?.. Остались люди, которые спрашивают себя: а как бы поступил на их месте Левандовский?.. Может быть, это и есть самое главное… Ты знаешь, наука в наше время движется вперед очень быстро, теории устаревают, опровергаются, появляются новые методы, новые приборы, новые возможности, которых не было у тех, кто работал до нас… И память не в том, чтобы лишний раз упомянуть фамилию твоего отца в перечне литературы, память, она в другом… Я часто думаю об этом… Как бы тебе объяснить получше… Вот моя мать… Она умерла, когда ей не было еще тридцати пяти. Что она успела в жизни? Что видела? В чем же смысл е е жизни? Или бесполезно задавать себе такие вопросы?..
Таня молча слушала его, он чувствовал, как шевельнулись, как дрогнули ее пальцы, словно Таня хотела остановить его, хотела сказать: не надо об этом…
– Но бесполезно не бесполезно, а все равно куда от них денешься – от этих вопросов… Твой отец… и моя мать – у них были разные судьбы и разная жизнь, но память о них осталась, сохранилась во мне, в тебе и перейдет дальше… В этом смысл… Наверно, я путанно говорю, но иногда мне кажется, что каждый из нас – это как бы клеточка памяти в беспрерывной цепи, которая называется жизнью человечества…
И опять он почувствовал, как дрогнула ее рука в его руке, и опять она промолчала, не стала перебивать его, ни о чем не спросила. Но ему показалось, он догадался, что́ она хотела сказать.
– Ты только не думай, что труд твоего отца был напрасным. И многие его работы сохранили свое значение и продолжают развиваться, но суть все-таки не в этом… Видишь, я все время верчусь вокруг одного и того же, мне хочется, чтобы ты поняла… Тут недавно мне встретился мой бывший одноклассник и полушутя спрашивает: какие же вы ученые, если не делаете открытий?.. Ну, я отшутился, сострил что-то в ответ. А вообще-то, знаешь, я, откровенно говоря, не люблю, когда меня называют ученым, стесняюсь. Высокопарно это звучит. Мы – р а б о т н и к и науки, вот кто мы. Я бы даже сказал: мы – чернорабочие науки, если бы не боялся, что это тоже прозвучит претенциозно. И твой отец тоже был р а б о т н и к о м.
– Ты прав, это верно, – сказала она.
Они забрели в маленький сквер. Здесь было темно и пусто. Деревья стояли еще голые, но горьковатый весенний запах мокрой коры и набухающих почек уже плавал в воздухе.
– Между прочим, знаешь, чего я боялся больше всего? – сказал Решетников. – Что моим выступлением, моей работой воспользуются враги твоего отца, что они оживут, выползут опять из своих нор. Я до сих пор жду этого. Но все тихо. Я даже подозреваю теперь, что они так ничего и не заметили.
– Как? Почему же? – спросила Таня.
– Очень просто. Люди вроде Рытвина были закулисных дел мастерами. А теперь атмосфера не та, воздух не тот. Когда же дело касается конкретной работы, истинной науки, они, оказывается, беспомощны. Да и зубов у них уже нет – и в прямом, и в переносном смысле…
– Но бог с ним, с Рытвиным, – сказала Таня. – Расскажи мне лучше о вашей лаборатории. Как Фаина Григорьевна?
– Фаина Григорьевна? Она, кажется, так и считает меня отступником. Вслух она ничего не говорит, но я это чувствую.
– А Мелентьев?
– И он тоже.
– Тебе это неприятно? – участливо спросила Таня.
– Что ж, – сказал Решетников. – Я ведь знал, на что иду.
– Мне кажется, ты все еще коришь себя, – сказала Таня. – Не надо.
И он вдруг понял, что все время ждал этих слов. Как бы ни был он убежден, что не в чем ему винить себя, что совесть его спокойна, как бы ни уверял он себя в этом, а все-таки носил он на сердце тяжесть и, кажется, начал даже постепенно привыкать и смиряться с ней, как привыкают и смиряются с несильной, но постоянной болью…
Они сидели на скамейке, тесно прижавшись друг к другу, стараясь согреть друг друга, в этом маленьком, безлюдном, насквозь продуваемом ветром сквере, как двое влюбленных, у которых еще не было ни пристанища, ни общей крыши над головой, ни дома, где бы они могли укрыться… Никто не мешал им сразу вернуться к Тане, но почему-то и он и она вели себя так, словно эта мысль не приходила им в голову, словно там, в ее доме, вместе с невыветрившимся запахом чужих сигарет еще оставались чужие им люди…
– Я, кажется, начинаю верить в судьбу… – сказала Таня. – Разве не странно, что мы опять с тобой сидим вот так, вместе… А сколько препятствий мы сами постарались нагромоздить, подумать только, Решетников, сколько препятствий!.. И все-таки я всегда чувствовала, что мы вернемся к этому, я знала…
– Это тебе теперь так кажется, – сказал Решетников, поддразнивая ее.
– Ничего подобного! Как писали в старинных книгах: они были предназначены друг другу самой судьбой, – так и мы, правда?
– Правда, – сказал Решетников. – Помнишь, однажды, когда мы сидели в твоей комнатке в издательстве, ты сказала, что в юности нам непременно хотелось сложностей, страданий… Мы придумывали, мы изобретали их – и мучили ими самих себя и друг друга. Наверно, так и должно было быть в юности, наверно, надо было пройти через это, переболеть этой болезнью, я не жалею… Но, знаешь, теперь, чем старше я становлюсь, тем больше начинаю верить в мудрость простых истин… Работа, любовь, верность… С возрастом начинаешь понимать, что нет большего счастья, чем близость одного человека другому…
– Слушай, Решетников, мы уже начинаем разговаривать, как два убеленных сединами старца, – сказала Таня. – Мне это не нравится. Скажи мне лучше что-нибудь веселое.
– Самое веселое, что сейчас уже третий час ночи, – оказал Решетников.
– Счастливые часов не наблюдают, а мы сегодня счастливые, правда? – сказала, смеясь, Таня. – Но мне, между прочим, завтра вставать в полвосьмого. И если я просплю, то в этом будете виноваты вы, сударь…
Они поднялись со скамейки и вышли на улицу, которая теперь была так же пустынна, как сквер. Только на перекрестке неутомимо мигал желтым глазом светофор.
– А как поживает наш общий друг Трифонов? – неожиданно спросила Таня.
– Ничего. Кажется, он метит в заместители директора. Прежний заместитель уходит на пенсию.
– Ну и как?
– Не знаю. Может быть, он и будет неплохим заместителем, – делая нажим на последнем слове, сказал Решетников.
– Во всяком случае, послушным, – оказала Таня.
Они шли по спящему городу, шаги их звучали в тишине, отдаваясь в глубине дворов, и город, далее в этой, не парадной его части, сейчас, ночью, когда темнота скрывала потеки на фасадах старых домов, казался величественным и строгим.
По пути им попалась доска объявлений, и, не сговариваясь, они оба остановились возле нее. Свет уличного фонаря падал на стекло, за которым скрывались белые квадратики объявлений.
– «Даю уроки английского, – прочел Решетников. – Готовлю в вузы по математике, физике, химии…»
– «Куплю электрогитару… – прочла Таня. – Продается недорого шуба из искусственного меха, пятьдесят второй размер…»
Нет, чуда не получилось. Сейчас, когда рядом с ними не было уже Таниного отца, и объявления, казалось, утратили свой волшебный смысл – только обыденность человеческих забот выглядывала из них.
Одно объявление было приколото кнопкой снаружи прямо к деревянной раме. Тоненькая белая полоска бумаги трепетала на ветру: «Срочно нужна няня!!!»
– Признайся, Решетников, – сказала Таня, – тебе никогда не хотелось завести ребенка? Чтобы маленький Решетников бегал возле тебя?..
– Ты хочешь выведать все мои тайны, – ответил он. – И потом, тебя не должен волновать этот вопрос: ты сама как-то говорила, что ты не из тех женщин, кто умеет нянчиться с детьми…
– Мало ли что я говорила! Но ты так и не ответил мне.
Ветер рвал тонкую белую полоску, она еле держалась на одной кнопке – сорвется и улетит сейчас. Решетников ногтем поддел, вытащил из дерева оставшуюся от прежних объявлений кнопку и старательно прикрепил ею белый листок.
– Это еще одна простая истина, к которой приходишь с возрастом, – сказал он. – Раньше я как-то даже не задумывался об этом, а теперь все чаще ловлю себя на мысли, что мне хочется ребенка, сына, мальчика…
– Мальчика, мальчонку, мальчишечку… – сказала Таня. – Нет, Решетников, ты сегодня растрогаешь меня до слез… Честное слово…
Голос ее сорвался, задрожал, и Решетников подумал, что она разыгрывает его, шутит, притворяется, но при свете фонаря он вдруг увидел мокрую дорожку на ее щеке.
– Таня, ты что? Что с тобой?
– Ничего, ничего, ты не обращай внимания… Сейчас все будет в порядке… сейчас… Ну вот и все… Я же говорила, что ты растрогаешь меня до слез… – сказала она, уже пробуя улыбнуться.
Решетников молчал, растерянный.
Молча дошли они до ее дома, до старинного парадного с массивными узорными дверьми. Когда-то подолгу стояли они у этих дверей, прощаясь… И вроде бы совсем недавно – сегодня, нет, уже вчера, всего несколько часов назад подходил он к этим дверям, еще не зная, как встретят его в этом доме, а кажется, так давно это было…
– До свиданья, – сказала Таня.
– До свиданья…
– Скажи мне еще что-нибудь, – попросила она. Она смотрела на него, чуть запрокинув лицо. Черные брови ее были напряженно сведены, знакомая своенравная складка пролегла между ними. – Скажи мне еще что-нибудь, Митя…
– Я люблю тебя, – тихо, почти шепотом сказал Решетников.
Он ощутил прикосновение ее теплых губ на своей щеке. И в следующий момент она уже легко взбегала вверх по лестнице, как взбегала когда-то прежде, когда там, наверху, ее еще ждал отец, Василий Игнатьевич Левандовский…







